–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤—Б–µ —В–µ–≥–Є
–†–£–Э–Ш–І–Х–°–Ъ–Ю–Х –Я–Ш–°–ђ–Ь–Ю
–Я–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–є —А—Г–љ–Є–Ї–Є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г –і–µ—И–Є—Д—А–Њ–≤–Ї–µ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –£–ґ–µ –У. –Ш. –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Є–є[1], –Ь. –Р. –Ъ–∞—Б—В—А–µ–љ –Є –У. –Т–∞–Љ–±–µ—А–Є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ –њ—А–Є–µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б–Ї–∞–ї —Б —А–Њ–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е —В–∞—В–∞—А. –Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –і–Њ–≥–∞–і–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ—Л –Э. –Р. –Р—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї, —З—В–Њ «—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ —Б –≥–ї—Г–±–Њ—З–∞–є—И–µ–є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є —А–Њ–і–Њ–≤—Л–µ —В–∞–Љ–≥–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ—Л –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –±—Г–Ї–≤ –≤ –Њ—А—Е–Њ–љ–Њ-–µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–µ»[2]. –У–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Г –Э. –Р. –Р—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї–Э.–У. –Ь–∞–ї–Є—Ж–Ї–Є–є[3].
–Я—А–Є –і–µ—И–Є—Д—А–Њ–≤–Ї–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Т. –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –±—Г–Ї–≤–∞–Љ «—Б–µ–Љ–Є—В—Б–Ї–Њ-–њ–µ—Е–ї–µ–≤–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞»[4]. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Њ–љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М 23 –Є–Ј 38 —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –Њ—В –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –±—Г–Ї–≤. –Р—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–є –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В, –њ–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–є –Є –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ї –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б—В—А–Њ—О —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є–ї—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є –љ–µ–∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П[5]. –Ґ–∞ –ґ–µ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Ю. –Ф–Њ–љ–љ–µ—А–Њ–Љ, –≤—Л–і–µ–ї–Є–≤—И–Є–Љ –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –Ј–≤–µ–љ–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞–Љ–Є —И—А–Є—Д—В –ї–µ–≥–µ–љ–і –∞—А—И–∞–Ї–Є–і—Б–Ї–Є—Е (–њ–∞—А—Д—П–љ—Б–Ї–Є—Е) –Љ–Њ–љ–µ—В II—III –≤–≤. –љ. —Н.[6]
–У–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Р—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ –Є –Ь–∞–ї–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В–∞ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–µ –Є –Њ—В–≤–µ—А–≥–љ—Г—В–∞ –Я. –Ь. –Ь–µ–ї–Є–Њ—А–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –Є –Ф. –Э. –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤—Л–Љ, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є–Љ–Є –≤—Л–≤–Њ–і—Л –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ–∞ –Є –Ф–Њ–љ–љ–µ—А–∞. –Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —З—В–Њ —В–∞–Љ–≥–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞–Љ–Є –і–ї—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤, –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ—Л –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –≤ –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–µ. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б–∞–Љ–Є –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –±—Г–Ї–≤—Л –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Г—О –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Є–є –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л—Е –і–ї—П —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–є –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ —Д–Њ—А–Љ —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е —В–∞–Љ–≥[7].
–У–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ–∞-–Ф–Њ–љ–љ–µ—А–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –њ–Њ –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤, –љ–Њ –Є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —В—О—А–Ї–∞–Љ–Є —Б–∞–Љ–Њ–є –Є–і–µ–Є —Д–Њ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –Є–і–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Б–Є–ї–ї–∞–±–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ. –Х—Б–ї–Є –Њ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є —Б–Є–ї–ї–∞–±–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Ї–Њ–љ—Б–Њ–љ–∞–љ—В–љ—Л–є –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є —А—Г–љ–Є–Ї–Є, —В–Њ –Є–і–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –ї–Є—И—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Х. –Ф. –Я–Њ–ї–Є–≤–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ[8]. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–ї–∞–±–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л «–∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞» –±—Л–ї–∞ –µ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-—Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М. –†–∞–Ј—А—Л–≤ –≤ —З–µ—В—Л—А–µ- –њ—П—В—М —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ–Є –∞—А—И–∞–Ї–Є–і—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–Њ–љ–µ—В–∞–Љ–Є –Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, —Г—Б—Г–≥—Г–±–ї–µ–љ–љ—Л–є —А–∞–Ј—А—Л–≤–Њ–Љ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є horrorvacui, –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–Є–≤—И–Є–є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Х. –С–ї–Њ—И–µ. –Т –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е —А–∞–±–Њ—В —Н—В–Њ—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ —А—Г–љ–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–∞ —В—О—А–Ї–∞–Љ–Є —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ –ґ—Г–ґ–∞–љ —Г –≥—Г–љ–љ–Њ–≤, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –њ–µ—А–µ–љ—П–≤—И–Є—Е –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–µ–≤–µ—А–Њ—Б–µ–Љ–Є—В—Б–Ї–Є—Е (–∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Є—Е) –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–Њ–≤[9]. –†–µ–∞–ї—М–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–Њ–љ —Г–і–∞—З–љ–Њ–є –њ–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л –љ–∞—З–∞–ї –њ—А–Њ—П—Б–љ—П—В—М—Б—П –ї–Є—И—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –љ–Њ–≤—Л–Љ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П–Љ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є.
–Т 1906 –≥. –Р. –°—В–µ–є–љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї –љ–∞ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Њ–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ–љ—Л, –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –±–ї–Є–Ј –Ф—Г–љ—М—Е—Г–∞–љ–∞, –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ —Б–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –С–Њ–ї–µ–µ —Б–µ–Љ–Є—Б–Њ—В –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –љ–∞ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ — –љ–∞ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, –њ–Є—Б—М–Љ–Њ–Љ, –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є. –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є –і–∞—В—Л —Б–∞–Љ—Л—Е –њ–Њ–Ј–і–љ–Є—Е –Є–Ј –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –±–∞—И–љ–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –Є–Ј—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –≠. –®–∞–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –і–∞–≤–∞–ї–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –≤–µ—Б—М –∞—А—Е–Є–≤ –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ II –≤. –љ. —Н.[10]
–Т 1911 –≥. –†. –У–Њ—В—М–Њ –Є –Р. –Ъ–Њ—Г–ї–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–µ —Б –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ–Є, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –љ–∞ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ–Љ — –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–µ–є –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞". –°–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ —Б–Њ–±–Њ–є —З–∞—Б—В–љ—Г—О –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї—Г, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Ї–∞–Ї «—Б—В–∞—А—Л–µ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞». –°—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –∞—В—А–Є–±—Г—Ж–Є–Є —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –У–Њ—В—М–Њ, –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П —Б –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ–Њ–Љ, –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Љ–Њ–і–µ–ї—М—О –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞[11]. –Т 1922 –≥. –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї —Н—В–Њ—В –≤—Л–≤–Њ–і, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–≤, —З—В–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–Љ –Є —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ–Љ «—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В —П—Б–љ—Л–µ –Є –љ–µ–Њ—Б–њ–Њ—А–Є–Љ—Л–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є—П»[12]. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –і–ї—П –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –љ–µ–Њ–±—К—П—Б–љ–Є–Љ—Л–Љ —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–∞–Ј—А—Л–≤ –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ–±–µ–Є–Љ–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞–Љ–Є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ф–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –њ–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ –∞—А—Е–∞–Є—З–љ—Л—Е –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Є —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Є—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є VI—VII –≤–≤. –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞–ї–∞ –љ–Њ–≤—Л–µ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л, –љ–Њ –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–∞ –Њ—В–≤–µ—В–∞ –љ–∞ —Б—В–∞—А—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л1,1.
–Т 1948-1959 –≥–≥. –§. –Р–ї—М—В—Е–µ–є–Љ, –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П—Е –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є —А–∞–љ–љ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≥—Г–љ–љ–Њ–≤, –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –≤–Њ–Ј—А–Њ–і–Є–ї –Є–і–µ–Є –С–ї–Њ—И–µ[13]. –Э–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤ –Р–ї—М—В- —Е–µ–є–Љ–∞ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–∞ –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ —А–∞–љ—М—И–µ[14]. –Ю –і—А—Г–≥–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Ї —В—О—А–Ї–∞–Љ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –Є –њ–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –µ–≥–Њ –≤ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –°. –Т. –Ъ–Є—Б–µ–ї–µ–≤: «–Х—Б–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—О –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–∞—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —В–∞–ї–∞—Б–Њ-–µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—В–µ—А, –њ—А–Њ–љ–Є–Ї—И–∞—П –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї —З–µ—А–µ–Ј –°—А–µ–і–љ—О—О –Р–Ј–Є—О, —З–µ—А–µ–Ј —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Є —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, —В–Њ –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М–µ, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ —Б –•–Њ—А–µ–Ј–Љ–Њ–Љ, –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б–Њ–≥–і–Є–є—Ж–∞–Љ–Є –Є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ VI-VII –≤–≤. –Ј–∞–љ—П—В–Њ–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–Љ–Є —В—Г–њ–Њ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Є–≤—И–µ–є –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–є –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В –Ї —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є —А–µ—З–Є»[15].
–Ф–∞–ї–µ–µ –°. –Т. –Ъ–Є—Б–µ–ї–µ–≤ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В, —З—В–Њ –Є–Ј –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ –Ї –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є —П–≥–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ; –Њ—В —П–≥–Љ–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Ї–∞—А- –ї—Г–Ї–Є, –∞ –Њ—В –љ–Є—Е — –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Ї—Л—А–≥—Л–Ј—Л. –Ю—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ —В—О—А–Ї–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П–ї–Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —В—О—А–Ї–Њ–≤, –љ–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л VI-VII –≤–≤. –љ–∞ –Ю—А—Е–Њ–љ–µ –µ—Й–µ –љ–µ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ—Л.
–Х—Б–ї–Є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Ъ–Є—Б–µ–ї–µ–≤–∞ –Њ —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є —А—Г–љ–Є–Ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–є, —В–Њ –љ–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –Є–Љ –њ—Г—В—М –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –љ–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–∞–Љ–Є. –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–љ—Л —П–≥–Љ–∞ –Є –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ—Л –Ї VI—VIII –≤–≤. –Ю–љ–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Њ–±–ї–Є–Ї—Г –Ї–∞–Ї –Њ—В —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Є—Е, —В–∞–Ї –Є –Њ—В –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –Є —В–≤–µ—А–і–Њ –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –љ–µ —А–∞–љ–µ–µ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л IX –≤., —В. –µ. –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ —Г–є–≥—Г—А, —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–≤—И–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞.
–Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —А—Г–љ–Є–Ї–Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Р. –Ь. –©–µ—А–±–∞–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Н—В–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, «–њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –≥–і–µ-—В–Њ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Ґ–∞–ї–∞—Б–∞ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–ї–Є –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї–Њ—Б—М –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤ –і–≤—Г—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е: –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї (–Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Њ–µ, –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–Є–і—Л –њ–Є—Б—М–Љ–∞) –Є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і (–њ–µ—З–µ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Є–µ —А—Г–љ—Л)»[16].
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–∞ –Є–і–µ—П –±—Г–Ї–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Є –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж, –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–є –Љ–Њ–і–µ–ї—М—О –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞, –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ—Л —В—О—А–Ї–∞–Љ–Є —Г —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є — –Є—А–∞–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є, –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞–Љ–Є –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–є –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В, —В–Њ—З–љ–µ–µ —В–∞ —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л «—Б—В–∞—А—Л–µ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞» –Є–Ј –Ф—Г–љ—М—Е—Г–∞–љ–∞.
–Т –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є—П –Ї —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–Љ—Г —П–Ј—Л–Ї—Г —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–є –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П: –∞) –Ї—Г—А—Б–Є–≤–љ–Њ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ; –±) –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ —Д–Њ—А–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е —Г —В—О—А–Ї–Њ–≤ —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ (—В–∞–Љ–≥) –Є –Є–і–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ–і –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Д–∞–Ї—В—Г—А—Л (–Ї–∞–Љ–µ–љ—М, –і–µ—А–µ–≤–Њ, –Љ–µ—В–∞–ї–ї) –њ–ї–∞–≤–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї—А—Г–≥–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є—Е –±—Г–Ї–≤ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ—Л –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П–Љ–Є; –≤) –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Д–Њ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л, –љ–µ –≤—Б–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –±—Л–ї–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П—В—Л, –∞ —Д–Њ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ї–∞ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–µ—В —Б —Д–Њ–љ–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ї–Њ–є —Б—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є—Е –±—Г–Ї–≤; –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В –±—Л–ї –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–µ–љ –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –≤ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є, —З–∞—Б—В—М—О –Є–і–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —З–∞—Б—В—М—О –±—Г–Ї–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞.
–Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –Љ–µ—Б—В–µ –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є –µ–≥–Њ –њ–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–µ—А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ—Л–Љ. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ, —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї –њ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Љ–µ—А–µ —В—А–Є —Н—В–∞–њ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В —В—А–Є —Г—Б—В–∞–≤–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–∞: –∞) –∞—А—Е–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П (VI-VII –≤–≤.) –Є –Х–љ–Є—Б–µ—П (VI-X –≤–≤.); –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Г—Б—В–∞–≤–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –≤ –Ю–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є; –±) –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ (–њ–µ—А–≤–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ VIII –≤.); –≤) –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е —Н–њ–Њ—Е–Є –£–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ (–≤—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ VIII—IX –≤.) –Є –≤ «—А—Г–љ–∞—Е –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ» –Є–Ј –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ–∞ (IX –≤.)[17]. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–µ–Љ–Є–љ–Є—Б—Ж–µ–љ—Ж–Є–Є –∞—А—Е–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М –≤ –°—Г–і–ґ–Є–љ- —Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є (—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–∞ IX –≤.), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–∞.
–Ъ–∞–Ї —Г–ґ–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Є–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ—Л –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А–∞–љ–µ–µ VII –≤., –∞ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П IX-X –≤–≤.[18] –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –∞—А—Е–∞–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П —А–∞–љ–љ–µ–є –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –Ї–∞–Ї —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –љ–Є–ґ–љ–µ–є –і–∞—В–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ, –∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Њ —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ — –љ–µ–њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є[19]. –Ю—Б–Њ–±–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—А–µ–і–Є —Б—А–µ–і–љ–µ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–Љ –њ–µ—А—Б—В–љ–µ –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П –≤ «–Љ—Г–≥-—Е–Њ–љ–∞» (–°–µ–≤–µ—А–љ–∞—П –§–µ—А–≥–∞–љ–∞). –Я–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П –≤ «–Љ—Г–≥-—Е–Њ–љ–∞» (–Є–ї–Є «–Ї—Г—А—Г–Љ–∞—Е») –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ (II –≤. –і–Њ –љ. —Н. — VIII –≤. –љ. —Н.)[20]. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–µ–Љ–љ—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Є–µ —А—Г–љ–Є–Ї–Є (–њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ґ–∞–ї–∞—Б–∞) –љ—Л–љ–µ –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л 716-739 –≥–≥.[21]
–°–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Г —В—О—А–Ї–Њ–≤ –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л. –Я–µ—А–≤–Њ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ь–µ–љ–∞–љ–і—А—Г –Я—А–Њ—В–µ–Ї—В–Њ—А—Г, «–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П» –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–∞ –≤ 583-584 –≥–≥.; —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Њ –њ—А–Є–µ–Љ–µ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б —Б–Њ–≥–і–Є–є—Ж–µ–Љ –Ь–∞–љ–љ–∞—Е–Њ–Љ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Ѓ—Б—В–Є–љ–Њ–Љ II (568), –Ь–µ–љ–∞–љ–і—А —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–µ –Њ—В –Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ «—Б–Ї–Є—Д—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є» το γρμματώ Σκνθικόν[22]. –Э–µ–ї—М–Ј—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М –±–µ–Ј–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ—З–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Є «—Б–Ї–Є—Д—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞» — —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є; —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –њ–Њ-—Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є. –Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ —В—А–µ—В—М–µ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –њ–Є—Б—М–Љ–∞ —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Я–Њ–ї—Г–ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –∞—А–∞–±–Њ-–њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–µ–є, –Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ-–Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–Є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –•–Њ—Б—А–Њ–≤—Г –Р–љ—Г—И–Є—А- –≤–∞–љ—Г (531-579)[23] –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–∞–µ—В—Б—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ—В—А–Є—Ж–∞—О—Й–Є—Е —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ —В—О—А–Ї–∞–Љ–Є –Є–µ—А–Њ–≥–ї–љ—Д–Є–Ї–Є[24].
–С–Њ–ї–µ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ «–І–ґ–Њ—Г —И—Г»: «–Я–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞ —В—О—А–Ї–Њ–≤ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞ –љ–∞—А–Њ–і–∞ —Е—Г (—Б–Њ–≥–і–Є–є—Ж–µ–≤)»[25]. –Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В, —З—В–Њ —Г–ґ–µ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ VI –≤. —В—О—А–Ї–Є –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, —Б–≤—П–Ј—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ–≥–і–Є–є—Ж–µ–≤ –±—А–Њ—Б–∞–ї–∞—Б—М –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞. –С—Л–ї–∞ –ї–Є —Н—В–Њ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є–ї–Є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ «—Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–µ» –Ї—Г—А—Б–Є–≤–љ–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ?
–£–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ –і–Њ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–Є–≤–∞, —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –ї–Є—И—М –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ VII—VIII –≤–≤.[26] –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –±—Л –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ «–І–ґ–Њ—Г —И—Г» —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –≤ –µ–≥–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–µ–Љ –Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–Љ –Ї —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В—Г –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ. –С–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М —А—Г–љ–Є–Ї–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Є—Б—М–Љ—Г —Г–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–∞ –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ24. –Э–µ–ї—М–Ј—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —З—В–Њ –≤ «–І–ґ–Њ—Г —И—Г».
–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –Ї —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–Љ—Г —П–Ј—Л–Ї—Г –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–љ–Њ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є –∞—И–Є–љ–∞ (—В—Г—А–Ї) –≤ –У–∞–Њ—З–∞–љ–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ–∞–Ј–Є—Б–∞—Е –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ–∞, –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–≥–і–Є–є—Ж–∞–Љ–Є (V –≤.). –Ъ–∞–Ї —В–µ–њ–µ—А—М —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Є–Ј –Ф—Г–љ—М—Е—Г–∞–љ–∞ –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П –љ–µ II –≤. –љ. —Н,, –∞ IV–Љ; —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–Љ—Г—Й–∞–≤—И–Є–є –Т. –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ–∞ —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–∞–Ј—А—Л–≤ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В–∞—А—Л–Љ–Є —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–Љ–Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є—Б—З–µ–Ј–∞–µ—В. –Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –љ–∞—И–µ–ї –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П —В—О—А–Ї–∞–Љ–Є –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–µ–є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–∞—П –Ј–і–µ—Б—М –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –Љ–µ—Б—В–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —А–∞–љ–љ—П—П –і–∞—В–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ –±—Г–і–µ—В –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є. –Э—Л–љ–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є —А—Г–љ–Є–Ї–Є –Є –µ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –Р. –Ь. –©–µ—А–±–∞–Ї–Њ–Љ (–Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–∞—П —А—Г–љ–Є–Ї–∞. –Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–µ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В—О—А–Њ–Ї, –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –°–Я–±., 2001).
Terminus ad quem —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М —Б–њ–Њ—А–µ–љ, –Ї–∞–Ї terminusaquo. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л –Є–Ј –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є –Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ
–Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ–∞ –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–Њ–є IX –≤. –Х—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —В–∞–Љ –Є –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ X –≤. –Т —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–µ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –Ы—П–Њ («–Ы—П–Њ—И–Є») —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Ї–Є–і–∞–љ—М—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –Р–±–∞–Њ—Ж–Ј–Є (–Ґ–∞–є—Ж–Ј—Г) –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П –і—А–µ–≤–љ–µ–є —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –љ–∞ –Ю—А—Е–Њ–љ–µ –ї–µ—В–Њ–Љ 924 –≥. –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–Њ—Б–Ї–Њ–±–ї–Є—В—М –љ–∞–і–њ–Є—Б—М —Б –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–µ–ї—Л –≤ —З–µ—Б—В—М —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –Є –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –µ–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—П–љ–Є—П—Е, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–Њ–є «–Ї–Є–і–∞–љ—М—Б–Ї–Є–Љ–Є, —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–Љ–Є (—В—Г—Ж–Ј—О—Н) –Є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є»[27]. «–Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є» –Ј–і–µ—Б—М –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ —А—Г–љ—Л, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Є–є –Ї—Г—А—Б–Є–≤ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ «–њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є —Е–Њ–є- —Е—Г» («—Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞»),
–Ш. –Ь–∞—А–Ї–≤–∞—А—В, —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ –≤ X –≤. —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –Љ–∞–ї–Њ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ[28]. –Ю—В–Љ–µ—В–Є–Љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —З—В–Њ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л X –≤. —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞ — –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є — —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –≤ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є—Б—М –Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—О «–Ы—П–Њ—И–Є» —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ–Љ. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Њ –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ X –≤. –љ–µ—В. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ—Б—В—М –≤—Б–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г X –≤. –Њ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Л—В–µ—Б–љ–µ–љ–Њ —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Є–Љ –Ї—Г—А—Б–Є–≤–Њ–Љ[29]. –Ы–Є—И—М –љ–∞ –Х–љ–Є—Б–µ–µ, –Ї—Г–і–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–ї–Њ —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —А—Г–љ–Є–Ї–∞ –µ—Й–µ –±—Л–ї–∞ –≤ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–Є –Є –≤ XII –≤.[30] –Ю–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –≤ 1956 –≥. –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–∞—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –І–Є–љ- –≥–Є—Б-—Е–∞–љ–∞[31] —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ–ї–Ї–Њ–є –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –њ—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є[32]. –°–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В–Њ—З–љ–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –≤ X-XI –≤–≤. —Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В—О—А–Ї–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л, –Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Љ–Њ–і–µ–ї—М—О –і—А–µ–≤–љ–µ–≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ (—В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ «–і—А–µ–≤–љ–µ–≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Є–µ —А–µ–Ј—Л»), –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –љ–∞–є–і–µ–љ –≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї–µ –Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ –Ї–∞–Ї litterae incognitae –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –У. –Ф–µ—А–љ—И–≤–∞–Љ–Њ–Љ (1494-1569)[33].
–Я–Р–Ь–ѓ–Ґ–Э–Ш–Ъ–Ш –Ф–†–Х–Т–Э–Х–Ґ–Ѓ–†–Ъ–°–Ъ–Ю–Щ –†–£–Э–Ш–І–Х–°–Ъ–Ю–Щ –Я–Ш–°–ђ–Ь–Х–Э–Э–Ю–°–Ґ–Ш –Ш –Ш–• –Ъ–Ы–Р–°–°–Ш–§–Ш–Ъ–Р–¶–Ш–ѓ
–Т.–Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –њ–µ—А–≤–∞—П –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–ї –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ –≤—Б–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —И—А–Є—Д—В–Њ–Љ. –≠—В—Г –≥—А—Г–њ–њ—Г –Њ–љ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї –Ї–∞–Ї «—Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В» –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –Є–ї–Є «—П–Ј—Л–Ї —В—О—А–Ї–Њ–≤-—Б–Є—А–Њ–≤», –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В «—О–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–∞» — «—Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞». –Ґ—А–µ—В—М–Є–Љ –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Њ–Љ –Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤ —Б—З–Є—В–∞–ї —П–Ј—Л–Ї –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Г–і–і–Є–є—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞—И–ї–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є —О–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Њ–≤ — «—Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ—Л–є –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В»[34].
–Ґ–µ–Ј–Є—Б –Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤–∞ –Њ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ–Љ, –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П—В –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є. «–Ю–±—Й–Є–Љ, —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ—Л–Љ, —Н–њ–Є—В–∞—Д–Є–є–љ–Њ-—А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ» —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —П–Ј—Л–Ї –і—А–µ–≤–љ–µ–є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –°. –Х. –Ь–∞–ї–Њ–≤[35]. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Ш. –Р. –С–∞—В–Љ–∞–љ–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ —П–Ј—Л–Ї –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Є –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ «–љ–Њ—Б–Є–ї –Љ–µ–ґ–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А»[36].
–†–µ—З—М –Є–і–µ—В, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ –µ–і–Є–љ–Њ–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤ VI1-X –≤–≤. –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є, –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є –Є –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П (–Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞) –Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–∞. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –ї–µ–ґ–∞–ї –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В –∞—И–Є–љ–∞ (—В—Г—А–Ї), –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —П–Ј—Л–Ї –Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–є–љ—Н –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–∞–і–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е —В—О—А–Ї–Њ–≤.
–Т –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М –µ–і–Є–љ—Л, –Ї–∞–Ї –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —П–Ј—Л–Ї–∞ –Є —И—А–Є—Д—В–∞. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П —А—Г–љ–Є–Ї–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –Є—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є (—Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є) –Є –ґ–∞–љ—А–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є.
–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П (–Њ—В –Ю—А—Е–Њ–љ–∞ –і–Њ –Ф—Г–љ–∞—П, –Њ—В –ѓ–Ї—Г—В–Є–Є –і–Њ –У–Њ–±–Є), –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –≥—А—Г–њ–њ–Є—А—Г—О—В—Б—П –≤ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е — –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ—В—А–∞—Е –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є; –њ–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї—Г –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ—Л —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б–µ–Љ—М –≥—А—Г–њ–њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤:
1. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є, —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–∞—Е —А–µ–Ї –Ю—А—Е–Њ–љ–∞, –Ґ–Њ–ї—Л –Є –°–µ–ї–µ–љ–≥–Є. –Ъ —Н—В–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–µ –Є–Ј –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤ — –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –≤ —З–µ—Б—В—М –С–Є–ї—М- –≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –Є –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞ (–Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–ї—Л), –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї—Г, –Ю–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞, –°–µ–ї–µ–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М, –Ъ–∞—А–∞–±–∞–ї–≥–∞—Б—Г–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –°—Г–і–ґ–Є–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ 10 –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –•–Њ–є—В–Њ-–Ґ–∞–Љ–Є—А–∞, –і–≤–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Ш—Е–µ –Р—Б—Е–µ—В, –Ъ–µ–љ—В–µ–є—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б –•–∞–љ–≥–∞—П –Є –Є–Ј –У–Њ–±–Є. –Ю–±—Л—З–љ–Њ —Н—В—Г –≥—А—Г–њ–њ—Г –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В «–Њ—А—Е–Њ–љ- —Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є». –Э—Л–љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Њ –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ.
2. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –і–Њ–ї–Є–љ—Л –Х–љ–Є—Б–µ—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є—В—М –љ–∞ –і–≤–µ –њ–Њ–і–≥—А—Г–њ–њ—Л — —В—Г–≤–Є–љ—Б–Ї—Г—О –њ –Љ–Є–љ—Г—Б–Є–љ—Б–Ї—Г—О, — –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 150 –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ–∞ –љ–∞–Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–љ—П—Е, —Б–Ї–∞–ї–∞—Е, –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е –Є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е —Б–Њ—Б—Г–і–∞—Е, –Љ–Њ–љ–µ—В–∞—Е.
3. –Ы–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Я—А–Є–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В 37 –Ї—А–∞—В–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–∞—Е, —З—В–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ї—А–∞–є–љ–µ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ–∞ –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е –±—Л—В–Њ–≤—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞—Е (–њ—А—П—Б–ї–Є—Ж–∞, –∞–ї—М—З–Є–Ї–Є). –І–Є—Б–ї–Њ –љ–∞—Б–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є —Б—З–Є—В–∞—В—М –Ј–∞ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ —А—Г–љ–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є, –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –њ—Г–љ–Ї—В–∞—Е –Я—А–Є–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—П –Є –≤–µ—А—Е–љ–µ–≥–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—П —А. –Ы–µ–љ—Л.
4. –Р–ї—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л, –Є—Е –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–∞—Е –Є —Б—В–µ–ї–∞—Е –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ–∞ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е —Б–Њ—Б—Г–і–∞—Е, –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П—Е.
5. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ–∞ –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В —З–µ—В—Л—А–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ –і—А–µ–≤–љ–µ–є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –≤ –Ґ—Г—А—Д–∞–љ–µ –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤ –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ –Є–Ј –Ь–Є—А–∞–љ–∞ –Є –Ф—Г–љ—М—Е—Г–∞–љ–∞.
6. –°—А–µ–і–љ–µ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ –і–≤–µ –њ–Њ–і–≥—А—Г–њ–њ—Л: —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–њ—Б–Ї—Г—О, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –љ–∞–Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–љ—П—Е (14 –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –Є–Ј –і–Њ–ї–Є–љ—Л –Ґ–∞–ї–∞—Б–∞), –Љ–Њ–љ–µ—В–∞—Е, –±—Л—В–Њ–≤—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞—Е –Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є –њ–∞–ї–Њ—З–Ї–µ, –Є —Д–µ—А–≥–∞–љ—Б–Ї—Г—О, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й—Г—О –Є–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Ї—А–∞—В–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ–∞ –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–µ –Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–µ. –Ю—Б–Њ–±–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —А—П–і—Г —Б—А–µ–і–љ–µ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –љ–∞ –Ї–Њ–ґ–µ –Є–Ј –∞—А—Е–Є–≤–∞ –≥. –Ь—Г–≥. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Є–Љ–µ—О—Й—Г—О—Б—П –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г –µ–≥–Њ —З—В–µ–љ–Є—П, —В—О—А–Ї—Б–Ї–∞—П —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–∞—П –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П[37].
7. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л —В–∞—О–Ї–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є—В—М –љ–∞ –і–≤–µ –њ–Њ–і–≥—А—Г–њ–њ—Л: –і–Њ–љ–µ—Ж–Ї—Г—О, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –і–≤—Г—Е –±–∞–Ї–ї–∞–ґ–Ї–∞—Е –Є–Ј –Э–Њ–≤–Њ—З–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–∞, –Ј–љ–∞–Ї–Є –Ь–∞—П—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–Є—Й–∞, –Ј–љ–∞–Ї–Є –љ–∞ –Ї–Є—А–њ–Є—З–∞—Е –Є–Ј –°–∞—А–Ї–µ- –ї–∞, –Є –і—Г–љ–∞–є—Б–Ї—Г—О, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Є–∞ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е —Б–Њ—Б—Г–і–∞—Е –Є–Ј –Э–∞–і—М-–°–µ–љ-–Ь–Є–Ї–њ–Њ—И –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–µ. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ—Л –Р. –Ь. –©–µ—А–±–∞–Ї–Њ–Љ —А—Г–љ–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є, –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–µ –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ; —Б–≤–Њ–і —Н—В–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ—Л–љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –≤ —А—П–і–µ —А–∞–±–Њ—В –Ш. JL –Ъ—Л–Ј–ї–∞—Б–Њ–≤–∞[38].
–Х—Б–ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Б —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї–Њ–є –≠. –Т. –®–∞–≤–Ї—Г–љ–Њ–≤–∞, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞ –≥–∞–ї—М–Ї–µ (11 –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤), –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Г—О –±–ї–Є–Ј –≥. –£—Б—Б—Г—А–Є–є—Б–Ї–∞, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –±—Л –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –љ–Њ–≤—Г—О –і–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є—О —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є[39]. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —З—В–µ–љ–Є—П –£—Б—Б—Г—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Ї–∞–Ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є.
–†–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П (—Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П) –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П:
1. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є (–Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л) –Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Р–ї—В–∞—П, –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л –Ї–∞–Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Є–ї–Є, —В–Њ—З–љ–µ–µ, –Ї–∞–Ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞. –Т—Б–µ –і–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї VIII –≤., –љ–Њ –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–∞–ї—Л–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ—Л –Ї VII –≤.
2. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ъ—Л—А–≥—Л–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞–і–њ–Є—Б—П–Љ–Є –і–Њ–ї–Є–љ—Л –Х–љ–Є—Б–µ—П –Є –°—Г–і–ґ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ–ї–Њ–є. –Я–Њ –Ы. –†. –Ъ—Л–Ј–ї–∞—Б–Њ–≤—Г, –Њ–љ–Є –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П VII-XII –≤–≤.
3. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞ –Ї—Г—А—Л–Ї–∞–љ (VIII-X –≤–≤.) –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В –Ы–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Я—А–Є–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є.
4. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В –Ї–∞–Ї —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–љ- —Б–Ї–Є–µ, —В–∞–Ї –Є —Д–µ—А–≥–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є. –Ф–∞—В–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Н—В–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —З–µ—В–Ї–Њ — 716-739 –≥–≥.[40]
5. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –£–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ –≤ –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В –°–µ–ї–µ–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –Є –Ъ–∞—А–∞–±–∞–ї–≥–∞—Б—Г–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VIII — –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ IX –≤.
6. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –£–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ–µ, –і–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ IX-X –≤–≤., –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В –Ї–∞–Ї —В–µ–Ї—Б—В—Л –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ, —В–∞–Ї –Є —З–µ—В—Л—А–µ –љ–∞—Б—В–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Є–Ј –Ґ—Г—А—Д–∞–љ–∞.
7. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є —Е–∞–Ј–∞—А–Њ-–±—Г–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–є —А—Г–љ–Є–Ї–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ—Л –љ–∞ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є. –Ъ –љ–Є–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П —А—Г–љ–Є–Ї–∞, –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–∞—П –њ–∞–ї–Њ—З–Ї–∞ –Є–Ј –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П –Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Б–µ–≤–µ—А–Њ–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–µ —А—Г–љ–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є.
–Ц–∞–љ—А–Њ–≤–∞—П –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–∞ –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —И–µ—Б—В–Є –≥—А—Г–њ–њ –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є:
1. –Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л — –Ї–∞–Ї –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ, —В–∞–Ї –Є –њ—А–Є–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ—Б—Е–≤–∞–ї–µ–љ–Є—П –і–µ—П–љ–Є–є –≤–Є–і–љ–µ–є—И–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є, —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–є –Є –Ї—Л—А–≥—Л–Ј—Б–Ї–Њ–є –Ј–љ–∞—В–Є, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Є–ї–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –Є–Љ –ї–Є—Ж, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є—Е –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–Љ–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є–ї–Є –Є–Љ–Є —Б–∞–Љ–Є–Љ–Є.
–Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–ї—Л, –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞, –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞, –Ю–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –Ґ–µ—А- —Е–Є–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –Ґ—Н—Б–Є–љ—Б–Ї–∞—П —Б—В–µ–ї–∞, –°–µ–ї–µ–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –Ъ–∞—А–∞–±–∞–ї–≥–∞—Б—Г–љ—Б–Ї–Є–є –Є –°—Г–і–ґ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є, –°—Н–≤—А—Н–є—Б–Ї–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї, —Б–Њ—З–µ—В–∞—О—В –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –±—Л–ї –њ—А–Є—З–∞—Б—В–µ–љ –≥–µ—А–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Є–ї–Є –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Ї–Є, —Б –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤ –∞–≤—В–Њ—А–∞ —В–µ–Ї—Б—В–∞, —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—П–Љ–Є, –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ–Њ–µ –Є –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ.
2. –≠–њ–Є—В–∞—Д–Є–є–љ–∞—П –ї–Є—А–Є–Ї–∞ — –љ–∞–Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ—Л–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Х–љ–Є—Б–µ—П –Є –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П, –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –°. –Х. –Ь–∞–ї–Њ–≤—Л–Љ –Ї–∞–Ї «–Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ—Н–Ј–Є—П» –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є. –≠—В–Є, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –љ–µ–і–ї–Є–љ–љ—Л–µ, –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В—Г –Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –Є —В–Є—В—Г–ї–Њ–≤ –≥–µ—А–Њ—П, –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є (–±–µ–Ј –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Н—В–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П) –Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –±–ї–∞–≥, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є «–љ–µ –љ–∞—Б–ї–∞–і–Є–ї—Б—П» –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є.
3. –Я–∞–Љ—П—В–љ—Л–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–∞—Е, –Ї–∞–Љ–љ—П—Е –Є —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П—Е, –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—Й–Є—Е –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–ї–Є–±–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–∞ (–љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –•–Њ–є—В–Њ-–Ґ–∞–Љ–Є—А–∞, –І–∞—А—Л—И- —Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –Ъ–µ–љ—В–µ–є—Б–Ї–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї, –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞ –Љ–∞–≤–Ј–Њ–ї–µ–µ –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є). –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В –ї–Є—И—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –Є–ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—Й–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –љ–µ–Љ—Г –∞–≤—В–Њ—А–∞ (–љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –°—Г–ї–µ–Ї—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б–∞–љ–Є—Ж–µ).
4. –Ь–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ—Б–Ї–Є–µ «—А—Г–љ—Л –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ» — «–Ъ–љ–Є–≥–∞ –≥–∞–і–∞–љ–Є–є», —В—А–∞–Ї—В–∞—В –Њ –Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞—Е –Ї–∞–Љ–љ–µ–є, —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Л —В—А–∞–Ї—В–∞—В–∞ –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П.
5. –Ѓ—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ –Є–Ј –Ь–Є—А–∞–љ–∞ –Є –Ґ—Г—А—Д–∞–љ–∞.
6. –Ь–µ—В–Ї–Є –љ–∞ –±—Л—В–Њ–≤—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞—Е — –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ—Б—Г–і–∞—Е –Є –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–∞—Е, –љ–∞ –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–µ, –љ–∞ –Љ–Њ–љ–µ—В–∞—Е. –Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Љ–µ—В–Ї–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Є–Љ—П –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞ –Є–ї–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –Є–ї–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ (—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ—Б—Г–і–∞ –Є–ї–Є –Ї—Г—А—Б–Њ–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–µ—В—Л).
–≠—В–Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —П—Б–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б—О–ґ–µ—В–љ—Г—О –љ–µ–Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ—Б—В—М –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Х—Б–ї–Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –µ–і–Є–љ—Б—В–≤—Г —П–Ј—Л–Ї–∞ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В —Г–љ–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Ї –Є—Е –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О, —В–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є—И—М –њ—А–Є –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є —В–∞–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї –Њ–і–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ –Є –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б—О–ґ–µ—В–љ–Њ-–ґ–∞–љ—А–Њ–≤—Л–Љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –і–∞—О—В –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–є –і–ї—П –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї.
–Т –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Н—В–Є–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Њ—В–≤–µ—З–∞—О—В –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±–µ–Ј –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Є –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞, –Є –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –і–ї—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —В—О—А–Ї–Њ–≤ —В–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є.
–Ю–†–•–Ю–Э–°–Ъ–Ш–Х –Ґ–Х–Ъ–°–Ґ–Ђ — –°–Ґ–Ш–•–Ш –Ш–Ы–Ш –Я–†–Ю–Ч–Р
–Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –Њ–± –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П—Е –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤'’5 –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –Њ–±–Њ—Б–Њ–±–Є–ї—Б—П —Г–ґ–µ –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –Є—Е –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П. –Х—Б–ї–Є –Я. –Ь. –Ь–µ–ї–Є–Њ—А–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ї–∞–Ї –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д–Є–є–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Ј—Л[41], —В–Њ –§. –Х. –Ъ–Њ—А—И, —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є–є —В–µ–Њ—А–Є—О —Б–Є–ї–ї–∞–±–Њ-—В–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –≤ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є, –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї —А–Є—В–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—В—А—Л–≤–Ї–Є –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б—П—Е, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞, –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і—П —Б–Є–ї–ї–∞–±–Њ- —В–Њ–љ–Є–Ї—Г —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–∞ –Ї –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є[42].
–Ю —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї –Р. –Э. –С–µ—А–љ—И—В–∞–Љ, –∞ –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –љ–Є–Љ –Є –Ь. –Ш. –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤–∞[43]. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р. –Э. –С–µ—А–љ—И—В–∞–Љ –љ–µ –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–љ. –Ю—В–Љ–µ—З–∞—П —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В—А—Л–≤–Ї–Њ–≤, –Њ–љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В —Б—В–Є–ї—М –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –Ї–∞–Ї —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ—Л–є —Б—В–Є–ї—М –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П44. –Ь. –Ш. –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤–∞^ –∞ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ь. –Р—Г—Н–Ј–Њ–≤ –Є –Ь. –Р. –£–љ–≥–≤–Є—Ж–Ї–∞—П, –Ї–∞—Б–∞—П—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Є —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є –Є—Е –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є, —Б–±–ї–Є–ґ–∞—П —Б —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–љ—Л–Љ–Є –ґ–∞–љ—А–∞–Љ–Є –Ї–Є—А–≥–Є–Ј–Њ–≤, –Ї–∞–Ј–∞—Е–Њ–≤, —Е–∞–Ї–∞—Б–Њ–≤. «–Х–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Є —В–∞- –ї–∞—Б—Б–Ї–Є–µ –Ї–Є—А–≥–Є–Ј—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, — –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Ь. –Ш. –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤–∞, — –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –≤ –і—Г—Е–µ —Г—Б—В–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –њ—А–Є—З–µ—В–Њ–≤, –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–µ—Б–µ–љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–і –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–∞–љ–µ–≥–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ґ–∞–љ—А–Њ–≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞. –≠–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –ї–µ–ґ–∞—Й–Є–µ –≤ –Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П —Б—В–∞–±–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М —П–Ј—Л–Ї–∞ –Є —Б—В–Є–ї—П –і–∞—О—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Є—Е –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–Љ–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ї–Є—А–≥–Є–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞»[44].
–° –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ–Є –Ї –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞–і–њ–Є—Б—П–Љ –њ–Њ —В–µ–Љ–µ –Њ–±—А—П–і–Њ–≤–Њ-–±—Л—В–Њ–≤—Л–Љ–Є –ґ–∞–љ—А–∞–Љ–Є — –Ї–∞–Ј–∞—Е—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –Ї–Є—А–≥–Є–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ—И–Њ–Ї–∞–Љ–Є (–Њ–±—А—П–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ–ї–∞—З–∞–Љ–Є) –Є –Ї–µ—А–µ–Ј–∞–Љ–Є (–Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П–Љ–Є) — —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Н—В–Є —В–µ–Ї—Б—В—Л –Ь—Г—Е—В–∞—А –Р—Г—Н–Ј–Њ–≤: «–Э–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Є–ї–Є –≤ —Б—В–Є–ї–µ –Ї–µ—А–µ–Ј, –Њ—В –ї–Є—Ж–∞ —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ, –Є–ї–Є –≤ –≤–Є–і–µ –Ї–Њ—И–Њ- –Ї–∞, –Њ—В –ї–Є—Ж–∞ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ — –Њ—В—Ж–∞, –Љ–∞—В–µ—А–Є»[45].
–Ь. –Р. –£–љ–≥–≤–Є—Ж–Ї–∞—П, —Б–±–ї–Є–ґ–∞—П –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є–µ —Н–њ–Є—В–∞—Д–Є–Є —Б –ґ–∞–љ—А–∞–Љ–Є —Е–∞–Ї–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–∞, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є —Б –њ–ї–∞—З–∞–Љ–Є-–њ—А–Є—З–Є—В–∞–љ–Є—П–Љ–Є (—Б—Л—Л—В–∞–Љ–Є) –Є –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–µ—Б–љ—П–Љ–Є (—В–∞—Е–њ–∞–Ї–∞–Љ–Є), –і–µ–ї–∞–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≤—Л–≤–Њ–і—Л: «–≠–њ–Є—В–∞—Д–Є–Є, –±—Г–і—Г—З–Є –ґ–∞–љ—А–Њ–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є –њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –і—А–µ–≤–љ–µ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Е–∞–Ї–∞—Б–Њ–≤, –∞–ї—В–∞–є—Ж–µ–≤, —В—Г–≤–Є–љ—Ж–µ–≤, –Ї–Є—А–≥–Є–Ј–Њ–≤. –≠—В–Є —Н–њ–Є—В–∞—Д–Є–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –њ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є –њ–µ—А–µ—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –њ–µ—А–µ–Њ—Б–Љ—Л—Б–ї—П–ї–Є—Б—М –±–µ–Ј—Л–Љ—П–љ–љ—Л–Љ–Є –∞–≤—В–Њ—А–∞–Љ–Є. –Ю—В–ї–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —З–µ—А—В–Њ–є —Н–њ–Є—В–∞—Д–Є–є–љ–Њ–є –ї–Є—А–Є–Ї–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ–µ –і–Є–і–∞–Ї—В–Є–Ј–Љ. –≠—В–Є –≤—Л–≤–Њ–і—Л –Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –љ–∞–Љ –±–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ—Л–Љ–Є»[46]. –Ф–∞–ї–µ–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–є –Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е, –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—И–ї–∞ –Ш. –Т. –°—В–µ–±–ї–µ–≤–∞. –Ю–љ–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –≤—Б–µ —Н—В–Є —В–µ–Ї—Б—В—Л –Ї–∞–Ї –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є —А–µ—З–Є —Б —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є: —В–Њ–љ–Є–Ї–Њ-—В–µ–Љ–њ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б—В–Є—Е–Њ—Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –∞–ї–ї–Є—В–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є, –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ—Г–ї, —Н–Љ—Д–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є–µ–є, –Њ–±–Є–ї–Є–µ–Љ —А–Є—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–є, –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є—Ж–∞–љ–Є–є. –Ш. –Т. –°—В–µ–±–ї–µ–≤–∞ —Б–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б —Г—Б—В–љ—Л–Љ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Н–њ–Њ—Б–Њ–Љ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—П –Є—Е –Ї–∞–Ї «–Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Н–Љ—Л» (–∞ –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є–µ — –Ї–∞–Ї «—Н–њ–Є—В–∞—Д–Є–є–љ—Г—О –ї–Є—А–Є–Ї—Г»), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є «—Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л –≤ —А—Г—Б–ї–µ –µ–і–Є–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ-–њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –Є–ї–Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–µ–є –і—А—Г–ґ–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —Н–њ–Њ—Б–∞»[47].
–Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ, –≤ —Е–Њ–і–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–µ–є –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ї–Є, –Ш. –Т. –°—В–µ–±–ї–µ–≤–∞ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –≤ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е —Н–њ–Є—В–∞—Д–Є—П—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є —В–Њ–љ–Є–Ї–Њ-—В–µ–Љ–њ–Њ- —А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–Њ–≥–∞—Н–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–∞[48].
–Ш–і–µ—О –Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –Њ—А—Е–Њ–љ–Њ-–µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–µ –µ—Й–µ –Ґ. –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—Б–Ї–Є–є[49]. –Т–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Ї —Н—В–Њ–є –ґ–µ —В–µ–Љ–µ, –Њ—В—А–Є—Ж–∞–µ—В –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –≤ –Њ—А—Е–Њ–љ–Њ-–µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –Ґ. –У–∞–љ–і–ґ–µ–Є, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—П –Є—Е –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Ј—Г –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Є–ї—П —Б –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ —А–Є—В–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤[50]. –°—Е–Њ–і–љ—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –Ј–∞–љ—П–ї –Р. –Ь. –©–µ—А–±–∞–Ї[51]. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ—Г –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–±–Њ—А—Г –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –Т. –Ь. –Ц–Є—А–Љ—Г–љ—Б–Ї–Є–є. –Ъ–∞—Б–∞—П—Б—М –Њ–њ—Л—В–Њ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, –Т. –Ь. –Ц–Є—А–Љ—Г–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞–ї: «–†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ —Н—В–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –Ї–∞–Ї –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є —Н–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ —Г –љ–∞—Б –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є–і–µ–Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–Є—Б—В–Є–Ї–µ –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л»[52]. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Њ—А–∞ —Б—В–Є–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Т. –Ь. –Ц–Є—А–Љ—Г–љ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –і–∞–ї–µ–µ: «–Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Ш. –Т. –°—В–µ–±–ї–µ–≤–Њ–є, —П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О, —З—В–Њ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —В–µ–Ї—Б—В—Л –љ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–µ, –∞ –њ—А–Њ–Ј–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ. –ѓ –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є –Њ—Б–Њ–±—Л–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –ґ–∞–љ—А, –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–є, –∞ –љ–µ —Г—Б—В–љ—Л–є, –Є —З—В–Њ “–њ–µ–љ–Є–µ –Є —А–µ—З–Є—В–∞—В–Є–≤” –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –Ї –љ–Є–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П»[53]. –°—В–Њ–ї—М –ґ–µ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–µ—В –Т. –Ь. –Ц–Є—А–Љ—Г–љ—Б–Ї–Є–є –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–є –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є —Б –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ (–і—А—Г–ґ–Є–љ–љ—Л–Љ) —Н–њ–Њ—Б–Њ–Љ[54].
–Ш–°–Ґ–Ю–†–Ш–Ю–У–†–Р–§–Ш–І–Х–°–Ъ–Ю–Х –Ч–Э–Р–І–Х–Э–Ш–Х –Ю–†–•–Ю–Э–°–Ъ–Ш–• –Я–Р–Ь–ѓ–Ґ–Э–Ш–Ъ–Ю–Т
–Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –≤—Б–µ—Е –і—А—Г–≥–Є—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—П –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –і—А–µ–≤–љ–µ—Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Є–µ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В, –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—П –і—А—Г–≥ –Ф—А—Г–≥–∞, —Б–≤—П–Ј–љ–Њ–µ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ –Њ—В –µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Г–њ–∞–і–Ї–∞, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є —Н—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Я–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј —В–∞–Ї–Є—Е –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —Б–љ–Є–ґ–∞–µ—В, –љ–Њ, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–∞–µ—В —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ—Л—Е –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є–є –Є –і–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–µ—Е –Є–ї–Є –Є–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –ї—Г—З—И–µ —Г–≤–Є–і–µ—В—М —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Л –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—П –≤–љ—Г—В—А–Є –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞, —З–µ–Љ —Н—В–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–µ —Б –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ «–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–є» –≤ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –∞–љ–љ–∞–ї–∞—Е.
–Ш—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞—Б–њ–µ–Ї—В—Л –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –і–ї—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г—О—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –µ–≥–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б –Ъ–Є—В–∞–µ–Љ –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞–Љ–Є. –Ч–і–µ—Б—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≥–і–Њ—П–Ј—Л—З- –љ–Њ–є –С—Г–≥—Г—В—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ–ї—Л.
–Т –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –Ю—А—Е–Њ–љ–∞ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П, –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П —Б—А–µ–і–љ–µ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –љ–∞–Љ–µ—В–Є—В—М –њ—Г—В–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Н—В–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ. –Т —Н—В–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –і–ї—П —В–µ–Љ—Л –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ъ –љ–Є–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —Б–∞–Љ—Л–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є–Ј –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є — –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—О–ї—М- —В–µ–≥–Є–љ–∞, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤ —З–µ—Б—В—М –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞ –Є –≤ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Ю–Є–≥–Є–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї, –±—Г–і—Г—В –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –Є—Е –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П.
–С—Г–≥—Г—В—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М
–Т 1956 –≥. –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥ –¶. –Ф–Њ—А–ґ—Б—Г—А—Н–љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї –Ї —Б–µ–≤–µ—А–Њ- –Ј–∞–њ–∞–і—Г –Њ—В –С—Г–≥—Г—В–∞ (–Р—А–∞—Е–∞–љ–≥–∞–є—Б–Ї–Є–є –∞–є–Љ–∞–Ї) –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є[55]. –Э–∞ –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї—П–љ–Њ–є –љ–∞—Б—Л–њ–Є (35 —Е 16 X 0,5 –Љ) –±—Л–ї —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї—Г—А–≥–∞–љ (–і–Є–∞–Љ–µ—В—А 10 –Љ, –≤—Л—Б–Њ—В–∞ 7 –Љ), –Ї —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ—П–ї–∞ —Б—В–µ–ї–∞ –Є–Ј –±—Г—А–Њ–≥–Њ –њ–µ—Б—З–∞–љ–Є–Ї–∞, –∞ –і–∞–ї–µ–µ, –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –љ–∞—Б—Л–њ–Є, —В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–∞ –±–∞–ї–±–∞–ї–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –±–Њ–ї–µ–µ 270 –Ї–∞–Љ–љ–µ–є. –°—В–µ–ї–∞ –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —З–µ—А–µ–њ–∞—Е–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О. –Ю–±—Й–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ —Б—В–µ–ї—Л — 1,98 –Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ — 0,7 –Љ, —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ — 0,2 –Љ. –Т–µ—А—Е–љ—П—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ —Б—В–µ–ї—Л —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Њ–±–ї–Њ–Љ–∞–љ–∞. –Т—Б–µ —З–µ—В—Л—А–µ –≥—А–∞–љ–Є —Б—В–µ–ї—Л –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є. –Я—А–Є —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞—Е –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —И–µ—Б—В–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е —Б—В–Њ–ї–±–Њ–≤, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞–і —Б—В–µ–ї–Њ–є —З–µ—А–µ–њ–Є—З–љ—Г—О –Ї—А—Л—И—Г; —Б–µ—А–∞—П, —Б–ї–∞–±–Њ–≥–Њ –Њ–±–ґ–Є–≥–∞, —З–µ—А–µ–њ–Є—Ж–∞ –љ–∞–є–і–µ–љ–∞ —В—Г—В –ґ–µ. –†–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–Є –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Љ–∞–ї–Њ–њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –≤–≤–Є–і—Г –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –≥—А–∞–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ—А–Њ–љ–Ї–Є –≤ –µ–≥–Њ –љ–∞—Б—Л–њ–Є.
–Т 1968 –≥. –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –С. –†–Є–љ–≥–µ–љ –Є–Ј–і–∞–ї —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О —З–∞—Б—В–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Б—В—А–Њ–Ї –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –ї–Є—Ж–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —Б—В–µ–ї—Л, –њ—А–Є—З–µ–Љ –±—Г–Ї–≤—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Є—Б–Ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–µ—В—Г—И—М—О. –°–∞–Љ —В–µ–Ї—Б—В –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –Ї–∞–Ї «—Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М»61. –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г –Љ–љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б–Њ —Б—В–µ–ї–Њ–є –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ, —Б–і–µ–ї–∞—В—М –µ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є. –Я–Њ —Н—В–Є–Љ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П–Љ –Т. –Р. –Ы–Є–≤—И–Є—Ж —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї, —З—В–Њ –Ї—Г—А—Б–Є–≤–љ–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ–∞—П –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є (–ї–Є—Ж–µ–≤–Њ–є) –Є –і–≤—Г—Е —Г–Ј–Ї–Є—Е (–±–Њ–Ї–Њ–≤—Л—Е) –≥—А–∞–љ—П—Е —Б—В–µ–ї—Л, — —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–∞—П. –Т 1969 –≥. —П –≤–љ–Њ–≤—М –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї —Б—В–µ–ї—Г –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П–Љ–Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї —Н—Б—В–∞–Љ–њ–∞- –ґ–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є63. –Т —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –≥–Њ–і—Г —Б—В–µ–ї–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–∞ –Т. –Р. –Ы–Є–≤—И–Є—Ж–µ–Љ6'’.
–Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є —Б—В–µ–ї–∞ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В—Б—П –С (–С—Г–≥—Г—В- —Б–Ї–∞—П), –∞ –µ–µ –≥—А–∞–љ–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ: –С I — –ї–µ–≤–∞—П –±–Њ–Ї–Њ–≤–∞—П, –С II — –њ–µ—А–≤–∞—П —И–Є—А–Њ–Ї–∞—П (–ї–Є—Ж–µ–≤–∞—П), –С III — –њ—А–∞–≤–∞—П –±–Њ–Ї–Њ–≤–∞—П, –С IV — –≤—В–Њ—А–∞—П —И–Є—А–Њ–Ї–∞—П.
–°–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞ –С I—II—III –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–∞ –њ–Њ –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї–Є (—Б–≤–µ—А—Е—Г –≤–љ–Є–Ј), —Б—З–µ—В —Б—В—А–Њ–Ї — —Б–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ. –Я—А–Є —В–∞–Ї–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –µ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Є—Б–Ї–∞—В—М –љ–∞ –С I. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–∞ —Н—В–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–µ–µ —Б—В–µ–ї—Г, — —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Њ –µ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –Т—Б—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В 29 —Б—В—А–Њ–Ї: 5 —Б—В—А–Њ–Ї –њ–Њ –С1,19 —Б—В—А–Њ–Ї –њ–Њ –С II, 5 —Б—В—А–Њ–Ї –њ–Њ –С III. –Ф–ї–Є–љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —Б—В—А–Њ–Ї–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 120 —Б–Љ.
–Э–∞ –≥—А–∞–љ–Є –СI —Б—В—А–Њ–Ї–Є 1-4 –≤ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є, –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Н—А–Њ–Ј–Є–Є —З–∞—Б—В–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –Њ—В 10 –і–Њ 30 –±—Г–Ї–≤ (15—40 —Б–Љ –і–ї–Є–љ—Л –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —Б—В—А–Њ–Ї–Є). 5-—П —Б—В—А–Њ–Ї–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞ –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ, –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–∞ –Є —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–∞ —Б—В—А–Њ–Ї–Є. –Э–∞ –≥—А–∞–љ–Є –С II —Г—Ж–µ–ї–µ–ї–Є —З–∞—Б—В–Є 19 —Б—В—А–Њ–Ї. –Ч–Њ–љ–∞ —Н—А–Њ–Ј–Є–Є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Л–±–Њ–Є–љ—Л –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—В –≤ —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е 1-8 –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л —В–µ–Ї—Б—В–∞; –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —Б—В—А–Њ–Ї–µ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 35-45 –±—Г–Ї–≤. –Т —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е 9-19 –љ–∞—З–∞–ї–Њ (–і–Њ 0,5 —Б—В—А–Њ–Ї–Є) —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Њ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Њ—В–ї–Њ–Љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–є –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є —Б—В–µ–ї—Л. –Ч–Њ–љ–∞ —Н—А–Њ–Ј–Є–Є –≤ —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е 14-19 –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Г —Б—В—А–Њ–Ї, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—В—М –ї–Є—И—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –±—Г–Ї–≤—Л. –Э–∞ –≥—А–∞–љ–Є –С III —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –≤—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ —Б—В—А–Њ–Ї 1-4, –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Њ—В–ї–Њ–Љ–∞–љ–Њ. –Т —Б—В—А–Њ–Ї–µ 5-–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—В—М –ї–Є—И—М —Б–ї–µ–і—Л –±—Г–Ї–≤. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –С I—II—III –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Б—Г–і–Є—В—М –ї–Є—И—М –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–∞–Љ, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–Љ, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –ї–Є—И—М –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є —Б—В—А–Њ–Ї.
–У—А–∞–љ—М –С IV —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ 20 —Б—В—А–Њ–Ї —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–є –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ –±—А–∞—Е–Љ–Є. –Р–Ї—И–∞—А—Л —Н—В–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–µ–≤–µ–ї–Є–Ї–Є –Є –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ—Л –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ. –Э–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞, —З—В–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –µ–µ –і–µ—И–Є—Д—А–Њ–≤–Ї–Є –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–µ.
Rintchen –Т.Les dcssigns. P. 75.
65 –Я–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є: –Ъ–ї—П—И—В–Њ—А–љ—Л–є, –Ы–Є–≤—И–Є—Ж. –°–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Є–Ј –С—Г–≥—Г—В–∞. –°. 121-146. ωKfyastorny, Livshic.TheSogdianinscription. P. 69-102.
–°–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–є —В–µ–Ї—Б—В –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є. –Т —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞—Е –±—Г–Ї–≤ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є —А–Є—В–Љ: –≤—Л—Б–Њ—В–∞ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1,5 —Б–Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ — –Њ—В 1 –і–Њ 2 —Б–Љ. –§–Њ—А–Љ–∞ –±—Г–Ї–≤ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–Є–≤–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤—Л—Г—З–Ї–µ —А–µ–Ј—З–Є–Ї–∞, –љ–Њ –Є –Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ–љ–µ–є –і–∞—В–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є.
–С—Г–≥—Г—В—Б–Ї–∞—П —Б—В–µ–ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–∞–Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В—Л—Е –≤ —З–µ—Б—В—М —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –Є —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–≥–∞–љ–Њ–≤ –Є –≤–Є–і–љ–µ–є—И–Є—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є VIII—IX –≤–≤., —Е–Њ—В—П —Б–∞–Љ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б, –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞ —Б—В–µ–ї–∞, —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –њ–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –С. –ѓ. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Ж–Њ–≤–∞, –≤ —В–Є–њ «—Е–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–є»[56]. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П—Е, —Б—В–µ–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ —З–µ—А–µ–њ–∞—Е–µ, —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–Њ–і—Г. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –љ–∞ —Б—В–µ–ї–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –Ј–љ–∞–Ї –Ї–∞–≥–∞–љ–Њ–≤ –≤—В–Њ—А–Њ–є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є (691-742) — —Б—Е–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Ј–ї–∞[57].

–С–∞—А–µ–ї—М–µ—Д–љ–Њ–µ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ –С—Г–≥—Г—В—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ–ї—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –Њ—В –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–є —А–∞–љ–µ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –С–∞—А–µ–ї—М–µ—Д—Л, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –Њ–±–µ–Є—Е —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е –≥—А–∞–љ—П—Е —Б—В–µ–ї—Л, –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л –њ–Њ —Б—О–ґ–µ—В—Г –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П, –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –±—Л–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ (–≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–µ–Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–∞—П) —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М –±–∞—А–µ–ї—М–µ—Д—Л –љ–∞ –±–Њ–Ї–Њ–≤—Л—Е –≥—А–∞–љ—П—Е –Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—М –Є—Е –≤ –µ–і–Є–љ–Њ–µ —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А–љ–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –У–ї–∞–≤–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –љ–∞–≤–µ—А—И–Є—П — –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–ї–Ї–∞ –Є–ї–Є –≤–Њ–ї—З–Є—Ж—Л, –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–є –њ—А–∞–Љ–∞—В–µ—А–Є —А–Њ–і–∞ (–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є) –Р—И–Є–љ–∞, —Б—В–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–і —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ–µ –і–ї—П –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–Є–є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞.
–С—Г–≥—Г—В—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є (–С I): «(1) –≠—В—Г —Б—В–µ–ї—Г —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ —Ж–∞—А–Є –Є–Ј –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є –Р—И–Є–љ–∞...» –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є, –љ–∞–њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–Љ —Н—А–Њ–Ј–Є–µ–є, —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–∞ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–є — –С—Г–Љ–∞–љ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –Ь—Г–≥–∞–љ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –Ґ–∞—Б–њ–∞—А-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –Є –Э–Є–≤–∞—А-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞. –°—Г–і—П –њ–Њ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В—Г –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, —Б—В–µ–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ —З–µ—Б—В—М –Ґ–∞—Б–њ–∞—А-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –≤ 581 –≥., –µ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Є –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Э–Є–≤–∞—А-–Ї–∞–≥–∞–љ–Њ–Љ. –Т 572-581 –≥–≥. –Њ–љ –љ–Њ—Б–Є–ї —В–Є—В—Г–ї «–Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞» –Є –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е –≠—А—Д—Г- –Ї—Н—Е–∞–љ—М, –∞ —Б –≤–Њ—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –њ—А–Є–љ—П–ї —В—А–Њ–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ—П –Ш—И–±–∞—А–∞-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ (–®–∞–±–Њ–ї–ї–Њ-–Ї—Н—Е–∞–љ—М –Є–Ј –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, 581-587)[58].
–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ—Г –Є –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ—Г –±—Л–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л H. –Ь. –ѓ–і—А–Є–љ—Ж–µ–≤—Л–Љ –≤ 1889 –≥. –≤ —Г—А–Њ—З–Є—Й–µ –Ъ–Њ—Й–Њ-–¶–∞–є–і–∞–Љ, –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ъ–Њ–Ї—И–Є–љ-–Ю—А—Е–Њ–љ–∞, –≤ 400 –Ї–Љ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–µ–µ –£–ї–∞–љ-–С–∞—В–Њ—А–∞, –≤ 25 –Ї–Љ —О–ґ–љ–µ–µ –Њ–Ј. –£–≥–µ–є-–љ–Њ—А –Є –≤ 40 –Ї–Љ —Б–µ–≤–µ—А–љ–µ–µ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ –Ъ–∞—А–∞–±–∞–ї–≥–∞—Б—Г–љ–∞. –Т 1890 –≥. –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –±—Л–ї –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–µ–є –У. –У–µ–є–Ї–µ–ї—П, –≤ 1891 –≥. — —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–µ–є –Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤–∞. –Т 1902 –≥. –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –Є –Њ–њ–Є—Б–∞–ї –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї –≤ –£—З–ґ–Њ—Г –Ъ. –Ъ–µ–Љ–њ–±–µ–ї–ї, –∞ –≤ 1909 –≥. — —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –і–µ –Ы—П–Ї–Њ—Б—В[59]. –Т 1912 –≥. –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Њ—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ—Л –Т. –Ы. –Ъ–Њ—В–≤–Є—З–µ–Љ64. –Т I960 –≥. –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –≤–љ–Њ–≤—М –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ—Л –Х. –Ш. –£–±—А—П—В–Њ–≤–Њ–є –Є –Т. –Ь. –Э–∞–і–µ–ї—П–µ–≤—Л–Љ. –Т 1968-1969 –≥–≥. –Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –°. –У. –Ъ–ї—П—И—В–Њ—А–љ—Л–Љ.
–°—В–µ–ї—Л —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—П–Љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞ –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞ –Є –≤—Е–Њ–і—П—В –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є.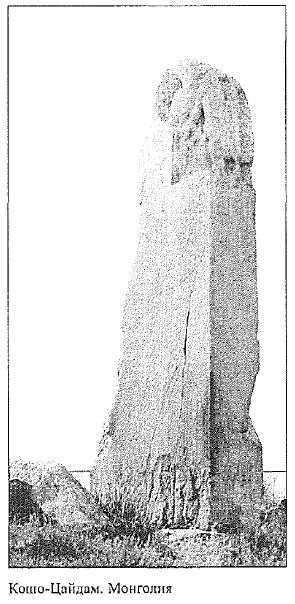
–Т.–Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–Є —Е–Њ–ї–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –Є–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В –Ј–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ—Л–є –Ї—Г—А–≥–∞–љ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞; –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —В–∞–Љ –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л —А—Г–Є–љ—Л –Ј–∞—Г–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞[60]. –Я–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ—Г, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –±—Л–ї –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г, —Е–Њ—В—П –Є –љ–µ–Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г, –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –ї–Є—И—М –≤ 1958 –≥. –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ-—З–µ—Е–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞—Ж–Ї–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–µ–є; —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞–Љ–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —З–µ—И—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥ –Ы. –Щ–Є—Б–ї[61]. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л —А–∞–±–Њ—В —Н—В–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б–∞–Љ–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є –Є –Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є.
–Ъ–ї–Њ–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ —Г–Љ–µ—А –љ–∞ 47-–Љ –≥–Њ–і—Г –ґ–Є–Ј–љ–Є, 27 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 731 –≥.[62] –Т –Љ–∞–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г –°—О–∞–љ—М—Ж–Ј—Г–љ—Г —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –њ—А–Є—П—В—М –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–ї—П —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Е—А–∞–Љ–∞ –Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞[63]·’. –°—О–∞–љ—М—Ж–Ј—Г–љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї –њ—А–Њ—Б—М–±—Г: «–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞ –І–ґ–∞–љ –¶—О–є-–Є –Є —Б–∞–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Ы—О –°—П–љ–∞ —Б —Н–і–Є–Ї—В–Њ–Љ –Ј–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є–њ–µ—З–∞—В—М—О –і–ї—П –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Њ–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ- –ґ–µ—А—В–≤—Л. –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–ї –Є—Б—Б–µ—З—М —Б–ї–Њ–≤–∞ [—Н–њ–Є—В–∞—Д–Є–Є] –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–ї–Є—В–µ –Є –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В—М —Е—А–∞–Љ –Є —Б—В–∞—В—Г—О, –љ–∞ —З–µ—В—Л—А–µ—Е —Б—В–µ–љ–∞—Е —Е—А–∞–Љ–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В—М –≤–Є–і—Л —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є [–Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞]. (–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ), –±—Л–ї–Њ —Г–Ї–∞–Ј ο —И–µ—Б—В–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–µ–є—И–Є–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П [–Ї —В—О—А–Ї–∞–Љ]; –Њ–љ–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–Є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л —Б—В–Њ–ї—М –ґ–Є–≤–Њ –Є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ (—В—О—А–Ї–Є) –µ–і–Є–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ —А–µ—И–Є–ї–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї–Њ –≤ –Є—Е —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ»[64]. –Т «–¶–Ј—О –Ґ–∞–љ —И—Г» –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ, —З—В–Њ —Н–њ–Є—В–∞—Д–Є—О –Ъ–≥–∞–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ—Г –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Б–∞–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А.
–Ю —А–∞–±–Њ—В–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—О–ї—М-—В–µ- «–Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–≥–∞–љ –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї –Љ–љ–µ —Б–≤–Њ–Є—Е „–≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е“ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤. –Ш–Љ —П–њ–Њ—А—Г—З–Є–ї —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ, –≤–љ—Г—В—А–Є –Є —Б–љ–∞—А—Г–ґ–Є —П –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–ї –њ–Њ–Ї—А—Л—В—М [—Б—В–µ–љ—Л] –Њ—Б–Њ–±–Њ–є —А–µ–Ј—М–±–Њ–є –Є –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В—М –Ї–∞–Љ–µ–љ—М» (–Ъ–Ґ–Љ, 12). –І–ґ–∞–љ –¶—О–є-–Є –Є –Ы—О –°—П–љ (–Ш—Б—М–Є –Є –Ы–Є-–Ї–µ–љ–≥ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞ — –Ъ–Ґ–±, 52) –≤—Л–µ—Е–∞–ї–Є –Є–Ј –І–∞–љ–∞- –љ–Є –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 731 –≥.; 1 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 732 –≥. –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ —Б—В–µ–ї–∞ —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О; –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞ —Е—А–∞–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–∞ –ї–Є—И—М –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г 733 –≥.[65] –≠—В–Њ—В, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б—А–Њ–Ї —А–∞–±–Њ—В –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –њ—А–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–µ —Б —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞–Љ–Є.
–Я–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –љ–∞ –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–µ, –≤—Л—В—П–љ—Г—В–Њ–є –њ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є –Ј–∞–њ–∞–і-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї. –Я–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–∞ (67,25 X 28,85 –Љ) –≤—Л–Љ–Њ—Й–µ–љ–∞ –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ—Л–Љ —Б—Л—А—Ж–Њ–≤—Л–Љ –Ї–Є—А–њ–Є—З–Њ–Љ (0,33 —Е 0,33 –Љ) –Є –Њ–±–љ–µ—Б–µ–љ–∞ —А–≤–Њ–Љ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–є –і–Њ 2 –Љ, —И–Є—А–Є–љ–Њ–є –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 6 –Љ, –њ–Њ –і–љ—Г — 1,2 –Љ. –°—А–∞–Ј—Г –Ј–∞ —А–≤–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–ї–∞—Б—М —Б—В–µ–љ–∞ –Є–Ј —Б—Л—А—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Є—А–њ–Є—З–∞. –Т—Е–Њ–і –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї—Г — —Б –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞, –≥–і–µ —А–Њ–≤ –љ–µ –±—Л–ї –њ—А–Њ–Ї–Њ–њ–∞–љ. –Я—А—П–Љ–Њ –Њ—В –≤—Е–Њ–і–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є—Б—М, –≤—Л—В—П–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї, –і–≤–µ —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–Є –Ї–∞–Љ–љ–µ–є (–±–∞–ї–±–∞–ї–Њ–≤), –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –і–≤–µ –≥—А—Г–±–Њ –≤—Л—Б–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л; –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–љ–µ–є 169 — –њ–Њ —З–Є—Б–ї—Г –≤—А–∞–≥–Њ–≤, —Г–±–Є—В—Л—Е –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–Њ–Љ. –Я–Њ –Њ–±–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Њ—В –≤—Е–Њ–і–∞ — –і–≤–µ –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л –±–∞—А–∞–љ–Њ–≤. –Т 8 –Љ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і –Њ—В –≤—Е–Њ–і–∞ –љ–∞–є–і–µ–љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–∞—П —З–µ—А–µ–њ–∞—Е–∞ (–µ–µ –і–ї–Є–љ–∞ — 2,25 –Љ), –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ —Б—В–µ–ї–∞ —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О. –Я—А–Є –њ–∞–і–µ–љ–Є–Є —Б—В–µ–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї–∞ –Љ–∞–ї–Њ: –Њ—В–Ї–Њ–ї–Њ–ї–Њ—Б—М –ї–Є—И—М –і–≤–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Ї—Г—Б–Ї–∞ —Б —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–µ –Ы. –Щ–Є—Б–ї–Њ–Љ –њ—А–Є —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞—Е.
–Ю—В –≤—Е–Њ–і–∞ –Ї –Ј–∞—Г–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–Љ—Г —Е—А–∞–Љ—Г –≤–µ–ї–∞ –∞–ї–ї–µ—П, –≤–і–Њ–ї—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л –ї—О–і–µ–є; —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М, —Е–Њ—В—П –Є –≤ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ, –Њ–і–љ–∞ —Б—В–Њ—П—Й–∞—П –ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ —Б –њ–ї–∞—В–Ї–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–µ, –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л —Б –Љ–µ—З–Њ–Љ, –і–≤–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л –Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ–њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ—Г–ґ—З–Є–љ (—В—А–µ—В—М—О —В–∞–Ї—Г—О –ґ–µ —Б—В–∞—В—Г—О –Т. –Я. –Ъ–Њ—В–≤–Є—З –≤—Л–≤–µ–Ј –≤ 1912 –≥. –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥) –Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—А—Б. –Я–Њ—Б—А–µ–і–Є –і–≤–Њ—А–∞ –љ–∞ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–µ –Є–Ј –Њ–±–Њ–ґ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Є—А–њ–Є—З–∞ (13 —Е 13 –Љ) –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–ї—Б—П —Е—А–∞–Љ (10,25 —Е 10,25 –Љ), –Њ—И—В—Г–Ї–∞—В—Г—А–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В–µ–љ—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л —Б–љ–∞—А—Г–ґ–Є —Г–Ј–Њ—А–∞–Љ–Є, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є. –°—В–µ–љ—Л —Г–Ї—А–∞—И–∞–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –ї–µ–њ–љ—Л–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П — –Љ–∞—Б–Ї–Є –і—А–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤. –®–µ—Б—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є —З–µ—А–µ–њ–Є—З–љ—Г—О –Ї—А—Л—И—Г. –Т–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ —Б—В–µ–љ—Л —Е—А–∞–Љ–∞ –±—Л–ї–Є —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л –љ–µ—Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П —Д—А–µ—Б–Ї–∞–Љ–Є, —Б—О–ґ–µ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е — –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞.
–Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —Е—А–∞–Љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–µ (4,4 —Е 4,4 –Љ), –Њ–≥–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —Б—В–µ–љ–Њ–є. –Т—Е–Њ–і –≤ —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–µ, –Ї–∞–Ї –Є –≤—Е–Њ–і –≤ —Е—А–∞–Љ, — —Б –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. –Т —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–µ –љ–∞–є–і–µ–љ—Л –љ–Є–ґ–љ–Є–µ —З–∞—Б—В–Є –і–≤—Г—Е —Б–Є–і—П—Й–Є—Е —Д–Є–≥—Г—А — –њ–Њ—А—В—А–µ—В–љ—Л–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞ –Є –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Л. –У–Њ–ї–Њ–≤–∞ —Б—В–∞—В—Г–Є –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞ –Є —З–∞—Б—В—М –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –≤—В–Њ—А–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А—Л –љ–∞–є–і–µ–љ—Л —В—Г—В –ґ–µ, –≤ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є—П—Е –њ–µ—А–µ–і —Б—В–∞—В—Г—П–Љ–Є, –≥–і–µ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—А—П–і—Г, —Б—В–Њ—П–ї–Є –≥–Њ—А—И–Ї–Є —Б —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Є—Й–µ–є. –Т —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є—П—Е –±—Л–ї–Є –љ–∞–є–і–µ–љ—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–Є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є. –У–Њ–ї–Њ–≤–∞ –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞ –≤ —В–Є–∞—А–µ –Є–Ј –њ—П—В–Є —Й–Є—В–Ї–Њ–≤ —Б —А–µ–ї—М–µ—Д–љ—Л–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞—Б–њ–ї–∞—Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ї—А—Л–ї—М—П –Њ—А–ї–∞ — –ї—Г—З—И–µ–µ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–љ–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞-–ї–Є–±–Њ –љ–∞–є–і–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є. –Ъ –Ј–∞–њ–∞–і—Г –Њ—В —Е—А–∞–Љ–∞ —Б—В–Њ–Є—В –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї — –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –≥—А–∞–љ–Є—В–љ—Л–є –Ї—Г–±, –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–љ–Њ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є–µ. –Ъ–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –љ–µ –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –љ–∞ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–µ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞[66].

–°—В–∞—В—Г—П –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ—Г. VIII –≤. –Ъ–Њ—И–Њ-–¶–∞–Є–і–∞–Љ. –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є—П
–†–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞–Љ–Є –Ы. –Ш–Є—Б–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ј–∞—Г–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В—Л, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—О. –Ч–∞—В–µ–Љ —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї –≤–љ–Њ–≤—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ. –Ш–Є—Б–ї –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї, —З—В–Њ —Е—А–∞–Љ —А–∞–Ј—А—Г—И–Є–ї–Є —Г–є–≥—Г—А—Л (745) –Є–ї–Є –Ї—Л—А–≥—Л–Ј—Л (840)[67]. –Х—Б–ї–Є –≤–µ—А–љ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —В–Њ –Њ–љ–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—М –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Г, –Њ–±—К—П—Б–љ—П—О—Й—Г—О –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И—Г—О —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є—О —Е—А–∞–Љ–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–∞ –£–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ –Ї—Л—А–≥—Л–Ј–∞–Љ–Є —А–∞–є–Њ–љ –Ъ–∞—А–∞–±–∞–ї–≥–∞—Б—Г–љ–∞ –љ–µ –±—Л–ї —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ —Б—В–µ–њ–љ—Л—Е –Є–Љ–њ–µ—А–Є–є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —В—О—А–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є —Г–є–≥—Г—А–Њ–≤ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ –≤–љ–Њ–≤—М –Ј–∞–љ—П–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, —Е–Њ—В—П –±—Л –Є –љ–∞ –њ—А–∞–≤–∞—Е –≤–∞—Б—Б–∞–ї–Њ–≤ –Ї—Л—А–≥—Л–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞–љ–∞, –Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є —Б—В–∞—А—Л–µ —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–∞. –Т –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Є —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–µ—В–Є–≤—И–Є–є –≤ 924 –≥. —А–∞–є–Њ–љ –Ъ–∞—А–∞–±–∞–ї–≥–∞—Б—Г–љ–∞ –Ї–Є–і–∞–љ—М—Б–Ї–Є–є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Р–±–∞- –Њ—Ж–Ј–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤—Л—Б–µ—З—М —Б–≤–Њ—О –љ–∞–і–њ–Є—Б—М —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–Љ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ–Љ. –Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ –µ—Й–µ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –•—Г–±–Є–ї–∞—П (1260-1294) –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ—Г –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ; –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –Њ–љ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –і–Њ—Б—В–Њ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤–±–ї–Є–Ј–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –£–≥—Н–і—Н–µ–Љ (1228-1241) –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –•–Њ—А–Є–љ–∞[68].
–°—В–µ–ї–∞ —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О –Є–Љ–µ–µ—В —Д–Њ—А–Љ—Г —Г—Б–µ—З–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Є—А–∞–Љ–Є–і—Л, –≤—Л—Б–Њ—В–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є — 3,15 –Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є — 1,24 –Љ, —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ —· 0,41 –Љ. –Т–µ—А—Е—Г—И–Ї–∞ –њ–ї–Є—В—Л –≤—Л—Б–µ—З–µ–љ–∞ –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –њ—П—В–Є—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Й–Є—В–∞, –Њ–±—А–∞–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –і—А–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤. –Э–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ —Й–Є—В–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–∞—П —В–∞–Љ–≥–∞; –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ — –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–∞—П –і–∞—В—Г —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ — 1 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 732 –≥. –Я—А–∞–≤–µ–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ—Л –і–≤–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –Ї–∞–ї–ї–Є–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г —В–µ–Ї—Б—В—Г. –Ъ–∞–Ї –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤, —Н—В–Є —Б—В—А–Њ–Ї–Є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ –∞–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞, –±—Л–ї–Є –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ—Л –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ—М —В—Г —И—М—О —Б–∞–Љ–Є–Љ –С–Є–ї—М- –≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–Њ–Љ, –∞ —А–µ–Ј—З–Є–Ї –≤—Л—А–µ–Ј–∞–ї –Є—Е, –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞—П –њ–Њ—З–µ—А–Ї—Г –Ї–∞–≥–∞–љ–∞79. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –њ–ї–Є—В—Л —Б —Н—В–Њ–є –ґ–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ–Њ–Ї—А—Л—В–∞ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О. –Ґ—А–Є –і—А—Г–≥–Є–µ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–і—В–µ—Б–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —А–µ–±—А–∞—Е –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —В–µ–Ї—Б—В–∞–Љ–Є. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –њ–ї–Є—В—Л 40 —Б—В—А–Њ–Ї –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–∞—В 13 —Б—В—А–Њ–Ї –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–є –±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є; —Н—В–Њ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П «–±–Њ–ї—М—И–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М» (–Ъ–Ґ–±). –Э–∞ –ї–µ–≤–Њ–є –±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є (–Ъ–∞) –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–∞ «–Љ–∞–ї–∞—П I –љ–∞–і–њ–Є—Б—М» (–Ъ–Ґ–Љ) — 13 —Б—В—А–Њ–Ї. –Т—Б–µ —З–µ—В—Л—А–µ –≥—А–∞–љ–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Є—А–∞–Љ–Є–і—Л —Б—В–µ—Б–∞–љ—Л, –Є –љ–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В—П—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ—Л —З–µ—В—Л—А–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М —В—А–Є (–Ъ I, –Ъ II, –Ъ III). –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –ї–∞–Ї—Г–љ—Л, –Њ–±—Й–∞—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М —В–µ–Ї—Б—В–∞ –љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–µ –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ—Г –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї—Г—З—И–µ, —З–µ–Љ –љ–∞ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е.
” –†–∞–і–ї–Њ–≤, –Ь–µ–ї–Є–Њ—А–∞–љ—Б–Ї–Є–є. –Ф—А—Б–≤–љ—Б—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Б –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є. –°. 10. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ- —Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–∞–µ—В–µ—П –њ–Њ —Н—В–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ
–°—В–µ–ї–∞ –≤ —З–µ—Б—В—М –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –љ–∞–є–і–µ–љ–љ–∞—П –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –ґ–µ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–µ, –њ–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ–Љ—Г –≤–Є–і—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–∞ —Б—В–µ–ї–µ –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—О–ї—М- —В–µ–≥–Є–љ–∞–≤–Њ. –Я—А–Є –њ–∞–і–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П –њ–ї–Є—В–∞ —А–∞–Ј–±–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ —В—А–Є —З–∞—Б—В–Є. –Х–µ –Њ–±—Й–Є–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л — 3,45 —Е 1,74 —Е 0,72 –Љ. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є —Б—В–µ–ї—Г –Ъ—О–ї—М- —В–µ–≥–Є–љ–∞, –µ–µ —Г–≤–µ–љ—З–Є–≤–∞–µ—В –њ—П—В–Є—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–є —Й–Є—В, –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є —Б—В–∞—В—Г–∞—А–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –і—А–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤. –Э–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ —Й–Є—В–∞ — –њ–ї–Њ—Е–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–∞—П—Б—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М (–•—Б), –њ–Њ–і –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–є —В–µ–Ї—Б—В, —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є–є –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Н—А–Њ–Ј–Є–Є –Ї–∞–Љ–љ—П. –Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —Й–Є—В–∞ — –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–∞—П —В–∞–Љ–≥–∞[69]; –љ–Є–ґ–µ, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є — 41 —Б—В—А–Њ–Ї–∞ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞ (X), –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–∞—В 15 —Б—В—А–Њ–Ї –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–є –±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ (–•–∞). «–Ь–∞–ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М» –Є–Ј 15 —Б—В—А–Њ–Ї –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Г—О –±–Њ–Ї–Њ–≤—Г—О –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М (–•–≤). –І–µ—В—Л—А–µ –≥—А–∞–љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—В–µ—Б–∞–љ—Л –Є –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б—П–Љ–Є, –љ–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –ї–Є—И—М –і–≤–µ –Є–Ј –љ–Є—Е (XI –Є XII).
–С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ —Г–Љ–µ—А «–≤ –≥–Њ–і –°–Њ–±–∞–Ї–Є, –≤ –і–µ—Б—П—В—Л–є –Љ–µ—Б—П—Ж, –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —И–µ—Б—В–Њ–≥–Њ (–і–љ—П)» (–•–∞ 10), —В. –µ. 25 –љ–Њ—П–±—А—П 734 –≥., –Є –±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ «–≤ –≥–Њ–і –°–≤–Є–љ—М–Є, –њ—П—В—Л–є –Љ–µ—Б—П—Ж, –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є (–і–µ–љ—М)» (–•–∞ 10), —В. –µ. 22 –Є—О–љ—П 735 –≥. –Э–∞ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–∞—Е –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –Ы–Є –¶—О–∞–љ–µ–Љ (–Ы–Є—Б—О–љ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞ — –•–∞ 11), –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—Л–µ—Е–∞–ї–Њ –Є–Ј –І–∞–љ–∞–љ–Є –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 735 –≥.[70] –Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Ы–Є –Ц—Г–љ–Њ–Љ –Є –Ї–∞–ї–ї–Є–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П —Б–∞–Љ–Є–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ, –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–∞ –љ–∞ —Б—В–µ–ї–µ, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞ —Е—А–∞–Љ–∞, –≥–і–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ–њ–Њ—Б–ї—Л «—Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є» –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї—Г—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–≤–µ—З–Є –Є —Б–Њ–ґ–≥–ї–Є –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–љ–Є—П (–•–∞ 11).
–Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Њ–±–µ–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–∞; –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є —В–µ–Ї—Б—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞—О—В: –Ъ–Ґ–Љ, 1-11 = –С–Ъ–Љ, 1-7; –Ъ–Ґ–±, 1-30 =–С–Ъ–±, 3-23. –Я–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–µ–і–µ—В—Б—П –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞;
–љ–∞–і–њ–Є—Б–Є (bitig)— —Н—В–Њ –µ–≥–Њ «—Б–ї–Њ–≤–Њ», –µ–≥–Њ «—А–µ—З—М» (sab),–Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ–∞—П –Ї «—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–Љ –±–µ–≥–∞–Љ –Є –љ–∞—А–Њ–і—Г», –Ї «–±–µ–≥–∞–Љ –Є –љ–∞—А–Њ–і—Г —В–Њ–Ї—Г–Ј-–Њ–≥—Г–Ј–Њ–≤», –Ї –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ.
–Т «–Љ–∞–ї—Л—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б—П—Е», –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–Њ –Є —А–µ–Ј—О–Љ–µ «–±–Њ–ї—М—И–Є—Е», –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ, –Ї—А–∞—В–Ї–Њ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г–≤ –Њ –і–∞–ї—М–љ–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ «–і–ї—П –±–ї–∞–≥–∞ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞», –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–µ—А–µ–≥–∞–µ—В –≤–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є—Е –µ–Љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤ «–Ј–ї–Њ–±–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є», –њ–Њ–ї—М—Б—В–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ –±–Њ–≥–∞—В—Л–µ –і–∞—А—Л –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Є —Б–Њ–≤–µ—В—Г—О—Й–Є—Е —В—О—А–Ї–∞–Љ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —О–≥, —В. –µ. –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Ъ–Є—В–∞—О. –Ю–љ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ «—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і» «—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–љ–µ–Љ–Њ–≥ –Є –Є–Ј–љ—Г—А–Є–ї—Б—П» –њ–Њ–і –≤–ї–∞—Б—В—М—О «–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –љ–∞—А–Њ–і–∞ —В–∞–±–≥–∞—З». –Ы–Є—И—М –≤ –Ю—В—О–Ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —З–µ—А–љ–Є, –љ–µ–і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–є –і–ї—П –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, —В—О—А–Ї–Є –Љ–Њ–≥—Г—В —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Б–µ–±—П —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М —Б –Ъ–Є—В–∞–µ–Љ –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–ї—Г—З–∞—П –Њ—В—В—Г–і–∞ –±–Њ–≥–∞—В—Л–µ –і–∞—А—Л. –Ф–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л «—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і» –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, –Ї–∞–Ї –Њ–љ, –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ, «–љ–µ–Є–Љ—Г—Й–Є–є –љ–∞—А–Њ–і —Б–і–µ–ї–∞–ї –±–Њ–≥–∞—В—Л–Љ, –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞—А–Њ–і —Б–і–µ–ї–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ», —З—В–Њ–±—Л «—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і» –Ј–љ–∞–ї, —З–µ–≥–Њ –µ–Љ—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ–њ–∞—Б–∞—В—М—Б—П, –∞ —З–µ–Љ—Г —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М, «—А–µ—З—М» –Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ «–≤–µ—З–љ–Њ–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ»: «–Ю —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –±–µ–≥–Є –Є –љ–∞—А–Њ–і, —Б–ї—Г—И–∞–є—В–µ —Н—В–Њ! –ѓ –≤—Л—А–µ–Ј–∞–ї –Ј–і–µ—Б—М, –Ї–∞–Ї –≤—Л (–±–µ–≥–Є –Є –љ–∞—А–Њ–і), —Б–Њ–±—А–∞–≤ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і, —Б–Њ–Ј–Є–і–∞–ї–Є (—Б–≤–Њ–µ) –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –Ї–∞–Ї –≤—Л, –њ–Њ–≥—А–µ—И–∞—П, –і–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М, —П –≤—Б–µ –Ј–і–µ—Б—М –≤—Л—А–µ–Ј–∞–ї. –Т—Б–µ, —З—В–Њ —П (–Є–Љ–µ–ї) —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —П –≤—Л—А–µ–Ј–∞–ї –љ–∞ –≤–µ—З–љ–Њ–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ. –°–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ, –Ј–љ–∞–є—В–µ (—Г—З–Є—В–µ—Б—М) –≤—Л, —В–µ–њ–µ—А–µ—И–љ–Є–µ –±–µ–≥–Є –Є –љ–∞—А–Њ–і!» (–Ъ–Ґ–Љ, 10-11).
«–С–Њ–ї—М—И–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є» –Њ–±–Њ–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В —Б –і–∞–≤–љ–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ: «(1) –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤–≤–µ—А—Е—Г –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–µ –љ–µ–±–Њ, –∞ –≤–љ–Є–Ј—Г — –±—Г—А–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П, –Љ–µ–ґ–і—Г (–љ–Є–Љ–Є) –Њ–±–Њ–Є–Љ–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є —Б—Л–љ—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ. –Э–∞–і —Б—Л–љ–∞–Љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ—Б—Б–µ–ї–Є –Љ–Њ–Є –њ—А–µ–і–Ї–Є –С—Г–Љ—Л–љ-–Ї–∞–≥–∞–љ, –Ш—Б—В–µ–Љ–Є-–Ї–∞–≥–∞–љ. –°–µ–≤ (–љ–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ), –Њ–љ–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞. (2) –І–µ—В—Л—А–µ —Г–≥–ї–∞ —Б–≤–µ—В–∞ –≤—Б–µ –±—Л–ї–Є –Є–Љ –≤—А–∞–≥–∞–Љ–Є; –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—П (–≤ –њ–Њ—Е–Њ–і) —Б –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ, –љ–∞—А–Њ–і—Л —З–µ—В—Л—А–µ—Е —Г–≥–ї–Њ–≤ —Б–≤–µ—В–∞ –Њ–љ–Є –≤—Б–µ –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є–ї–Є... (3) –Ґ–∞–Ї –Њ–љ–Є —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є... —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї —Б—А–µ–і–Є –≥–Њ–ї—Г–±—Л—Е —В—О—А–Ї–Њ–≤, –љ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–Є—Е –і–Њ —В–Њ–≥–Њ –љ–Є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ–∞, –љ–Є (–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ) „–°—В—А–µ–ї–∞–Љ“. –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є –Љ—Г–і—А—Л–µ –Ї–∞–≥–∞–љ—Л, –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞–≥–∞–љ—Л, –Є –Є—Е –±—Г—О—А—Г–Ї–Є –±—Л–ї–Є, –љ–∞–і–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М, –Љ—Г–і—А—Л–Љ–Є, –±—Л–ї–Є, –љ–∞–і–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М, –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –Є –Є—Е –±–µ–≥–Є –Є –љ–∞—А–Њ–і –±—Л–ї–Є –њ—А—П–Љ—Л (–µ–і–Є–љ–Њ–і—Г—И–љ—Л). –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г-—В–Њ, –љ–∞–і–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М, –Њ–љ–Є –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї–Є —Б—В–Њ–ї—М –і–Њ–ї–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ –Є, —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ, —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л. –Ч–∞—В–µ–Љ (4) –Њ–љ–Є —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї–Є—Б—М... –Я–Њ—Б–ї–µ –љ–Є—Е —Б—В–∞–ї–Є –Ї–∞–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –Є—Е –Љ–ї–∞–і—И–Є–µ –±—А–∞—В—М—П, (5), –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Є –Ї–∞–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –Є—Е —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Љ–ї–∞–і—И–Є–µ –±—А–∞—В—М—П –љ–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л —Б—В–∞—А—И–Є–Љ, –∞ —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П –љ–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л –Њ—В—Ж–∞–Љ, —В–Њ —Б–µ–ї–Є (–љ–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ), –љ–∞–і–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М, –љ–µ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–µ –Ї–∞–≥–∞–љ—Л, (6) –Є –Є—Е –±—Г—О—А—Г–Ї–Є –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л, –±—Л–ї–Є —В—А—Г—Б–ї–Є–≤—Л. –Т—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ–њ—А—П–Љ–Њ—В—Л (–љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞–≥–∞–љ—Г) –±–µ–≥–Њ–≤ –Є –љ–∞—А–Њ–і–∞, –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –Њ–±–Љ–∞–љ–∞ –Є –њ–Њ–і—Б—В—А–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Њ–±–Љ–∞–љ—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –Є–Ј –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –Є –Є—Е –Ї–Њ–Ј–љ–µ–є, –Є–Ј-–Ј–∞ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Б—Б–Њ—А–Є–ї–Є –Љ–ї–∞–і—И–Є—Е –±—А–∞—В—М–µ–≤ —Б–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–Љ–Є, –∞ –љ–∞—А–Њ–і — —Б –±–µ–≥–∞–Љ–Є, —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і –њ—А–Є–≤–µ–ї –≤ —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ —Б–≤–Њ–µ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ (7) –Є –љ–∞–≤–ї–µ–Ї –≥–Є–±–µ–ї—М –љ–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞; –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г —Б—В–∞–ї–Є –Њ–љ–Є —А–∞–±–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–Љ–Є —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П–Љ–Є, —А–∞–±—Л–љ—П–Љ–Є — —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —З–Є—Б—В—Л–Љ–Є –і–Њ—З–µ—А—М–Љ–Є» (–Ъ–Ґ–±, 1-7).
–Ґ–∞–Ї –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –Є —Г–њ–∞–і–Ї–µ, –њ–Њ–і—К–µ–Љ–µ –Є –Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –≤ VIII –≤. –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Є–Љ. –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є—О, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И—Г—О —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –Љ–Є–љ—Г–≤—И–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —Н–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –µ—Б–ї–љ –±—Л –Ј–∞ –ї–∞–Ї–Њ–љ–Є—З–љ—Л–Љ —В–µ–Ї—Б—В–Њ–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –љ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Њ—В–Ј–≤—Г–Ї –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є–є, –∞ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ–Љ —А–Є—В–Љ–µ –±—Л–ї–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ —Б—В–Њ–ї—М –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –њ–∞—В–µ—В–Є–Ї–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є–Є, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–є —В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–∞–ї–Є «—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г» –і–∞–ї–µ–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і–Ї–Є —Ж–∞—А—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞.
–С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤–Њ–ї—П, –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–ї–∞—Б—В—М –Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–≥–∞–љ—Г –±–µ–≥–Њ–≤ –Є –љ–∞—А–Њ–і–∞, –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –±–µ–≥–∞–Љ, ——В–∞–Ї–Њ–≤ –ї–µ–є—В–Љ–Њ—В–Є–≤ –Є–і–µ–є, –њ—А–Њ–љ–Є–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –Њ–±–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, —В–∞–Ї–Њ–≤—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П «–≤–µ—З–љ–Њ–≥–Њ —Н–ї—П». –Ъ–∞–Ї –±—Л —А–µ–Ј—О–Љ–Є—А—Г—П –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–љ–љ—Л–є —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—П–Љ –Є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П–Љ —Г—А–Њ–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–Є—В –Є—В–Њ–≥ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г: «–Х—Б–ї–Є —В—Л, —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і, –љ–µ –Њ—В–і–µ–ї—П–µ—И—М—Б—П –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –Њ—В —Б–≤–Њ–Є—Е –±–µ–≥–Њ–≤, –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–є —А–Њ–і–Є–љ—Л... —В—Л —Б–∞–Љ –±—Г–і–µ—И—М –ґ–Є—В—М —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ, –±—Г–і–µ—И—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–Њ–Љ–∞—Е, –±—Г–і–µ—И—М –ґ–Є—В—М –±–µ—Б–њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ» (–С–Ъ–Љ, –•–≤ 13-14). –Т —Н—В–Є—Е —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е —П—Б–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–∞ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Е—Г—И–Ї–Є –Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞, –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ –Ј–≤—Г—З–Є—В —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–є –њ–Њ–Ї–Њ—А–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞ –Ї–∞–≥–∞–љ—Г –Є –±–µ–≥–∞–Љ — –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –≤–µ—Б—М —В–µ–Ї—Б—В –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М, –њ–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є –∞–≤—В–Њ—А–∞, –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ —Н—В–Њ–є –Є–і–µ–Є. –С–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є–µ «—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞» –µ—Б—В—М —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –Ї–∞–≥–∞–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –±–µ–≥–∞–Љ–Є –Є–Ј –Ю—В—О–Ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —З–µ—А–љ–Є –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–µ—В –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤ –њ–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л, –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–∞–µ—В –љ–∞—А–Њ–і –і–Њ–±—Л—З–µ–є –Є –і–∞–љ—М—О –њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ: «...–Є—Е –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –Є –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ–µ —Б–µ—А–µ–±—А–Њ, –Є—Е —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —В–Ї–∞–љ–љ—Л–µ —И–µ–ї–Ї–∞, –Є—Е –љ–∞–њ–Є—В–Ї–Є, –і–Њ–±—Л—В—Л–µ –Є–Ј –Ј–µ—А–љ–∞, –Є—Е –≤–µ—А—Е–Њ–≤—Л—Е –ї–Њ—И–∞–і–µ–є –Є –ґ–µ—А–µ–±—Ж–Њ–≤, –Є—Е —З–µ—А–љ—Л—Е —Б–Њ–±–Њ–ї–µ–є –Є –≥–Њ–ї—Г–±—Л—Е –±–µ–ї–Њ–Ї —П –і–Њ–±—Л–ї –і–ї—П –Љ–Њ–µ–≥–Њ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞!» (–С–Ъ–Љ, –•–≤ 11-12).
–°–µ–Љ—М –њ–µ—А–≤—Л—Е —Б—В—А–Њ–Ї «–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є» –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞ –Є –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В—Г. –Ф–Є–љ–∞—Б—В–Є–є–љ—Л–µ —А–∞—Б–њ—А–Є –Є –±–Њ—А—М–±–∞ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –±–µ–≥–Њ–≤ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї –≥–Є–±–µ–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –Ї–∞–Ї –Є –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, –љ–µ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї –љ–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Г–Љ–∞, –љ–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞. –У–Є–±–µ–ї—М –Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –Ї–∞–Ї–Њ–≤ –±—Л –Њ–љ –љ–Є –±—Л–ї, –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ «—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і» –љ–∞ –≥—А–∞–љ—М –≥–Є–±–µ–ї–Є (–Ъ–Ґ–±, 8-10), –љ–Њ –Э–µ–±–Њ —Б–ґ–∞–ї–Є–ї–Њ—Б—М –Є –њ–Њ—Б–ї–∞–ї–Њ –µ–Љ—Г —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П — –Ш–ї—М—В–µ—А–Є—И-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –Њ—В—Ж–∞ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞. –Т –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є—Е —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е –Ш–ї—М—В–µ—А–Є—И –≤–Њ–Ј—А–Њ–і–Є–ї —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–є —Н–ї—М (–Ъ–Ґ–±, 11-16). –Э–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –µ–≥–Њ –Ъ–∞–њ–∞–≥–∞–љ-–Ї–∞–≥–∞–љ –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ «—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞». –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞—А–Њ–і –љ–µ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б—З–∞—Б—В—М—П — –Њ–љ –≤–њ–∞–ї –≤ —Б–Љ—Г—В—Г, –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –≥–Є–±–µ–ї—М –Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –≤–љ–Њ–≤—М –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –љ–∞—А–Њ–і «–ґ–∞–ї–Ї–Є–є –Є –љ–Є–Ј–Ї–Є–є» (–Ъ–Ґ–±, 16-26). –°—В–∞–≤ –Ї–∞–≥–∞–љ–Њ–Љ –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ, –С–Є–ї—М–≥–µ «–љ–µ —Б–њ–∞–ї –љ–Њ—З–µ–є –Є –љ–µ —Б–Є–і–µ–ї (–±–µ–Ј –і–µ–ї–∞) –і–љ–µ–Љ». –Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —А–∞–Ј –Њ–љ —Е–Њ–і–Є–ї –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –Є –≤–Њ–Ј—А–Њ–і–Є–ї —Н–ї—М –Є —Б–ї–∞–≤—Г «—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞», «–њ–Њ–і–љ—П–ї –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–є –њ–Њ–≥–Є–±–љ—Г—В—М –љ–∞—А–Њ–і, —Б–љ–∞–±–і–Є–ї –њ–ї–∞—В—М–µ–Љ –љ–∞–≥–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і, —Б–і–µ–ї–∞–ї –±–Њ–≥–∞—В—Л–Љ –љ–µ–Є–Љ—Г—Й–Є–є –љ–∞—А–Њ–і, —Б–і–µ–ї–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–∞–ї–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞—А–Њ–і» (–Ъ–Ґ–±, 26-29). –С–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–Љ —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —Б–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –±—Л–ї –µ–≥–Њ –±—А–∞—В –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ.
–Ю –±–Є—В–≤–∞—Е –Є –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ, –Њ –µ–≥–Њ –і–µ–ї–∞—Е –Є –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞—Е, –Њ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–∞—Е, –Њ —Б–Ї–Њ—А–±–Є –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ 30-53-–є —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є. –≠—В–∞ —З–∞—Б—В—М –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞—З–∞—В–∞ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї 16-–ї–µ—В–љ–Є–є –Ї–љ—П–ґ–Є—З, — –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ «—Б–Њ–≥–і–∞–Ї–Њ–≤» –≤ 701 –≥., –∞ –≤ 44-50-–є —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –Њ —Б–∞–Љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –і–µ—П–љ–Є—П—Е –≤–Є—В—П–Ј—П — –µ–≥–Њ –±–Є—В–≤–∞—Е —Б —В–Њ–Ї—Г–Ј-–Њ–≥—Г–Ј–∞–Љ–Є –≤ 724 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ —Б–њ–∞—Б —Б—В–∞–≤–Ї—Г –Є —Б–µ–Љ—М—О –Ї–∞–≥–∞–љ–∞. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л—Е —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –њ–Њ—Б–ї–µ 716 –≥., —В. –µ. –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–Њ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞ (–С–Ъ–±, 30-50); —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞–Љ –і–Њ –≤–Њ—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –Ї–∞–≥–∞–љ —Г–і–µ–ї—П–µ—В –ї–Є—И—М —И–µ—Б—В—М —Б—В—А–Њ–Ї (–С–Ъ–±, 24-29).
–Т 51-–є —Б—В—А–Њ–Ї–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –≤ —З–µ—Б—В—М –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ (–•–∞ 10) «—А–µ—З—М» –Њ—В –ї–Є—Ж–∞ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –њ—А–µ—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П; —Б—В—А–Њ–Ї–Є 51-56 (–•–∞ 10-15), —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є –њ–ї–Њ—Е–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–∞—П—Б—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞ —Й–Є—В–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є —Б—Л–љ–∞ –Є –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ (–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Ґ–µ–љ–≥—А–Є-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞). –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –µ–Љ—Г –ґ–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б—В–µ—Б–∞–љ–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞
(XII) –Є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞ —Й–Є—В–µ (–•—Б). –Т 51-56-–є —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П –і–∞—В—Л —Б–Љ–µ—А—В–Є
–Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–∞—А–Њ–≤, –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—П –±–µ–≥–Њ–≤, —Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—А–Њ–љ–∞.
–Ґ–∞–Ї–Њ–≤—Л –≤–Ї—А–∞—В—Ж–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Њ–±–µ–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є.
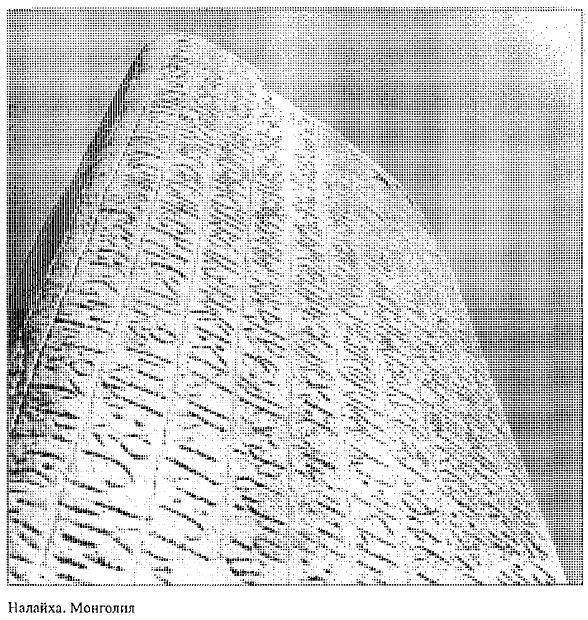
–Т –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –≤—Б–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ — «—Б–µ—А–і–µ—З–љ–∞—П —А–µ—З—М» –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞,–≤—Л—Б–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–µ–Ј—З–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ «–≤–µ—З–љ–Њ–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ»: «–ѓ –≤–µ—З–љ—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М... –Њ—В –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –њ—А–Є–≤–µ–ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Є –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї (–Є–Љ) –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —А–µ–Ј—М–±—Г. –Ю–љ–Є –љ–µ –Є–Ј–ї–Њ–Љ–∞–ї–Є (–љ–µ –Є—Б–Ї–∞–Ј–Є–ї–Є) –Љ–Њ–µ–є —А–µ—З–Є!.. –°–µ—А–і–µ—З–љ—Г—О —А–µ—З—М –Љ–Њ—О... –Ј–љ–∞–є—В–µ, —Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ (–љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї)!» (–Ъ–Ґ–Љ, 11-12). –Т –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л—Е –њ–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е «–Љ–∞–ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є» –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –±—Л–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –µ—Й–µ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –С–Є–ї—М–≥–µ (–•–ђ 14-15), –∞ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–ї–Є «—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –±–µ–≥–Є –Є –љ–∞—А–Њ–і», «—З—В–Є–≤—И–Є–µ —Н—В–Њ—В –Њ–±–µ–ї–Є—Б–Ї» (–•–∞ 15). –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —В–µ–Ї—Б—В, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є —Б—Л–љ–∞ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –±—Л–ї –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ –љ–∞ —Г–ґ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –Є–ї–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –Ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –њ–ї–Є—В—Г; —Н—В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤–∞, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–≤—И–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є –њ—А–∞–≤–Њ–є –±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б—В–µ–ї—Л –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л —П–≤–љ–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞[71]. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–±–∞ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –њ–Њ–і –µ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—В –µ–≥–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є –Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–µ—А–µ –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–ї–Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї — –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–∞, —Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П—О—Й–∞—П —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ–Є —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –µ–µ –∞–≤—В–Њ—А—Г. –Ґ–µ–Ї—Б—В –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —П—Б–љ—Л–Љ –Є —З–µ—В–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, –њ–∞–ї–Є—В—А–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–µ–Љ–Њ–≤ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–∞, –∞ –Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ —Б—В–Є–ї—П –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В—А–∞—Д–∞—А–µ—В–љ—Л–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є. –Т—Б–µ —Н—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В–µ–Ї—Б—В –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є — –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –Ї–∞–Љ–љ–µ —Г—Б—В–љ—Л–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј, –∞ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –Њ–±–ї–∞–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–µ–Ј–∞—Г—А—П–і–љ—Л–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Є —В–Њ–љ–Ї–Є–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–∞, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–∞ –Є –њ–∞–љ–µ–≥–Є—А–Є—Б—В–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–∞—П –Њ—А—Д–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Є –њ–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –±–µ–Ј—Г–Ї–Њ—А–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ –≥—А–∞–≤–µ—А—Л –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О —Б—В–∞–і–Є—О —А–∞–±–Њ—В—Л — –≤—Л—А–µ–Ј–∞–ї–Є –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –Ј–љ–∞–Ї–Є.
–Р–≤—В–Њ—А —Б–∞–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–µ –Є–Љ—П, —В—А–Є–ґ–і—Л –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–≤ –µ–≥–Њ –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Ъ—О–ї—М- —В–µ–≥–Є–љ–∞ –Є –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј — –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞: «–°—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–≤—И–Є–є —П, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞, –Ш–Њ–ї–ї—Л–≥-—В–µ–≥–Є–љ, —Н—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї. –Ф–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –і–љ–µ–є –њ—А–Њ—Б–Є–і–µ–≤ (–Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В–Њ–є), –љ–∞ —Н—В–Њ—В –Ї–∞–Љ–µ–љ—М, –љ–∞ —Н—В—Г —Б—В–µ–ї—Г (—Н—В–Њ) –≤—Б–µ —П, –Щ–Њ–ї–ї—Л–≥-—В–µ–≥–Є–љ, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї» (–Ъ II, —Б—А.: –Ъ–Ґ–Љ, 13, –Ъ I). «–Э–∞–і–њ–Є—Б—М –С–Є–ї—М–≥–µ- –Ї–∞–≥–∞–љ–∞ —П, –Ш–Њ–ї–ї—Л–≥-—В–µ–≥–Є–љ, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї. –°—В–Њ–ї—М –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П, —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є—П –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ —П, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –Ш–Њ–ї–ї—Л–≥-—В–µ–≥–Є–љ, –њ—А–Њ–≤–µ–і—П (–Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В–Њ–є) –Љ–µ—Б—П—Ж –Є —З–µ—В—Л—А–µ –і–љ—П, –њ–Њ–Ї—А—Л–ї –љ–∞–і–њ–Є—Б—П–Љ–Є –Є —Г–Ї—А–∞—Б–Є–ї» (X I)«.
–Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –љ–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –љ–Є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –љ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О—В –Ї–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –Щ–Њ–ї–ї—Л–≥-—В–µ–≥–Є–љ–µ. –І–ї–µ–љ –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Є –µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ–ї—М–і, –Щ–Њ–ї–ї—Л–≥-—В–µ–≥–Є–љ –±—Л–ї, –Ї–∞–Ї –Њ–љ —Б–∞–Љ –Ј–∞—П–≤–ї—П–µ—В, –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –љ–∞–Љ –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –њ–Є—Б–∞–≤—И–Є–Љ –љ–∞ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ. –≠—В–Њ –Њ–љ —Б–≤–Њ–µ–є —А—Г–Ї–Њ–є –љ–∞–љ–µ—Б –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ—М (–њ—А–Њ—Ж–∞—А–∞–њ–∞–ї –Є–ї–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —В—Г—И—М—О) —В–µ–Ї—Б—В –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є, –≤—Л—Б–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞—В–µ–Љ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–µ–Ј—З–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Х–Љ—Г –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е –Ј–∞—Г–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л—Е —Е—А–∞–Љ–Њ–≤. –Э–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Ї–∞–Ї –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Є –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –±—Л–ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ –Є–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤—А—П–і –ї–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—В—М —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Щ–Њ–ї–ї—Л–≥-—В–µ–≥–Є–љ–∞ –Є –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –µ–Љ—Г —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г —В–µ—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ—Л –≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е[72]. –Щ–Њ–ї–ї—Л–≥-—В–µ- –≥–Є–љ –њ–Є—Б–∞–ї —В–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Љ—Л—Б–ї—П–Љ, —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –µ–≥–Њ —Б—О–Ј–µ—А–µ–љ–∞ –Є —А–Њ–і–Є—З–∞ — –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞; –љ–µ–і–∞—А–Њ–Љ –≤—Б–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –Њ—В –ї–Є—Ж–∞ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ —Б —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ —А–µ–Ј—З–Є–Ї–Є –љ–µ –Є—Б–Ї–∞–Ј–Є–ї–Є –µ–≥–Њ «—А–µ—З–Є».
–Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–Љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–Є—В—М. –Э–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є —Н—В–Є—Е –і–≤—Г—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤, –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ —Б—В–∞–ї–Є –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є, –∞ —Б–∞–Љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ —Н—В–∞–ї–Њ–љ—Л, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—О—В —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –≤—Б–µ –і—А—Г–≥–Є–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О, –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ–±–Њ–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤ –µ—Й–µ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ. –Ы–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–≤–µ–і–Њ–≤, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–≤, –Њ–±—А–∞—В–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Ї —Н—В–Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ, –ґ–і–µ—В –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ.
–Э–∞–і–њ–Є—Б—М –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞
–Э–∞–і–њ–Є—Б—М –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–∞ E. –Э. –Ъ–ї–µ–Љ–µ–љ—Ж –≤ 1897 –≥. –Т 1898 –≥. –±—Л–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞–љ—Л —Н—Б—В–∞–Љ–њ–∞–ґ–Є –Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–ї –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—О –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –Є –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –±—Л–ї –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ –У. –†–∞–Љ—Б—В–µ–і—В–Њ–Љ (1909)[73], –С. –ѓ. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Ж–Њ–≤—Л–Љ (1925)[74], –Я. –Р–∞–ї—В–Њ (1957)8S, –Х. –Ш. –£–±—А—П—В–Њ–≤–Њ–є –Є –Т. –Ь. –Э–∞–і–µ–ї—П–µ–≤—Л–Љ (1960), –°. –У. –Ъ–ї—П—И—В–Њ—А–љ—Л–Љ (1968, 1969).
–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ —Г—А–Њ—З–Є—Й–µ –С–∞–Є–љ-–¶–Њ–Ї—В–Њ, –≤ 66 –Ї–Љ –Ї —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –Њ—В –£–ї–∞–љ-–С–∞—В–Њ—А–∞, –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ –Э–∞–ї–∞–є—Е–∞ –Є –њ—А–∞–≤—Л–Љ –±–µ—А–µ–≥–Њ–Љ —А. –Ґ–Њ–ї–∞. –Ъ–∞–Ї –Є –≤ –Ъ–Њ—И–Њ-–¶–∞–є–і–∞–Љ–µ, –љ–∞–і–њ–Є—Б—М —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —З–∞—Б—В—М—О –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ–Њ–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ —А—Г–Є–љ—Л –Ј–∞—Г–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞, –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ—Л–є —Б–∞—А–Ї–Њ—Д–∞–≥ (2,60x2,60 –Љ, –≤—Л—Б–Њ—В–∞ — 1,50 –Љ) –Є–Ј –љ–∞–њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –≤—А—Л—В—Л—Е –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л—Е –њ–ї–Є—В, —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ, –Љ–∞–ї—Л–є —Б–∞—А–Ї–Њ—Д–∞–≥ (1,50 —Е 1,50 –Љ), –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –≤—Л—Б–µ—З–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј –Ї–∞–Љ–љ—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–Є–≥—Г—А –Є —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–∞ –Ї–∞–Љ–љ–µ–є (–±–∞–ї–±–∞–ї–Њ–≤), –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞—О—Й–Є—Е –Ї —Е—А–∞–Љ—Г —Б –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. –Э–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї –Ј–і–µ—Б—М –С. –ѓ. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Ж–Њ–≤, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤—И–Є–є, —З—В–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—Л–Љ–Њ—Й–µ–љ–∞ —Б—Л—А—Ж–Њ–≤—Л–Љ –Ї–Є—А–њ–Є—З–Њ–Љ. –Т 1957 –≥. –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥—Б—П –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О. –†–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є–µ –Ј–і–µ—Б—М –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є –љ–µ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ—В—З–µ—В—Л, –љ–Њ, –њ–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—О JI. –Ш–Є—Б–ї–∞, –±—Л–ї–Є –љ–∞–є–і–µ–љ—Л –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–µ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–±—А—Г–Є –Є –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–µ –±–ї—П—Е–Є[75]. –Ю—Б–Њ–±—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–µ —В–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –ї–µ–њ–љ—Л–µ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є—П (–Љ–∞—Б–Ї–Є –і–µ–Љ–Њ–љ–Њ–≤) –Є —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Л —И—В—Г–Ї–∞—В—Г—А–Ї–Є —Б–Њ —Б—В–µ–љ –Ј–∞—Г–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞; –љ–∞ –і–µ—Б—П—В–Є –Ї—Г—Б–Ї–∞—Е —И—В—Г–Ї–∞—В—Г—А–Ї–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –љ–µ–±—А–µ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—Ж–∞—А–∞–њ–∞–љ–љ–∞—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М (16 –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤), —А–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥ –°—Н—А–Њ–і–ґ–∞–≤[76]. –≠—В–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї—Г –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞.
–Э–∞–і–њ–Є—Б—М –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞ –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–∞ –љ–∞ –і–≤—Г—Е –≤—А—Л—В—Л—Е –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В–Њ–ї–±–∞—Е, –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л—Е –≤ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –і—А—Г–≥ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –і—А—Г–≥–∞ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ–µ —Е—А–∞–Љ–∞, –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Љ–µ—В—А–∞—Е –Њ—В –љ–µ–µ. –Т—Л—Б–Њ—В–∞ —О–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–±–∞, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є (—Б—В—А–Њ–Ї–Є 1-36), — 1,70 –Љ. –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є —Б—В–Њ–ї–± (—Б—В—А–Њ–Ї–Є 37-62) –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Є–ґ–µ — 1,60 —Б–Љ. –°—В—А–Њ–Ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ –Є –Є–і—Г—В —Б–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ. –°–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –љ–µ –≤–µ–Ј–і–µ —Е–Њ—А–Њ—И–∞—П; –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є –ї–∞–Ї—Г–љ—Л –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ–ї–Є—Б–Ї–∞. –Ю—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Є –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –≤ –Ъ–Њ—И–Њ-–¶–∞–є–і–∞–Љ–µ.
–Ъ–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ–± –∞–≤—В–Њ—А–µ –Є–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ –љ–µ—В, –љ–Њ –≤ 58-–є —Б—В—А–Њ–Ї–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞: «–ѓ, –Љ—Г–і—А—Л–є –Ґ–Њ–љ—Л–Њ–Ї—Г–Ї, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М (—Н—В–Њ) –і–ї—П –љ–∞—А–Њ–і–∞ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞». –°—Г–і—П –њ–Њ —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ –њ—А–Є–њ–Є—Б–Ї–Є, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В—М –Є–ї–Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ—Л –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –±—Л–ї –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ –µ—Й–µ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П –Є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є.
–Я–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —В–µ–Ї—Б—В–∞–Љ–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є. –°—В–Є–ї—М –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Љ–µ–љ–µ–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ, —З–µ–Љ —Б—В–Є–ї—М –Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –∞–≤—В–Њ—А –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —И–Є—А–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В —В–∞–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –њ—А–Є–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –і–Є–∞–ї–Њ–≥, —Г—Б–љ–∞—Й–∞–µ—В —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –њ—А–Є—В—З–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є –љ–µ–њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –†. –Ц–Є—А–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –і–≤–µ —З–∞—Б—В–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є — –њ—А–µ–∞–Љ–±—Г–ї–∞ –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є — –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї—П—П —А–Є—В–Љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ—А–Њ–Ј—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞[77]. –Ъ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –ґ–µ –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ –њ—А–Є—И–ї–Є –Є –њ–µ—А–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ—Г –Є –С–љ–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ—Г42.
–Я–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О –љ–∞–і–њ–Є—Б—М — –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –≤ –њ–∞–љ–µ–≥–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–Њ–љ–∞—Е –∞–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–∞—П –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ –±—Л–ї. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ, –љ–Њ –Є —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї—Г —Н—В–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Є—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г.
–Т 1-–є —Б—В—А–Њ–Ї–µ –Ґ–Њ–љ—Л–Њ–Ї—Г–Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ –Њ–љ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Є–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ (qylyn-) –≤ –Ъ–Є—В–∞–µ, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–µ—Б—М «—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і» –±—Л–ї «–≤ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–Є —Г –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞». –Ф–∞–ї–µ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П —В—О—А–Ї–Њ–≤, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –≤—В–Њ—А–Њ–є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В (—Б—В—А–Њ–Ї–Є 2—19). –°—В—А–Њ–Ї–Є 20-48 — –ґ–Є–≤–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –≤–Њ–є–љ —Б –Ї—Л—А–≥—Л–Ј–∞–Љ–Є –Є —В—О—А–≥–µ—И–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –≤ –°–Њ–≥–і. –Ч–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є (48-62) — apologiaprovitasua, –±–µ–Ј—Г–і–µ—А–ґ–љ–Њ–µ –≤–Њ—Б—Е–≤–∞–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї –Є –Ј–∞—Б–ї—Г–≥, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ.
–°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Љ–љ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–Њ–Љ –≤ —В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞–ї–µ, —В. –µ. –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 716 –≥., –Є–ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї –≤–љ–Њ–≤—М —Б—В–∞–ї —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –љ–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ –µ—Й–µ –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Є–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –љ–µ—Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ–∞—П –∞–њ–Њ–ї–Њ–≥–µ—В–Є–Ї–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, —Б–Њ—З–µ—В–∞—О—Й–∞—П—Б—П —Б –Є–Ј—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—О. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –С–Є–ї—М- –≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –і–µ–ї–∞–µ—В 716 –≥. terminusaquo–љ–∞–і–њ–Є—Б–Є. JI. –С–∞–Ј–µ–љ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї 726 –≥.
–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –љ–Њ–≤—Л–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—Л, –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —В—А—Г–і–љ—Л—Е –Є –Љ–∞–ї–Њ–Є–Ј—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —З—В–Њ –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞–Љ–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —В–µ–Ї—Б—В–∞, –∞ –Њ—В—З–∞—Б—В–Є — —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –њ—А–Є –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Љ–µ—Б—В –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є. –Т –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞ –љ–µ–Њ—В–і–µ–ї–Є–Љ–∞ –Њ—В –Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤.
–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А—Г
–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А—Г –Њ—В–Ї—А—Л—В –≤ –Є—О–ї–µ 1912 –≥. –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–µ–є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –°—А–µ–і–љ–µ–є –Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–є –Т. J1. –Ъ–Њ—В–≤–Є—З–µ–Љ43. –Т 1962 –≥. –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —В—О—А–Ї–Њ–ї–Њ–≥ –≠. –Ґ—А–Є—П—А—Б–Ї–Є–є, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–≤ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–Њ–≤—Л–µ —Н—Б—В–∞–Љ–њ–∞–ґ–Є –Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є44. –Э—Л–љ–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Т. JT. –Ъ–Њ—В–≤–Є—З–∞ —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Є–ї–Є–∞–ї–µ –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –†–Р–Э.
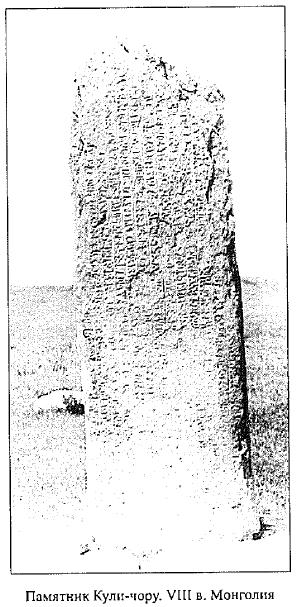 –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ш—Е–µ –•—Г—И–Њ—В—Г (–њ–Њ-–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є «–Љ–µ—Б—В–Њ, –≥–і–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї, —Б—В–µ–ї–∞»; —Е–Њ—И–Њ–Њ — «–њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї», «—Б—В–µ–ї–∞»), –≤ 200 –Ї–Љ –Ї —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і—Г –Њ—В –£–ї–∞–љ-–С–∞—В–Њ—А–∞, –≤ 30 –Ї–Љ –Ї —Б–µ–≤–µ—А—Г –Њ—В –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞ –Ф–µ–ї–≥—А—Е–∞–љ-—Б–Њ–Љ–Њ–љ (–¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–є–Љ–∞–Ї), –≤ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–є –і–Њ–ї–Є–љ–µ, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є —Б –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –Є –Ј–∞–њ–∞–і–∞ –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ–Є –≥–Њ—А–љ—Л–Љ–Є —Е—А–µ–±—В–∞–Љ–Є.
–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ш—Е–µ –•—Г—И–Њ—В—Г (–њ–Њ-–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є «–Љ–µ—Б—В–Њ, –≥–і–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї, —Б—В–µ–ї–∞»; —Е–Њ—И–Њ–Њ — «–њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї», «—Б—В–µ–ї–∞»), –≤ 200 –Ї–Љ –Ї —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і—Г –Њ—В –£–ї–∞–љ-–С–∞—В–Њ—А–∞, –≤ 30 –Ї–Љ –Ї —Б–µ–≤–µ—А—Г –Њ—В –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞ –Ф–µ–ї–≥—А—Е–∞–љ-—Б–Њ–Љ–Њ–љ (–¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–є–Љ–∞–Ї), –≤ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–є –і–Њ–ї–Є–љ–µ, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є —Б –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –Є –Ј–∞–њ–∞–і–∞ –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ–Є –≥–Њ—А–љ—Л–Љ–Є —Е—А–µ–±—В–∞–Љ–Є.
–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞, –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Т. JI. –Ъ–Њ—В–≤–Є—З–µ–Љ, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–≤—И–Є–Љ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ —Б –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–љ–Љ–Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ъ–Њ—И–Њ-–¶–∞–є–і–∞- –Љ–∞[78]. –Я–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–±–љ–µ—Б–µ–љ—Л –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ (–Є–ї–Є —Б–≥–ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤–µ–Ї–Њ–≤) –Ј–µ–Љ–ї—П–љ—Л–Љ –≤–∞–ї–Њ–Љ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є –њ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї-–Ј–∞–њ–∞–і 40 –Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ — 30 –Љ. –Т –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є, –≤ 17 –Љ –Њ—В —Б—В–µ–ї—Л, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–є —Б–∞—А–Ї–Њ—Д–∞–≥, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–Є—В–∞–Љ–Є, –≤–љ–µ—И–љ—П—П –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–Ї—А—Л—В–∞ –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ; –≤ –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–µ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В —Б—В–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є –∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л. –¶–µ–љ—В—А —Б–∞—А–Ї–Њ—Д–∞–≥–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≥—А–∞–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ—А–Њ–љ–Ї–Њ–є. –°—В–µ–ї–∞ —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є, –≤ 8 –Љ –Њ—В –µ–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞; —Б—В–µ–ї–∞ –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–∞ –љ–µ –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ —З–µ—А–µ–њ–∞—Е–Є, –∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –њ–ї–Њ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–ї–Є—В–∞–Љ–Є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ–Є –њ–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –≤—Л–µ–Љ–Ї—Г –і–ї—П –Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П —И—В—Л—А—П —Б—В–µ–ї—Л. –° –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –Ї —Б—В–µ–ї–µ –њ—А–Є –µ–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞–ї–∞ –∞–ї–ї–µ—П, –≤–і–Њ–ї—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л –ї—О–і–µ–є –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –ї—М–≤–Њ–≤. –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —З–µ—В—Л—А–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е (–і–≤–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л –ї—М–≤–Њ–≤), —Б –Њ—В–±–Є—В—Л–Љ–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–µ. –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М —В–∞—О–Ї–µ —И–µ—Б—В—М –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–Є–≥—Г—А: –і–≤–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ (–≤—Л—Б–Њ—В–∞ 0,74 –Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ 0,55 –Љ), —Б –Њ—В–±–Є—В—Л–Љ–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–µ –ї—О–і–µ–є, —Б–Є–і—П—Й–Є—Е –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–≥–љ—Г—В—Л—Е –љ–Њ–≥–∞—Е; –і–≤–µ — –Љ–µ–љ—М—И–Є—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤ (–≤—Л—Б–Њ—В–∞ 0,43 –Љ), —Б –Њ—В–±–Є—В—Л–Љ–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Є –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ (—Б–Њ—Б—Г–і–Њ–Љ?) –≤ —А—Г–Ї–∞—Е, —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –≥—А—Г–і–Є; –і–≤–µ –і—А—Г–≥–Є–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –ї–Є—И—М –≤ –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–∞—Е. –Ґ—Г—В –ґ–µ — –і–≤–∞ –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ—Л—Е –≤ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В–Њ–ї–±–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–Њ–є –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–µ—В—А–∞, –≤–Ї–Њ–њ–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О. –Э–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –Њ—В –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є –≤—Л—В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –і–ї–Є–љ–љ–∞—П —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В–Њ–ї–±–Є–Ї–Њ–≤-–±–∞–ї–±–∞–ї–Њ–≤ –і–ї–Є–љ–Њ–є –±–Њ–ї–µ–µ 1 –Ї–Љ; –Т. –Ы. –Ъ–Њ—В–≤–Є—З –љ–∞—Б—З–Є—В–∞–ї –≤ –љ–µ–є:153 –Ї–∞–Љ–љ—П, –Є–Њ —З–∞—Б—В—М –Ї–∞–Љ–љ–µ–є –њ–Њ–≤–∞–ї–µ–љ–∞ –Є–ї–Є –≤—Л–і–µ—А–љ—Г—В–∞. –°–∞—А–Ї–Њ—Д–∞–≥, —Б—В–µ–ї–∞, —Д–Є–≥—Г—А—Л –ї—М–≤–Њ–≤ –Є —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–∞ –±–∞–ї–±–∞–ї–Њ–≤ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –Њ—Б–Є –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї-–Ј–∞–њ–∞–і.
–°—В–µ–ї–∞ —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –±–ї–Њ–Ї —Б–µ—А–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–љ–Є—В–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–Њ–є 1,94 –Љ, —И–Є—А–Є–љ–Њ–є 0,6 –Љ, —В–Њ–ї—Й–Є–љ–Њ–є 0,16 –Љ (–Њ–±–Љ–µ—А—Л –≠. –Ґ—А–Є—П—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ). –°—В–µ–ї–∞ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ–Є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ–Є –њ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є –Ј–∞–њ–∞–і-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–∞—П —Б—В—А–Њ–Ї–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є — –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ, –≥–і–µ –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —Б—В—А–Њ–Ї; –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ — —Б—В—А–Њ–Ї–Є 13-25; –љ–∞ —О–ґ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ — —В—А–Є —Б—В—А–Њ–Ї–Є –Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–∞—П –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–∞—П –њ—А–Є–њ–Є—Б–Ї–∞. –Т. J1. –Ъ–Њ—В–≤–Є—З —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤—Л–≤–µ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≠. –Ґ—А–Є—П—А—Б–Ї–Є–є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –љ–∞ —Н—В–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є —Б—В–µ–ї—Л —Б–ї–µ–і–Њ–≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є. –Т—Б–µ–≥–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М 28 —Б—В—А–Њ–Ї –Є –Њ–і–љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–∞—П –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–∞—П.
–°–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П; –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ —Б—В–µ–њ—Л, –≥–і–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ —В–∞–Љ–≥–∞, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В; –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ—Е —Б—В—А–Њ–Ї, –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –ї–∞–Ї—Г–љ—Л –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—П—Е –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ.
–°—В—А–Њ–Ї–Є –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ—Л –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞ –њ—А—П–Љ—Л–Љ–Є –ї–Є–љ–Є—П–Љ–Є. –Я–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Њ–±—Л—З–љ–∞—П –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–∞—П, –Ј–љ–∞–Ї–Є –≤—Л—Б–Њ—В–Њ–є –Њ—В 2 –і–Њ 4 —Б–Љ, –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ –≤ —Б—В—А–Њ–Ї–µ –њ–Њ 79 –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤. –Я–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—О JI. –С–∞–Ј–µ–љ–∞, –њ–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–љ–∞–Ї–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В —Б—В—Г–њ–µ–љ—М —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є –Ю–Є–≥–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞[79]. –Ф–ґ. –Ъ–ї–Њ—Б–Њ–љ –Є –≠. –Ґ—А–Є—П—А—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А—Г—О—В –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –Ї –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞[80].
–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Є–Ј–і–∞–љ –Є –і–µ—И–Є—Д—А–Њ–≤–∞–љ –Р. –Э. –°–∞–Љ–Њ–є–ї–Њ–≤–Є—З–µ–Љ[81]. –•–Њ—В—П —Б–∞–Љ –Р. –Э. –°–∞–Љ–Њ–є–ї–Њ–≤–Є—З —Б—З–Є—В–∞–ї —Б–≤–Њ—О —А–∞–±–Њ—В—Г –ї–Є—И—М «–њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Њ–є –і–µ—И–Є—Д—А–Њ–≤–Ї–Є»[82], –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—Л X. –Ю—А–Ї—Г–љ–∞[83], –°. –Х. –Ь–∞–ї–Њ–≤–∞[84] –Є –Ґ. –Ґ–µ–Ї–Є–љ–∞[85] –Љ–∞–ї–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є—О —В–µ–Ї—Б—В–∞. –Ы–Є—И—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–Љ —Н—Б—В–∞–Љ–њ–∞–ґ–∞–Љ –Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П–Љ –≠. –Ґ—А–Є—П—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —Б—В–∞—А—Л—Е —Н—Б—В–∞–Љ–њ–∞–ґ–µ–є –Т. JI. –Ъ–Њ—В–≤–Є—З–∞, –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М –µ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–Њ–≤—Г—О –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є—О103.
–Я–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—О –Р. –Э. –°–∞–Љ–Њ–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞, —Б—В–Є–ї—М –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –њ—А–Њ—Б—В, –∞ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М –љ–µ–≤–µ–ї–Є–Ї[86]. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–ї–Њ—Е–∞—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Є –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –Ї–Њ–њ–Є–є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П–ї–Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є[87]. –Ш–Љ—П –∞–≤—В–Њ—А–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –≤ –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –Є –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –ї–Є—И—М –њ–Њ –љ–Њ–≤—Л–Љ —Н—Б—В–∞–Љ–њ–∞–ґ–∞–Љ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–Є: «(27)... Bäntir (Bintir) bänim (28) bilmäz biligin biltiikimin ödükimin bunca bitig bitidim (–њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ–∞—П —Б—В—А–Њ–Ї–∞) / kü/Ii cor biti/g/ bi/ti/dim»,D6, «–ѓ, –С–Є–љ—В–Є—А (–С–µ–љ—В–Є—А?), —Б—В–Њ–ї—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Є –Њ —В–Њ–Љ, —З–µ–≥–Њ —П —Б–∞–Љ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, –Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —П —Б–∞–Љ –Ј–љ–∞–ї –Є –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї. –Э–∞–і–њ–Є—Б—М –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞ —П (—В–Њ–ґ–µ) –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї»[88]. –Ю—В–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б—Б—Л–ї–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О, —Г—Б—В–љ—Г—О –Є–ї–Є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Г—О, –Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –Є–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї. –Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–∞—Ж–Є—П –њ–Њ–Ї–∞ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, –Є –Њ–љ–∞ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Є –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Н—В—Г —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—О —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Є.
–Э–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А–љ—Л—Е –і–∞—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Њ—В–њ—А–∞–≤–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Њ–є –і–ї—П –µ–µ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –і–∞—В–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –∞) –Є–Љ–µ–љ–∞ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л—Е –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Ї–∞–≥–∞–љ–Њ–≤; –±) –Є–Ј–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Є –≤) —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞ –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е.
–Р. –Э. –°–∞–Љ–Њ–є–ї–Њ–≤–Є—З –±–µ–Ј –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В –≤ 3-–є —Б—В—А–Њ–Ї–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є (–Ј–∞–њ–∞–і–љ–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞) –Є–Љ—П –≠–ї—М—В–µ—А–Є—Б-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞[89], —З–µ–Љ –і–∞–µ—В –њ–Њ–≤–Њ–і –і–ї—П —А–∞–љ–љ–µ–є –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–µ. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П—Е —Н—В–∞ –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–∞. –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –Ы. –С–∞–Ј–µ–љ, –Њ—В–Љ–µ—З–∞—П –љ–µ–њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л –Р. –Э. –°–∞–Љ–Њ–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –≠–ї—М—В–µ—А–Є—Б-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ —З–Є—В–∞—В—М –Є–Љ—П –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –Є –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞–і–њ–Є—Б—М 720-725 –≥–≥.[90] –Ы. –Э. –У—Г–Љ–Є–ї–µ–≤ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В —Б–Љ–µ—А—В—М –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞ 742 –≥., –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –њ–∞–і–µ–љ–Є—П –Т—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞; –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –≥–µ—А–Њ–є –њ–Њ–≥–Є–±, –њ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ –±–Њ—О: «–Ч–і–µ—Б—М, –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –Є—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Є –Њ–±–µ–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤—А–∞–≥–∞–Љ–Є, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–є –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—А–Њ—Б–∞–ї–∞ –≥–Њ–ї—Г–±—Л—Е —В—О—А–Њ–Ї –љ–∞ –±–Њ—А—М–±—Г —Б –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–Љ –≤—А–∞–≥–Њ–Љ –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О –Њ—В—З–Є–Ј–љ—Г. –У–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–є —Б—В–∞—А–Є–Ї –Ї–Є–і–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–µ—З—Г, —В–µ—А—П–µ—В –Ї–Њ–љ—П, –љ–Њ –љ–µ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ. –Я—Г—Б—В—М –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –і–µ—Д–µ–Ї—В–љ–∞, –љ–Њ –≤ –µ–µ –Њ—В—А—Л–≤–Њ—З–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—Е, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —Б—В–µ–њ–љ–Њ–µ –Љ–∞—А–µ–≤–Њ, —Б–Ї–≤–Њ–Ј—П—В —Б–Є–ї—Г—Н—В—Л, –љ–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ—В–Њ–≤—Б—О–і—Г –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Є... –Є —Н—В–Њ –≤—Б–µ –≤—А–∞–≥–Є. –Ъ–∞—А–ї—Г–Ї–Є –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ, –љ–∞ —О–≥–µ –Є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–µ; –љ–∞–і–Њ –Њ—В—Е–Њ–і–Є—В—М, –∞ —Б–Ј–∞–і–Є –і–Њ–Љ, —Е–∞–љ. –Э–Њ –≤–Њ—В —Е–∞–љ —Г–±–Є—В, –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М—П –≤ –њ–ї–µ–љ—Г, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –њ—А–µ—Б—В–∞—А–µ–ї—Л–є –±–Њ–≥–∞—В—Л—А—М, –≤–Є–і—П, —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –±–µ—А–µ—З—М –љ–µ—З–µ–≥–Њ, –±—А–Њ—Б–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–≤–∞–ї–Ї—Г –Є –і–∞–µ—В –≤—А–∞–≥–∞–Љ —А–∞—Б—В–Њ–њ—В–∞—В—М, —А–∞–Ј–і–∞–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ —В–µ–ї–Њ. –Ю–љ, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Т—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞, –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В—М –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–µ—Ж; –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Є–µ —В—О—А–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А, –±—Л–ї–Є —Б—В—А–∞—И–љ—Л —Б–Њ—Б–µ–і—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –њ–Њ—И–ї–Є –љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –Є—Е –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–Є–ї–Є –±–Њ–≥–∞—В—Л—А–Є»[91].
–Ы. –Э. –У—Г–Љ–Є–ї–µ–≤ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–µ —Г–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –Є–Ј –≤–Є–і—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ — –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–µ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ—Л –µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П, –і–∞ –Є —Б–∞–Љ–Њ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞, –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–∞ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞, –∞ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –њ–∞–і–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ–≥–і–∞, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ы. –Э. –У—Г–Љ–Є–ї–µ–≤–∞, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –≤ —З–µ—Б—В—М —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –Ј–љ–∞—В–Є –љ–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–∞–ї–Є—Б—М, –∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–ї–Є—Б—М. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В–µ—А—П–µ—В —Б–Љ—Л—Б–ї –≤—Б–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—Л—И–µ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ.
–Э–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –і–∞—В–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —В–∞—А–і—Г—И—Б–Ї–Є—Е –±–µ–≥–Њ–≤ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Є –Є–љ—В—А–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –С–Є–ї—М–≥–µ—П-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ (716)"', —З—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П terminuspost quem –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞.
–Р. —Д–Њ–љ –У–∞–±–µ–љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є 10-–є (–њ–Њ –µ–µ –љ—Г–Љ–µ—А–∞—Ж–Є–Є 9-–є) –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Ґ–∞–є—Е–Є—А-—З—Г–ї—Г (–•–Њ–є—В–Њ-–Ґ–∞–Љ–Є—А–∞), –≥–і–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ –≥–Є–±–µ–ї–Є –≥–µ—А–Њ—П «–≤ –≥–Њ–і –Ю–±–µ–Ј—М—П–љ—Л» (709, 721, 733), –њ—А–Є—И–ї–∞ –Ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О, —З—В–Њ –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А –њ–Њ–≥–Є–± –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –≤ –Ґ–∞–±—З–Є–≥(?), –≤ 721 –≥.,!–≥
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –њ—А–Є –љ–Њ–≤–Њ–Љ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є–Љ—П –Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –≤ 3-–є —Б—В—А–Њ–Ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞: qa/pa/γα/η/ qayan älintä qaryp ädgü bäni körti... uliiy küli cor säkiz onyasap joq bol/ty/. «–°–Њ—Б—В–∞—А–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ —Н–ї–µ –Ъ–∞–њ–∞–≥–∞–љ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –Њ–љ –≤–Є–і–µ–ї –і–Њ–±—А—Г—О —А–∞–і–Њ—Б—В—М (—Б—З–∞—Б—В—М–µ)... –Т –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–і–µ—Б—П—В–Є –ї–µ—В –Ъ—Г–ї–Є- —З–Њ—А —Г–Љ–µ—А»113. –Ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞ –њ—А–Є –Є–љ—В—А–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞ –Ъ–∞–њ–∞–≥–∞–љ–∞ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞—В—М, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є–µ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г —Д–∞–Ї—В—Л –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ –Њ–±–Њ–Є—Е –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–є — –Ф–ґ. –Ъ–ї–Њ—Б–Њ–љ–∞ –Є –≠. –Ґ—А–Є—П—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ: –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б—П—Е –Є–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –љ–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, –∞ —В—А–µ—Е, –љ–Њ—Б–Є–≤—И–Є—Е –Є–Љ—П –Є–ї–Є —В–Є—В—Г–ї –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А –Є –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–≤—И–Є—Е «–±–µ–≥–Њ–≤ —В–∞—А–і—Г—И–µ–є». –Ю–±–∞ —Г—З–µ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В, —З—В–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–є (uluy) –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А, –љ–Њ—Б–Є–≤—И–Є–є —В–∞–Ї–ґ–µ –ї–Є—З–љ–Њ–µ –Є–Љ—П –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї, –≤—В–Њ—А–Њ–є –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А –Є —В—А–µ—В–Є–є –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А –±—Л–ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л –њ—А—П–Љ—Л–Љ–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є: –і–µ–і — –Њ—В–µ—Ж — —Б—Л–љ (–≤–љ—Г–Ї). –Т —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ — –≤ —В—А–µ—Е –Є–Ј —З–µ—В—Л—А–µ—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ—Г, –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ—Г –Є –Ю–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –≤ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ–і–Ї–Є –≥–µ—А–Њ–µ–≤, –∞ –Њ–± –Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П—Е —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О—В—Б—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ы–Є—И—М –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞ –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –µ–µ –∞–≤—В–Њ—А—Г, –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –і–µ—П–љ–Є—П–Љ.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤ 1-3-–є —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Ї—А–∞—В–Ї–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Њ –і–µ–і–µ — –Ш—И–≤–∞—А–µ –І—Л–Ї–∞–љ –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М–і–µ—Б—П—В –ї–µ—В —Г–Љ–µ—А –≤ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ъ–∞–њ–∞–≥–∞–љ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, —В. –µ. –і–Њ 716 –≥. –Т 4— 17-–є —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П –Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞—Е –µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –І–∞–≤—Г—И –С–Є–ї—М–≥–µ –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞, —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –µ–≥–Њ –±–Є—В–≤—Л —Б —В–Њ–Ї—Г–Ј- –Њ–≥—Г–Ј–∞–Љ–Є, –њ–Њ—Е–Њ–і –Ј–∞ –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ—Г—О —А–µ–Ї—Г (–°—Л—А-–Ф–∞—А—М—О) (712-719), —В–∞—В–∞–±—Л (722-723); –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —В–∞—А–і—Г—И—Б–Ї–Є—Е –±–µ–≥–Њ–≤ –њ—А–Є –≤–Њ—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–Є –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —З–µ—В—Л—А–µ—Е —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е –њ–Њ–і –С–µ—И–±–∞–ї—Л–Ї–Њ–Љ — –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Є –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б—П—Е –Ґ–∞–є—Е–Є—А-—З—Г–ї—Г (–•–Њ–є—В–Њ–Љ- –Ґ–∞–Љ–Є—А–∞): «–° –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–Њ–Љ —В–∞—А–і—Г—И—Б–Ї–Є–Љ –Љ—Л –њ–Њ–є–і–µ–Љ –≤ –С–µ—И–±–∞–ї—Л–Ї, —В–∞–Ї –њ—Г—Б—В—М —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤ –Њ–љ –±—Г–і–µ—В!»'1'1
–Т 18-23-–є —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е — –ґ–Є–Ј–љ–µ–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞, –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤—Л–µ –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є — –≤ —Б–µ–Љ—М –ї–µ—В –Њ–љ —Г–±–Є–ї –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Ј–ї–∞, –≤ –і–µ–≤—П—В—М –ї–µ—В — –і–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–∞–љ–∞; –µ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б –Ї–∞—А–ї—Г–Ї–∞–Љ–Є –Є –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М –≤ –±–Њ—О. –Т 24—27-–є —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—В—Б—П –µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ—Л; –≤ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—А—П–і–∞—Е —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ–ї–∞–і—И–Є–є –±—А–∞—В –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –≠–і—М—З–Њ—А-—В–µ–≥–Є–љ, –µ—Й–µ —З–µ—В—Л—А–µ —В–µ–≥–Є–љ–∞ –Є —Б—Л–љ –Ъ—Г–ї–Є- —З–Њ—А–∞ –Щ–µ–≥–µ–љ-—З–Њ—А; —В—Г—В –ґ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П –Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є.
–£–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –і–∞–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М terminusantequem –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є 734 –≥. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –±—Л–ї —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ –њ–Њ—Б–ї–µ 723 –≥. (–≤–Њ–є–љ–∞ —Б —В–∞—В–∞–±–∞–Љ–Є) –Є –і–Њ 725 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ–є–љ—Л —Б —В–Њ–Ї—Г–Ј-–Њ–≥—Г–Ј–∞–Љ–Є, —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є –Ї–∞—А–ї—Г–Ї–Є (–Є–ї–Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ 725 –≥.). –≠—В–Є –і–∞—В—Л –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞—О—В —Б —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–∞—Б—З–µ—В–∞–Љ–Є –Ф–ґ. –Ъ–ї–Њ—Б–Њ–љ–∞, –≠. –Ґ—А–Є—П—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ы. –С–∞–Ј—Н–љ–∞.
–†–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –Є –љ–Њ–≤—Л–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Є–Ј –Ш—Е–µ –•—Г—И–Њ—В—Г, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –Љ–µ–љ—П—О—В –µ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –≤ —А—П–і—Г –і—А—Г–≥–Є—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Х—Б–ї–Є —А–∞–љ—М—И–µ –љ–µ—П—Б–љ–Њ—Б—В—М –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Е–Њ–і–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —Б –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–µ–є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–∞ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є, —В–Њ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –љ–Њ–≤–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є–Є —В–µ–Ї—Б—В–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞–Љ–Ї–Є –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Є—Е —Б–≤—П–Ј—М —Б —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є, —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є –≤ –Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–ї–∞—Е, –≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–µ –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї—Г, –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б—П—Е –Ґ–∞–є—Е–Є—А-—З—Г–ї—Г.
–Ю–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї
–Ю–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –±—Л–ї –Њ—В–Ї—А—Л—В–Э. –Ь. –ѓ–і—А–Є–љ—Ж–µ–≤—Л–Љ –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1891 –≥."5 –Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ –≠. –Ґ—А–Є—П—А—Б–Ї–Є–Љ –≤ 1962 –≥.–Ш6 –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ 17 –Ї–Љ –љ–∞ —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і –Њ—В –£—П–љ–≥–∞-—Б–Њ–Љ–Њ–љ–∞, –љ–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є —А–∞–≤–љ–Є–љ–µ, –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г —А—Г—З—М—П –Ь–∞–љ—В–Є–љ—П-–≥–Њ–ї, –≤–њ–∞–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≤ —А. –Ф–∞—А–∞–Љ–∞–ї—Л–є–љ-–≥–Њ–ї. –њ—А–∞–≤—Л–є –њ—А–Є—В–Њ–Ї —А. –Ю–љ–≥–Є–љ (–£–≤—Н—А—Е–∞–љ–≥–∞–є—Б–Ї–Є–є –∞–є–Љ–∞–Ї –Ь–Э–†). –° —Б–µ–≤–µ—А–∞ –і–Њ–ї–Є–љ–∞ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–∞ –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –≥–Њ—А–љ–Њ–є –≥—А—П–і–Њ–є (–њ–Њ H. –Ь. –ѓ–і—А–Є–љ—Ж–µ–≤—Г — –≥–Њ—А—Л –Ь–∞–љ–Є—В—Г).
–°–∞–Љ–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ь–∞–љ—В–Є–љ-—Е–Њ—И—Г (–Љ–Њ–љ–≥. —Е—Н—И–Њ–Њ «–њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї»)[92]. –Ю–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ 180 –Ї–Љ –Ї —О–≥—Г –Њ—В –Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–ї, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –І–Њ–є—А—Н–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ—Л–Љ —О–ґ–љ—Л–Љ –Є–Ј —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ «–Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е» –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –Њ–±—Й–µ–є —Н–њ–Њ—Е–Њ–є –Є —Б—О–ґ–µ—В–Њ–Љ.
–Ю–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–ї—Л, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —З–∞—Б—В—М—О –Љ–Њ–љ—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –≤ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Н—В–Њ—В –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–љ–Њ, –µ–≥–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –±–µ–≥–ї–Њ. –Я—А–Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ–Љ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≠. –Ґ—А–Є—П—А—Б–Ї–Є–Љ –≤—Л—П–≤–Є—В—М –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Ј–∞ –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є–µ 70 –ї–µ—В —Б–∞–Љ–∞ —Б—В–µ–ї–∞ –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–±–Є—В–∞ –Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј–µ–љ–∞ –≤ –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –≤ –≥. –Р—А–±–∞–є—Е—Н- —А—Н; —Д–Є–≥—Г—А—Л, –≤—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–Є—Б—М –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ—Г —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—О, –∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–∞ –Є–Ј—А—Л—В–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є —П–Љ–∞–Љ–Є; –њ–Њ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ–Њ–є –≠. –Ґ—А–Є—П—А—Б–Ї–Є–Љ, –ї–∞–Љ—Л –±–ї–Є–Ј–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–і–µ—Б—М –≤ 1920 –≥. –≥—А–∞–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–Є (–±—Л–ї–Є –љ–∞–є–і–µ–љ—Л –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л), –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–Љ —И.
usTryjorsky. The present state. P. 467.
–°—Г–і—П –њ–Њ —З–µ—А—В–µ–ґ—Г –≠. –Ґ—А–Є—П—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –љ–∞ –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–µ, –Њ–≥–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ –≤–∞–ї–Њ–Љ, –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ–Є –њ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї-–Ј–∞–њ–∞–і; —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є — 64 —Е 42 –Љ—В. –Т–Њ—В –Ї–∞–Ї –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В H. –Ь. –ѓ–і—А–Є–љ—Ж–µ–≤ –≤–љ–µ—И–љ–Є–є –≤–Є–і –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –≤ 1891 –≥.: «–Ю–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –≤–Є–і –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –≤ –≤–Є–і–µ —Б—В–Њ–ї–±–∞ –Є–ї–Є –њ–ї–Є—В—Л, –Ј–∞–Ї—А—Г–≥–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤–≤–µ—А—Е—Г, —З–µ—В—Л—А–µ—Е–≥—А–∞–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л —Б —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –љ–∞ –і–≤—Г—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞—Е, –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–є –Є –±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є; –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –±—Л–ї –≤–і–µ–ї–∞–љ –≤ –њ—М–µ–і–µ—Б—В–∞–ї, –њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –њ–ї–Є—В—Л, –Ј–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ—О. –Ю —Д–Њ—А–Љ–µ –њ—М–µ–і–µ—Б—В–∞–ї–∞ —Б—Г–і–Є—В—М –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –µ–≥–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≥—А–∞–љ–Є—В–љ—Л–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л –ї—М–≤–Њ–≤ —Б –Њ—В–±–Є—В—Л–Љ–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є. –Ы—М–≤—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Ї –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г, –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –≤ 10 —И–∞–≥–∞—Е —Б—В–Њ—П–ї–Є —З–µ—В—Л—А–µ –≥—А–∞–љ–Є—В–љ—Л–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л –±–µ–Ј –≥–Њ–ї–Њ–≤, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–µ –ї—О–і–µ–є –≤ —Б–Є–і—П—З–µ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є —Б –њ–Њ–і–Њ–≥–љ—Г—В—Л–Љ–Є –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є. –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Н—В–Є –±—Л–ї–Є –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л. –Ю–і–љ–∞ —Д–Є–≥—Г—А–∞ –Є–Љ–µ–ї–∞ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –Њ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–є—Б—П –Њ—В –Ј–µ–Љ–ї–Є, –і—А—Г–≥–Є–µ –і–≤–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л –±—Л–ї–Є —Б–Њ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞ –≥—А—Г–і–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Є —В—А–µ—В—М—П, –Њ–њ–Є—А–∞–≤—И–∞—П—Б—П —А—Г–Ї–Њ–є –љ–∞ –±–µ–і—А–Њ. –Ь–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї –Є–Љ–µ–ї –і–Њ 50 —И–∞–≥–Њ–≤ –і–ї–Є–љ—Л, –Є –µ–Љ—Г –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —А—П–і –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –Ї–∞–Љ–љ–µ–є –≤ –≤–љ–і–µ –∞–ї–ї–µ–Є –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –±–Њ–ї–µ–µ 500 —И–∞–≥–Њ–≤»[93].
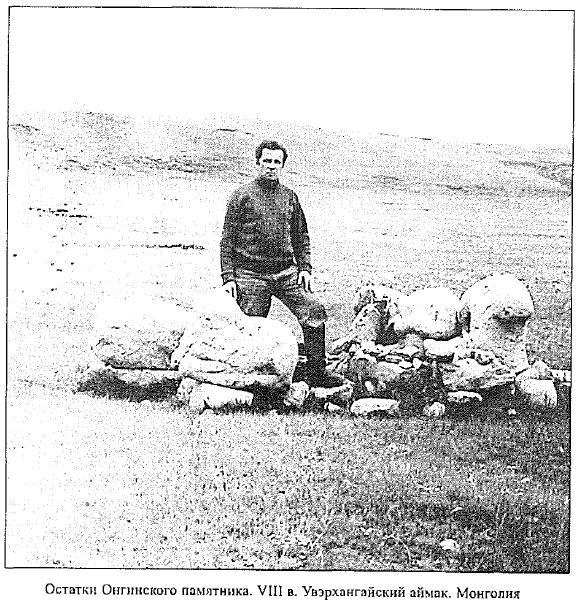
–Э.–Ь. –ѓ–і—А–Є–љ—Ж–µ–≤ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Є—И–µ—В –Њ —Б–∞—А–Ї–Њ—Д–∞–≥–µ, –љ–Њ –Њ –љ–µ–Љ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В–Т.–Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤[94], –µ–≥–Њ —А–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ –≤ «–Р—В–ї–∞—Б–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–µ–є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є» (—В–∞–±–ї. XIV, I). –°–∞—А–Ї–Њ—Д–∞–≥ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј —З–µ—В—Л—А–µ—Е –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ–ї–Є—В, –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—Й–Є—Е —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ «—П—Й–Є–Ї». –Ю—Б–Ї–Њ–ї–Њ–Ї –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Н—В–Є—Е –њ–ї–Є—В, –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ, —Б—Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≠. –Ґ—А–Є—П—А—Б–Ї–Є–є[95].
–Я–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П–Љ –≠. –Ґ—А–Є—П—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є–Ј–≤–∞—П–љ–Є—П –ї—О–і–µ–є (—Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞) –±—Л–ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –њ–µ—А–µ–і –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–ї–Є—В–Њ–є, —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –∞–ї—В–∞—А–µ–Љ. –†—П–і–Њ–Љ —Б–Њ —Б—В–∞—В—Г—П–Љ–Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П —Б—В–Њ–ї–± (–њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞) —Б –Ї–∞–≥–∞–љ- —Б–Ї–Њ–є —В–∞–Љ–≥–Њ–є — —Б—В–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –≥–Њ—А–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Ј–ї–Њ–Љ. –Т—Л—Б–Њ—В–∞ —Б—В–∞—В—Г–є — 0,68 –Љ. –Т –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї–∞, –≤ —Ж–µ–њ–Є –±–∞–ї–±–∞–ї–Њ–≤, H. –Ь. –ѓ–і—А–Є–љ—Ж–µ–≤—Л–Љ –±—Л–ї –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Б—В–Њ–ї–±–Є–Ї —Б –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —В–∞–Љ–≥–Њ–є –Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О, –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤—Л–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—В–µ–ї–Њ–є –≤ «–Р—В–ї–∞—Б–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–µ–є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є» (—В–∞–±–ї. XXXIII, 5). –¶–µ–њ–Њ—З–Ї–∞ –±–∞–ї–±–∞–ї–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї–∞—Е, –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞–ї–∞ –Ї –Њ–≥—А–∞–і–µ —Б –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞.
–°–∞–Љ–∞ —Б—В–µ–ї–∞, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ–∞—П H. –Ь. –ѓ–і—А–Є–љ—Ж–µ–≤—Л–Љ insitu, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–є –≤ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –≥—А–∞–љ–Є—В–љ—Л–є —Б—В–Њ–ї–± –≤—Л—Б–Њ—В–Њ—О –≤ 2 –Љ, —Б –Ј–∞–Ї—А—Г–≥–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ–Љ. –Э–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –њ–Њ –ї–Є—Ж–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ (8 —Б—В—А–Њ–Ї) –Є –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –±–Њ–Ї–Њ–≤—Л—Е –≥—А–∞–љ–µ–є (4 —Б—В—А–Њ–Ї–Є); –њ–Њ —В–Њ–є –ґ–µ –±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є, –≤–≤–µ—А—Е—Г, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –µ—Й–µ 7 –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ—Л—Е —Б—В—А–Њ–Ї –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є. –Э–∞ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–Є, –њ–Њ –ї–Є—Ж–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ, –≤—Л–≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–∞—П —В–∞–Љ–≥–∞ (—Б—В–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≥–Њ—А–љ—Л–є –Ї–Њ–Ј–µ–ї) –Є –і–≤–µ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —В–∞–Љ–≥–Є. –Э–∞–і–њ–Є—Б—М —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞ –ї–∞–Ї—Г–љ–∞–Љ–Є. –≠—Б—В–∞–Љ–њ–∞–ґ–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –±—Л–ї–Є –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ «–Р—В–ї–∞—Б–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–µ–є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є» (—В–∞–±–ї. XXVI, XXXIII).
–Я–µ—А–≤–Њ–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–ї –Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤[96].
 –Ю—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Є–љ—Л—Е —Н—Б—В–∞–Љ–њ–∞–ґ–µ–є –Є —Е–Њ—А–Њ—И–Є—Е —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —А–µ–≤–Є–Ј–Є—О —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П, –Є –Т. –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Ї–∞–Ї –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –і–µ—Д–µ–Ї—В–љ—Л—Е –Є —В–µ–Љ–љ—Л—Е, –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤—Л–Љ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞—Е –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –µ–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В[97]. –Ґ–µ–Ї—Б—В –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –Т. –Т. –†–∞–і- –ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ—Л X. –Ю—А–Ї—Г–љ–Њ–Љ[98] –Є –°. –Х. –Ь–∞–ї–Њ–≤—Л–Љ[99] —Б –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Э–Њ–≤—Л–є –Њ–њ—Л—В —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ –Ф–ґ. –Ъ–ї–Њ—Б–Њ–љ–Њ–Љ VIII –≤.[100]. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —В–µ–Ї—Б—В –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В–∞ –Ґ. –Ґ–µ–Ї–Є–љ–Њ–Љ[101], –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–і–µ–ї–∞–ї —А—П–і —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є–є, –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –і–ї—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є.
–Ю—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Є–љ—Л—Е —Н—Б—В–∞–Љ–њ–∞–ґ–µ–є –Є —Е–Њ—А–Њ—И–Є—Е —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —А–µ–≤–Є–Ј–Є—О —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П, –Є –Т. –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Ї–∞–Ї –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –і–µ—Д–µ–Ї—В–љ—Л—Е –Є —В–µ–Љ–љ—Л—Е, –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤—Л–Љ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞—Е –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –µ–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В[97]. –Ґ–µ–Ї—Б—В –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –Т. –Т. –†–∞–і- –ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ—Л X. –Ю—А–Ї—Г–љ–Њ–Љ[98] –Є –°. –Х. –Ь–∞–ї–Њ–≤—Л–Љ[99] —Б –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Э–Њ–≤—Л–є –Њ–њ—Л—В —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ –Ф–ґ. –Ъ–ї–Њ—Б–Њ–љ–Њ–Љ VIII –≤.[100]. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —В–µ–Ї—Б—В –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В–∞ –Ґ. –Ґ–µ–Ї–Є–љ–Њ–Љ[101], –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–і–µ–ї–∞–ї —А—П–і —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є–є, –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –і–ї—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є.
–Я–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ю–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –Ъ–Њ—И–Њ- —Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤, –Є, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О
–Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤–∞, –≤ –њ–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –µ—Б—В—М —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л, —Б–±–ї–Є–ґ–∞—О—Й–Є–µ –µ–µ —Б –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–Љ —А—Г–љ–Є–Ї–Є[102].
–Э–µ—П—Б–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Є–Ј-–Ј–∞ –Љ–∞–ї—Л—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —В–µ–Ї—Б—В–∞ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л—Е —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –Є –∞—В—А–Є–±—Г—Ж–Є–Є. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–Љ–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —В—А–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞: –∞) –≤ —З–µ—Б—В—М –Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї? –±) –Ї—В–Њ –µ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А? –≤) –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Є–ї–Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ —В–µ–Ї—Б—В?
–Я–Њ —З—В–µ–љ–Є—О –Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤–∞, –≥–µ—А–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є — –Щ–ї—М—В–µ—А–Є—И-–Ї–∞–≥–∞–љ (–Ъ—Г—В–ї—Г–≥), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Љ–µ–љ—Г–µ—В—Б—П –Ґ–∞—З–∞–Љ. –£–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–є –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –≥–Њ–і –Ф—А–∞–Ї–Њ–љ–∞ — —Н—В–Њ –≥–Њ–і —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ш–ї—М—В–µ—А–Є—И-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ (692). –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤ —З–µ—Б—В—М –Ш–ї—М—В–µ—А–Є—И-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ, 693 –≥.[103] –≠—В–∞ –∞—В—А–Є–±—Г—Ж–Є—П –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ–ї–≥–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞—Б—М –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—П—Б—М –ї–Є—И—М –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–Ї–µ; –Ю–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —Б—З–Є—В–∞–ї–Є —Б–∞–Љ—Л–Љ —А–∞–љ–љ–Є–Љ –Є–Ј –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤[104]. –Ґ–∞–Ї, –Р. –Э. –С–µ—А–љ—И-—В–∞–Љ, —Г—В–Њ—З–љ—П—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Г –†–∞–і–ї–Њ–≤–∞, —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –±—Л–ї –Љ–ї–∞–і—И–Є–є –±—А–∞—В –Ъ—Г—В–ї—Г–≥–∞ –Ь–Њ—З–ґ–Њ (–Ъ–∞–њ–∞- –≥–∞–љ-–Ї–∞–≥–∞–љ), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ–Њ—А—Г–і–Є–ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤ 704 –≥.[105]
–Ъ—А–Є—В–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞—З–∞—В–∞ –Я. –Я–µ–ї—М–Њ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤—И–Є–Љ, —З—В–Њ –Ш–ї—М—В–µ—А–Є—И-–Ї–∞–≥–∞–љ —Г–Љ–µ—А –љ–µ –≤ 692 –≥. (–≥–Њ–і –Ф—А–∞–Ї–Њ–љ–∞ –њ–Њ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —Ж–Є–Ї–ї—Г), –∞ –≤ 691 –≥. (–≥–Њ–і –Ч–∞–є—Ж–∞)[106].
–Ю—Б–Њ–±–Њ –≤—Л–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–љ–µ–љ–Є–µ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Њ–≥–Њ –•–Є–і–µ–Љ–Є –Ю–љ–Њ–≥–∞–≤–∞, –њ–µ—А–µ–≤–µ–і—И–µ–≥–Њ –љ–∞ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї –Ю–љ–≥–Є–љ—Б–Ї—Г—О –љ–∞–і–њ–Є—Б—М; –њ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ 716 –≥., –≤ —З–µ—Б—В—М –Ь–Њ—З–ґ–Њ (–Ъ–∞–њ–∞–≥–∞–љ-–Ї–∞–≥–∞–љ) –µ–≥–Њ —Б—Л–љ–Њ–Љ –Ф—Г- —Б–Є—Д—Г[107].
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —Б—В–∞—А–Њ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ, –Є –Р. —Д–Њ–љ –У–∞–±–µ–љ, –∞ –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –љ–µ–є –Є –Ы—О –Ь–∞–Њ-—Ж–Ј–∞–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –њ—А–µ–ґ–љ—О—О –∞—В—А–Є–±—Г—Ж–Є—О –Ю–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –Ш–ї—М—В–µ—А–Є—И-–Ї–∞–≥–∞–љ—Г, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –µ–≥–Њ –Љ–ї–∞–і—И–Є–Љ –±—А–∞—В–Њ–Љ –Ь–Њ—З–ґ–Њ (–Ъ–∞–њ–∞–≥–∞–љ- –Ї–∞–≥–∞–љ)535. –Ґ–Њ, —З—В–Њ –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Њ–± –∞–≤—В–Њ—А–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є — –Є–Љ –±—Л–ї –љ–µ –±—А–∞—В, –∞ —Б—Л–љ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ, –Р. —Д–Њ–љ –У–∞–±–µ–љ –Њ—В–љ–µ—Б–ї–∞ –Ј–∞ —Б—З–µ—В –Њ—Б–Њ–±—Л—Е «–≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є —А–µ—Б–њ–µ–Ї—В–∞» –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —Г–Љ–µ—А—И–µ–Љ—Г. –Э–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–µ –Є–Љ—П –Ї–∞–≥–∞–љ–∞ tacam –Р. —Д–Њ–љ –У–∞–±–µ–љ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В –Ї–∞–Ї —Г–Љ–µ–љ—М—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ-–ї–∞—Б–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г «–Љ–Њ–є –±–∞—В—О—И–Ї–∞» (atacyra).
–Т 1957 –≥., –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є—П –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –Ф–ґ. –Ъ–ї–Њ—Б–Њ–љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї: –∞) –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В –≤ —З–µ—Б—В—М –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ш–ї—М—В–µ—А–Є—И-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –≠–ї–µ—В–Љ–Є—И–∞-—П–±–≥—Г, –µ–≥–Њ —Б—Л–љ–Њ–Љ; –±) –≠–ї–µ—В–Љ–Є—И —Г–Љ–µ—А –љ–µ –≤ –≥–Њ–і –Ф—А–∞–Ї–Њ–љ–∞, –∞ –≤ –≥–Њ–і –Ю–≤—Ж—Л. –Т—Б–ї–µ–і –Ј–∞ —В–µ–Љ –Ф–ґ. –Ъ–ї–Њ—Б–Њ–љ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї, —З—В–Њ –≥–Њ–і —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –њ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –Є–Љ–µ–ї –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–Љ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Ї 732-734 –≥–≥. (–≥–Њ–і –Ю–≤—Ж—Л — 731 –≥.)[108].
–Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Ы. –Э. –У—Г–Љ–Є–ї–µ–≤–∞, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ –њ—А–Є–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї—Г –Ф–ґ. –Ъ–ї–Њ—Б–Њ–љ–∞, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤ 728 –≥. –≤ —З–µ—Б—В—М —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –≤ 719 –≥. –Р–ї–њ –≠–ї–µ—В- –Љ–Є—И–∞137.
–Ы. –С–∞–Ј—Н–љ, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П, —Б –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –Є –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є—О –Ф–ґ. –Ъ–ї–Њ—Б–Њ–љ–∞, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–∞—П—Б—П –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –Є –і–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ–∞—П –њ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–Љ–µ—А—В–Є –≥–µ—А–Њ—П — –≠–ї–µ—В–Љ–Є- —И–∞-—П–±–≥—Г, 719 –Є–ї–Є 731 –≥., –Є–Ј-–Ј–∞ –∞—А—Е–∞–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –≥—А–∞—Д–Є–Ї–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –Ї 719-720 –≥–≥.135
–Ґ. –Ґ–µ–Ї–Є–љ –љ–µ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В –љ–Њ–≤—Л—Е –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї, –љ–Њ —Г—В–Њ—З–љ—П–µ—В —З—В–µ–љ–Є–µ 4-–є —Б—В—А–Њ–Ї–Є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–µ–є –Є–Љ–µ–љ–∞ –∞–≤—В–Њ—А–∞ –Є –≥–µ—А–Њ—П –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є: «... /–ѓ/ — –С–Є–ї—М–≥–µ –Ш—И–±–∞—А–∞ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–љ-—В–∞—А–Ї–∞–љ, —Б—Л–љ –≠–ї–µ—В–Љ–Є—И-—П–±–≥—Г –Є –Љ–ї–∞–і—И–Є–є –±—А–∞—В –Ш—И–±–∞—А–∞ –Ґ–∞–Љ–≥–∞–љ-—З–Њ—А- —П–±–≥—Г»—И. –Ф–∞–ї–µ–µ –≤ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤ —З–µ—Б—В—М –Њ—В—Ж–∞ –≥–µ—А–Њ—П –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –≤ «—Б–µ–і—М–Љ–Њ–є –Љ–µ—Б—П—Ж –≥–Њ–і–∞ –Ю–≤—Ж—Л», –љ–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В –≤ –≥–Њ–і –Ф—А–∞–Ї–Њ–љ–∞.
–Р–љ–љ–∞–ї—Л –Є–ї–Є –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В
–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П–Љ –Є –љ–Њ–≤–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є–Є —В–µ–Ї—Б—В–∞, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤ —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –Ф–ґ. –Ъ–ї–Њ—Б–Њ–љ–∞ –Є –Ґ. –Ґ–µ–Ї–Є–љ–∞, —Н—В–Њ—В «–Ј–∞–њ—Г—В–∞–љ–љ—Л–є» –Є «—В–µ–Љ–љ—Л–є», –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–∞—В—Л –µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П (720-732?), —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Н–њ–Њ—Е–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ –Є –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–≤—Г—Е –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–є –µ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є.
–Т–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–є –Љ–µ—В–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –њ—А–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –ї—О–±–Њ–≥–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ — –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞. –Ґ–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—В–∞ –≤ —Г—З–µ—В–µ –Є –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є — —В–∞–Ї–Њ–≤—Л –ї–Є—И—М –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ –Є–Ј –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–µ–≤ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞, –љ–Њ –Є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М, –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—В–∞, –Є —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ, –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П, –Є –≤—В–Њ—А–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Є—Б—П—В –Њ—В —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –∞–≤—В–Њ—А–∞, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ —Н–њ–Њ—Е–Њ–є –Є —Б—А–µ–і–Њ–є, –Њ—В –µ–≥–Њ —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–є –Є –∞–љ—В–Є–њ–∞—В–Є–є, –Њ—В –µ–≥–Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, —Г–Љ–∞, —В–∞–ї–∞–љ—В–∞.
–Ъ–∞–Ї —Г–ґ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М, –Щ–Њ–ї–ї—Л–≥-—В–µ–≥–Є–љ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, –∞ —Б–Ї—А—Г–њ—Г–ї–µ–Ј–љ–Њ—Б—В—М, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї .—Б–Њ–±—Л—В–Є—П, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, –і–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є. –Э–Њ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є — –љ–µ —Б—Г—Е–Њ–є –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М —Д–∞–Ї—В–Њ–≤, –≤ –љ–Є—Е –љ–µ—В –Є —В–µ–љ–Є –±–µ—Б–њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–Є—П. –Ґ–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ш–Њ–ї–ї—Л–≥-—В–µ–≥–Є–љ «–≤—Л—А–µ–Ј–∞–ї –љ–∞ –≤–µ—З–љ–Њ–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ», –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О —Ж–µ–ї—М — —В–∞–Ї –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Е–Њ–і –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞, —З—В–Њ–±—Л —Г–±–µ–і–Є—В—М —З–Є—В–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –≤ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є —Ж–∞—А—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, –≤ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ–њ–Њ–≥—А–µ—И–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –≤ –њ—А—П–Љ–Њ–є –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–∞-—В—О—А–Ї–∞ –Њ—В –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Ј–ї—П, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–Њ–Љ, –Њ—В –љ–µ–њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–±–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –Ї–∞–≥–∞–љ–Њ–Љ «—Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤». –Т—Б–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–µ—Г–і–∞—З–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л –Ї–∞–Ї —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –Є–Ј–Љ–µ–љ—Л, –љ–µ–њ–Њ–≤–Є–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Ї–∞–≥–∞–љ—Г «–±–µ–≥–Њ–≤ –Є –љ–∞—А–Њ–і–∞», –∞ –≤—Б–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Є —А–Є—Б—Г—О—В—Б—П –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В–Є –Є –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –µ–Љ—Г –ї–Є—Ж.
–Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —В–∞–Ї–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –ї–Є–Љ–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–∞ –Њ—В–±–Њ—А —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л—Е —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –≤ –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б—П—Е –Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –Є –µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞. –£–Ј–Њ–Ї –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –і–Є–∞–њ–∞–Ј–Њ–љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —· –Њ–љ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є –Т—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞–Љ–Є. –Ъ –Є—Е —З–Є—Б–ї—Г –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –∞—Г—В–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М — –∞–≤—В–Њ—А –њ–Є—Б–∞–ї –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–∞ –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Є–ї–Є –≤ –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–Љ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ, –Њ —Д–∞–Ї—В–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ–Љ—Г, —З–ї–µ–љ—Г –љ–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞, –±—Л–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ —Н—В–Є —Д–∞–Ї—В—Л –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –Є –µ–≥–Њ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П–Љ, –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ –Є –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ—Г, –њ–Њ–Ї–∞ –Њ–љ –±—Л–ї –ґ–Є–≤, –Є –Ш–Њ–ї–ї—Л–≥-—В–µ–≥–Є–љ—Г. –≠—В–Є–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –і–Њ –Љ–µ–ї–Њ—З–µ–є —В–Њ—З–љ–Њ, –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–µ. –Ґ–∞–Ї, –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—О—В—Б—П —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ –Є–ї–Є –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ. –Ч–і–µ—Б—М –∞–≤—В–Њ—А –Њ—З–µ–љ—М —А–µ–і–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б–µ–±–µ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П — –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –Њ–љ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ—В, –∞ –љ–µ –≤–Њ—Б–њ–µ–≤–∞–µ—В, –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А—Г–µ—В —Д–∞–Ї—В—Л, –∞ –љ–µ —Г–Ї—А–∞—И–∞–µ—В –Є—Е. –Т–љ—Г—В—А–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–Њ–≤, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –∞–љ–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї–µ, —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Є–Ј–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П –≤ –љ–µ–љ–∞—А—Г—И–∞–µ–Љ–Њ–є —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ —Б—В—А–Њ–є–љ–Њ–є –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є.
–Т—Б–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ —Б–ї–∞–±—Л—Е –Є —Б–Є–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞—Е –Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Є –Ї –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞ —Б —В–Њ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–µ–є, —З—В–Њ —Ж–µ–ї–µ–≤–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –∞–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Г—Б–∞, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Н—В–Є–Љ –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–Љ –і–µ—П—В–µ–ї–µ–Љ –Т—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞, –±—Л–ї–∞ –Є–љ–Њ–є. –° —В–Њ–є –ґ–µ —Б—В—А–∞—Б—В—М—О, –Ї–∞–Ї–∞—П –њ–Њ–±—Г–ґ–і–∞–ї–∞ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П –µ–≥–Њ –≤–Њ–ї–Є –Ш–Њ–ї–ї—Л–≥-—В–µ–≥–Є–љ–∞ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—П—В—М –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞, –Ґ–Њ- –љ—М—О–Ї—Г–Ї —Г–±–µ–ґ–і–∞–µ—В —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П, —З—В–Њ –±–µ–Ј –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –љ–Є –Њ–і–Є–љ –Ї–∞–≥–∞–љ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –±—Л –њ—А–∞–≤–Є—В—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ, –∞ –≤—Б–µ —Б–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Є –і–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–µ –Њ–±–Њ—И–ї–Њ—Б—М –±–µ–Ј –µ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є—П –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Ф–∞–ґ–µ —В–Њ, —З—В–Њ –Ш–ї—М—В–µ—А–Є—И —Б—В–∞–ї –Ї–∞–≥–∞–љ–Њ–Љ, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –≤–Њ–ї–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –µ–≥–Њ, –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞, –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П–Љ –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ (–Ґ–Њ–љ., 6-7). –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ —Б—В—А–Њ–Ї–Є –Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є, –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ –Є –Є–љ—В—А–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Ш–ї—М—В–µ—А–Є—И–∞ –Ї–∞–Ї —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Э–µ–±–∞, –±—Л–ї–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Њ—В–≤–µ—В–Њ–Љ –љ–∞ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞ — –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞ –≤ –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞.
–°–ї—Г—З–∞–Є —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–є –Є –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–Њ–Љ –Є –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г- –Ї–Њ–Љ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л –Є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є; –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї —А–µ–Ј–Ї–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –њ—А–Є–љ—П—В—М –±—Г–і–і–Є–Ј–Љ[109]. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –і–∞—О—В –Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –і–ї—П –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–µ—З–µ–љ–Є–є –≤–љ—Г—В—А–Є –њ—А–∞–≤—П—Й–µ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞; –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Г–њ—А–µ–Ї–∞–µ—В –±–µ–≥–Њ–≤ –≤ —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є «–њ–Њ–≥—А–µ—И–∞—В—М» –Є «–Њ—В–і–µ–ї—П—В—М—Б—П» — –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —Б–µ–њ–∞—А–∞—В–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –±—Л–ї–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–Є–ї—М–љ—Л. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є –њ—А–Њ–Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –Ј–љ–∞—В–Є, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –∞–њ–µ–ї–ї–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–∞—П –і–ї—П –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–Є—Е —Ж–µ–ї–µ–є –Ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є; –Њ—В —Н—В–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є, –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–љ–Њ–є –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ—Г, –Њ—В–Љ–µ–ґ–µ–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї: «...–љ–∞ —Н—В–Њ—В (—Б–≤–Њ–є) —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і —П –љ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–ї –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤—А–∞–≥–Њ–≤ –Є –љ–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–љ—Г—О –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Г» (–Ґ–Њ–љ., 54).
–Ґ–∞–Ї–∞—П —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є –њ—А–Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Є—Е –Є —В–µ—Е –ґ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Њ–±–ї–µ–≥—З–∞–µ—В –Ј–∞–і–∞—З—Г –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞. –Т —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–µ–є—Б—П –≤ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Њ–є –µ–µ –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і–µ—В –≤–Є–і–љ–Њ –љ–Є–ґ–µ, –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤.
–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —Б—В—А–Њ–є–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є —Б—В—А–Њ–≥–∞—П –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –ї–∞–Ї–Њ–љ–Є—З–љ–Њ—Б—В—М —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞, –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–Є–≤—И–∞—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —В—А–∞—Д–∞—А–µ—В–љ—Л—Е –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є –Є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї, –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ —Д—А–∞–Ј—Л, –µ–і–Є–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ —Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–Њ–Љ–µ–љ–Ї–ї–∞—В—Г—А—Л, –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є–Ј–Љ –≤ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ — –≤—Б–µ —Н—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М –њ—А–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –і—А—Г–≥–Њ–є –Љ–µ—В–Њ–і, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –љ–∞ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –ї–Њ–≥–Є–Ї–Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞, –љ–∞ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Њ–і–љ–Њ—В–Є–њ–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї –Є –µ–і–Є–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–є. –≠—В–Њ—В –∞–љ–∞–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—В–Њ–і –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–∞—А–∞—В–Є–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–µ–Љ–Њ–≤ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –±–Њ–ї–µ–µ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –ї–Є—И–∞–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ—Л–µ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—П –Є —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Г—В–Њ—З–љ–Є—В—М –Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –і–∞–ґ–µ —В–µ—Е –Љ–µ—Б—В –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ—Л.
–°—А–µ–і–љ—П—П –Р–Ј–Є—П –≤ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–∞—Е
–Ш–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є –±—Л–ї–Њ –љ–∞—З–∞—В–Њ –С–∞—А—В–Њ–ї—М–і–Њ–Љ –Є –Ь–∞—А–Ї–≤–∞—А—В–Њ–Љ. –Ю–±–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –Ј–∞–і–∞—З–Є —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —А—Г–љ–Є–Ї–Є —Б –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П–Љ–Є –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤. –У–ї–∞–≤–љ–∞—П –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –С–∞—А—В–Њ–ї—М–і—Г. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –С–∞—А—В–Њ–ї—М–і, –Њ–њ–Є—А–∞–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ –љ–µ–≤–µ—А–љ—Г—О —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О (—Б –Њ—И–Є–±–Ї–Њ–є –љ–∞ –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В), –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Г—О –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є, –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М —Б–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ.
–Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –ї–µ—В–Њ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—П –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —З–µ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –С–∞–љ–≥—Г –Є –Ь–∞—А–Ї–≤–∞—А—В—Г, –С–∞—А—В–Њ–ї—М–і, –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ –Ї–∞–Ї —Б–≤–Њ–Є –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ, —В–∞–Ї –Є –≤–љ–Њ–≤—М –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Ь–∞—А–Ї–≤–∞—А—В–Њ–Љ –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є, –љ–∞—И–µ–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —В–Њ—З–Ї–Є —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ—Л—Е –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤1,11. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≥–Њ–і—Л —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –Њ—А—Е–Њ–љ–Є–Ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –љ–µ —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї—Б—П.
–Т—Б–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–µ—Б—П –Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є—В—М –љ–∞ —В—А–Є –≥—А—Г–њ–њ—Л.
I. –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Њ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –њ–µ—А–Є–Њ–і—Л –µ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є:
1. –£–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В (Tämir qapyy— –Ї—А–∞–є–љ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞ —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—О—А–Ї–Њ–≤ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –С—Г–Љ—Л–љ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –Є –Ш—Б—В–µ–Љ–Є-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ (VI –≤.)) (–Ъ–Ґ–±, 2; –С–Ъ–±, 4).
2. –£–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Ъ–µ–љ–≥—О-–Ґ–∞—А–±–∞–љ–∞ (Kat/ii tarban)— –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ъ–∞–њ–∞–≥–∞–љ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ — –і–Њ 716 –≥. (–Ъ–Ґ–±, 21; –С–Ъ–±, 18).
–Ш. –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е, –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є—Е –≤ —Б—В–∞–≤–Ї—Г —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–≥–∞–љ–Њ–≤ –Є–Ј –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є –Є —Б—В—А–∞–љ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї –Ј–∞–њ–∞–і—Г –Њ—В –љ–µ–µ:
1. –£–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –∞ –њ–Є—А –Є –∞–њ—Г—А—Г–Љ (–≤–∞—А.: –њ—Г—А—Г–Љ), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, «–њ—А–Є–і—П, —Б—В–Њ–љ–∞–ї–Є –Є –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–Є» –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ –њ–µ—А–≤—Л—Е —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–≥–∞–љ–Њ–≤ (–Ъ–Ґ–±, 4; –С–Ъ–±, 3).
2. –£–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–Њ–≤ –Њ—В –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ sogd bärcäkär buqciraqulus–Э–µ–Ї- —Б–µ–љ–≥—Г–љ–∞ –Є –Ю–≥—Г–ї-—В–∞—А—Е–∞–љ–∞ (ncik sä>]ün ογιιί tarqan).–њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є—Е –љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ—Л –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞ (–Ъ–Ґ–±, 52).
III. –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ—Б—П –≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е. –Ч–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П, –≤—Б–µ –Њ–љ–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В—Л—Е –≥–µ—А–Њ—П–Љ–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є:
1. –£–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і –і–Њ –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В –Љ–µ–ґ–і—Г 630-680 –≥–≥. (–Ъ–Ґ–±, 8; –С–Ъ–±, 8).
2. –£–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і —Б –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Њ–є —З–µ—А–µ–Ј –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ—Г—О —А–µ–Ї—Г (Yäncii iigiiz) –Є –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В (VIII –≤.) (–Ъ–Ґ–Љ, 3-4; –С –Ъ–Љ, 3).
3. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞ –Є –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –љ–∞ altycubsoydag (VIII –≤.) (–Ъ–Ґ–±, 31; –С–Ъ–±, 24-25).
4. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞ –Є –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –≤ –°–Њ–≥–і —Б –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Њ–є —З–µ—А–µ–Ј –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ—Г—О —А–µ–Ї—Г –Є –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В (VIII –≤.) (–Ъ–Ґ–±, 38—41).
5. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞ –≤ –°–Њ–≥–і —Б –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Њ–є —З–µ—А–µ–Ј –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ—Г—О —А–µ–Ї—Г –Є –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В (–Ґ–Њ–љ., 43-48).
6. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і —Б –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Њ–є —З–µ—А–µ–Ј –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ—Г—О —А–µ–Ї—Г –Є –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В (–Ъ–І, 36).
–°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є–µ—Б—П —В—О—А–≥–µ—И–µ–є –Є «–љ–∞—А–Њ–і–∞ –і–µ—Б—П—В–Є —Б—В—А–µ–ї», –Њ—Б–Њ–±–Њ –љ–µ –≤—Л–і–µ–ї—П—О—В—Б—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ–±—Й–Є–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –Ї–∞–Ї –°—А–µ–і–љ—О—О –Р–Ј–Є—О, —В–∞–Ї –Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В. –Э–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Ґ–Њ–љ—М—О- –Ї—Г–Ї–∞ (–Ґ–Њ–љ., 14) –Њ –Ї—Г—А–і–∞–љ–∞—Е (–Ъ—Г—А–і–∞–љ?), —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–≤—И–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤—Г –Ш–ї—М—В–µ—А–Є—И- –Ї–∞–≥–∞–љ–∞ —Б –Ј–∞–њ–∞–і–∞ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 80-—Е –≥–≥. VII –≤., –≤—А—П–і –ї–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є. –Э–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є –Є —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤ –∞–њ–∞—А –Є –њ—Г—А—Г–Љ.
–Я–µ—А–≤—Л–є —Н—В–љ–Њ–љ–Є–Љ –њ–µ—А–µ–і–∞–µ—В —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –∞–≤–∞—А, —В–Њ—З–љ–µ–µ, —Б—Г–і—П –њ–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ –§–µ–Њ—Д–Є–ї–∞–Ї—В–∞ –°–Є–Љ–Њ–Ї–∞—В—В—Л, –њ—Б–µ–≤–і–Њ–∞–≤–∞—А[110]. –У–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Њ —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ –∞–≤–∞—А —Б –ґ—Г–ґ–∞–љ–∞–Љ–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–∞—П –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –љ–Њ–≤–Њ–µ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ[111], –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –љ–Є –≤ –Ї–Њ–µ–є –Љ–µ—А–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–∞ –Ї –њ—Б–µ–≤–і–Њ–∞–≤–∞—А–∞–Љ, –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ—П—Е –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ VI –≤. –Є —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —В–∞–Љ —В—О—А–Ї–∞–Љ–Є –≤ 60-—Е –≥–≥. —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П[112]'14. –Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Њ–± –∞–≤–∞—А–∞—Е –≤ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е (–љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ –∞–≤–∞—А –љ–∞ —Б–∞–≤–Є—А –Ї —Б–µ–≤–µ—А—Г –Њ—В –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –≤ 461-465 –≥–≥.) —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –∞–≤–∞—А[113]. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—Б–µ–≤–і–Њ–∞–≤–∞—А—Л –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є –Ї —З–Є—Б–ї—Г –Њ–≥—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ — –§–µ–Њ—Д–Є–ї–∞–Ї—В –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є—Е –Њ–≥–Њ—А–∞–Љ–Є[114]. –°—Г–і—П –њ–Њ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ, —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї VII-VIII –≤–≤., –њ–ї–µ–Љ—П –∞–±–Њ (–∞–њ–∞—А) –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Њ–≥—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є (—В–µ–ї–µ)[115]. –£–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ –Є–Љ—П –∞–≤–∞—А (–∞–њ–∞—А) –Є –≤ –І–∞—А—Л—И—Б–Ї–Њ–є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є (–°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Р–ї—В–∞–є)[116].
–Т–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–µ–є –Є–Љ–µ–љ–Є –њ—Г—А—Г–Љ, –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ—Л –≤ —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –Я. –Я–µ–ї—М–Њ, –Р. —Д–Њ–љ –У–∞–±–µ–љ –Є –С. –Ю–≥–µ–ї—П[117]. –£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —Б –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є, –∞ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ — –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є, —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–≤—И–Є–Љ—Б—П –≤ –µ–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є—П—Е — Rom (–∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–µ Hrom, —Б—А–µ–і–љ–µ–њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Њ–µ –Э–≥–Њ—В, —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–µ From, —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Њ–µ Phrom, –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–µ –§—Г–ї–Є–љ—М). –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ –Љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ (576), –њ—А–Є–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ–±—А—П–і–∞—Е, —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–≥–∞–љ–Њ–Љ –Ґ—Г—А–Ї- —Б–∞–љ—Д–Њ–Љ –≤ —З–µ—Б—В—М –љ–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞, –Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –°–Є–ї—М–Ј–Є- –±—Г–ї–∞ (–Ш—Б—В–µ–Љ–Є-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞)[118].
–Ґ–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ—Л –Є —Н—В–љ–Њ–љ–Є–Љ—Л, –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –≤ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є, –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Б—Г–Љ–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е —В–∞–±–ї–Є—Ж–∞—Е.
–Ф—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ґ–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–Є–Ї–∞
|
–†—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ |
–Ґ—А–∞–љ—Б–Ї—А–Є–њ—Ж–Є–Є |
–Я–µ—А–µ–≤–Њ–і |
–£–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ |
–Ф–∞—В–Є—А–Њ–Є–Ї–∞ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–Є –Њ —В–µ–Ї—Б—В–µ |
–Ч–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ґ–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞ –≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е |
|
WSYSÄ |
bänligäk lay |
–У–Њ—А–∞ –С—П–љ- –≥–ї–љ–≥—П–Ї |
–Ґ–Њ–є,, 44 |
–Э–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ |
–°—В–∞–≤–Ї–∞ «—Б—Л–љ–∞ –Ґ–Є–љ—Б–љ» |
|
)W вДЦ |
känü tarban |
Keuno –Ґ–∞—А–±–∞–љ |
–С–Ъ–±, 13; –Ъ–Ґ–±, 21 |
715-716 –≥–≥. |
–Ч–∞–њ–∞–і–љ–∞—П –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ |
|
|
SOyd |
–°–Њ–≥–і |
–Ъ–Ґ–±, 52 |
732 –≥. |
–°—В—А–∞–љ–∞, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –њ—А–Є–±—Л–ї –њ–Њ—Б–Њ–ї –љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ—Л –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞ |
|
–≥–Э$|—З fW |
jäncü ügüz |
–Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–∞—П —А–µ–Ї–∞ |
–Ъ–Ґ–Љ, 3 –С–Ъ–Љ, 3 –Ґ–Њ–љ., 44 –Ъ–І. 16 –Ъ–Ґ–±, 39 |
–Э–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ 712-713 –≥–≥. |
–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –°–Њ–≥–і–∞ |
|
virf m |
tämir qapyy |
–Ц–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ |
–Ъ–І, 2 –С–Ъ–±, 4 |
VI –≤. |
–Ч–∞–њ–∞–і–љ–∞—П –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞ —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—О—А–Ї–Њ–≤ –≤ VI –≤. |
|
|
|
|
–Ъ–Ґ–Љ, 4 –С–Ъ–Љ. 3 –Ъ–Ґ–±, 17 –Ґ–Њ–љ., 44 –Ъ–І, 16 |
–Э–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ |
–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є –њ—А–µ–і–µ–ї –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞, –С–љ–ї—М–≥—Б-–Ї–∞–≥–∞–Є–∞, –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞ –Є –Ъ—Г–ї–љ-—З–Њ—А–∞ |
|
|
tämir qapyy |
|
–Ъ–Ґ–±. 39 |
712-713 –≥–≥. |
–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є –њ—А–µ–і–µ–ї –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞ —П –С–љ–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ |
–≠—В–љ–Њ–љ–Є–Љ–Є–Ї–∞
|
–†—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ |
–Ґ—А–∞–љ—Б–Ї—А–Є–њ—Ж–Є—П |
–Я–µ—А–µ–≤–Њ–і |
–£–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ |
–Ф–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ |
–Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П |
|
ir-n |
känäräs |
–Ъ–µ–љ–≥–µ—А–µ—Б—Л |
–Ъ–Ґ–±, 39 |
712-713 –≥–≥. |
–Э–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ |
|
Wh |
täzik |
–Р—А–∞–±—Л |
–Ґ–Њ–љ., 45 –Ъ–І, 16 |
–Э–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ |
–°–Њ–≥–і |
|
–І1–™ |
toqar |
–Ґ–Њ—Е–∞—А—Л |
–Ґ–Њ–љ., 45 |
–Э–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ |
–°–Њ–≥–і |
|
rfHHW |
buqaraq |
–С—Г—Е–∞—А—Ж—Л |
–Ъ–Ґ–±, 52 |
732 –≥. |
–Э–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ |
|
|
soydaq |
–°–Њ–≥–і–љ–љ—Ж—Л |
–Ъ–Ґ–±, 39 –Ґ–Њ–љ., 46 |
712-713 it.–Э–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ |
–°–Њ–≥–і –°–Њ–≥–і |
|
d>Ar*J >mw |
ally cub soydaq |
–°–Њ–≥–і–љ–љ—Ж—Л —И–µ—Б—В–Є —З—Г–±–Њ–≤ (?) |
–Ъ–Ґ–±, 31 –С–Ъ–±, 24 |
701—702 –≥–≥. |
–Э–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ |
–Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —З–∞—Б—В–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –і–≤–∞ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П» –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є, — Jäncii ügiiz –Є Tämir qapyy.
–Ю—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є Jäncü ügüz — «–Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–∞—П —А–µ–Ї–∞» –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ш. –Ь–∞—А–Ї–≤–∞—А—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –≤ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–Ї—Б—В–µ –Ъ–∞—А–∞–±–∞–ї–≥–∞—Б—Г–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ —В–∞ –ґ–µ —А–µ–Ї–∞ –љ–Њ—Б–Є—В –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –І–ґ–µ–љ—М- —З–ґ—Г-—Е—Н — «—А–µ–Ї–∞ –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–Љ—З—Г–≥–∞», –∞ –Њ–±–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —А–µ–Ї–Є, —В—А–∞–љ—Б–Ї—А–Є–±–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е –Ї–∞–Ї –є–Њ-–Є—И* –є–Њ–Ї-—И–∞—В (–ѓ–Ї—Б–∞—А—В), —В. –µ. —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –°—Л—А–і–∞—А—М–Є,SI. –Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ JaxartesΊαξϋρτηζ Ίαξϋρταί, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —А–µ–Ї–∞ –љ–Њ—Б–Є—В –≤ –∞–љ—В–Є—З–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е, —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В—Б—П –љ–∞ –і—А–µ–≤–љ–µ–Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–µ –Ї–∞–Ї *jaxsarta, *jaxsa-arta, «–Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є –ґ–µ–Љ—З—Г–≥»[119].
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ —В–∞–Ї –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –°—Л—А–і–∞—А—М–Є. –Т –∞–љ—В–Є—З–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ Jaxartes–Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Ї –Њ—В—А–µ–Ј–Ї—Г —А–µ–Ї–Є, –≥–і–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ—В—А—П–і—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ь–∞–Ї–µ–і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —В. –µ. –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –Ї —А–∞–є–Њ–љ—Г –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –•–Њ–і–ґ–µ–љ—В–Њ–Љ –Є –Ґ–∞—И–Ї–µ–љ—В–Њ–Љ; —Н—В–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ї –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ-—Д–µ—А–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є. –†–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –ѓ–Ї—Б–∞—А—В –љ–∞ –≤—Б—О —А–µ–Ї—Г — —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И–µ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є.
–Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –≤ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є–є VII-VIII –≤–≤. –њ—А—П–Љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ —А. –Щ–Њ—И–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ц–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Њ–є —А–µ–Ї–Њ–є[120]. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —А–∞–є–Њ–љ—Г –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–µ –Ш–∞–љ—З—Г —Г–≥—Г–Ј. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Є–Љ–µ–љ–Є –ѓ–Ї—Б–∞—А—В (–Щ–∞—Е—И–∞—А—В, –•–∞—И–∞—А—В) –Ї–∞–Ї –±—Л—В—Г—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —А–µ–Ї–Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П —Г –Ш–±–љ –•–Њ—А–і–∞–і–±–µ—Е–∞ (IX –≤.), –∞–ї-–Ь–∞—Б’—Г–і–Є (X –≤.), –∞–ї-–С–Є—А—Г–љ–Є (973-1048), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ «–•—Г–і—Г–і –∞–ї-–∞–ї–∞–Љ» (X –≤.), –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–µ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П[121]"'.
–Я–ї–Є–љ–Є–є (I –≤. –љ. —Н.) –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –і—А—Г–≥–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —А–µ–Ї–Є — Silis: «–†–µ–Ї—Г –ѓ–Ї—Б–∞—А—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Б–Ї–Є—Д—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –°–Є–ї–Є—Б–Њ–Љ (quodScythaeSilimvocant), –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Є –µ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ—Л –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –Ј–∞ –Ґ–∞–љ–∞–Є—Б»[122]. –≠—В–Њ –ґ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –і–ї—П –љ–∞—Б –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ—Л–є –Њ—В –Я–ї–Є–љ–Є—П –∞–≤—В–Њ—А III –≤. –љ. —Н. –У–∞–є –Ѓ–ї–Є–є –°–Њ–ї–Є–љ: «–Я–Њ –≤—Б–µ–є —Н—В–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ (–Є–Љ–µ—О—В—Б—П –≤ –≤–Є–і—Г –С–∞–Ї—В—А–Є—П –Є –°–Њ–≥–і–Є–∞–љ–∞. — –°. –Ъ.) —Б —В–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ—А–Њ—А–µ–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л —А–µ–Ї–∞ –Ы–∞–Ї—Б–∞—В (lapsuscalami! —· C. Κ.),–Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Ы–∞–Ї—Б–∞- —В–Њ–Љ –Њ–і–љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–∞–Ї—В—А–Є–є—Ж—Л, –Є–±–Њ –њ—А–Њ—З–Є–µ —Б–Ї–Є—Д—Л –Ј–Њ–≤—Г—В –µ–µ –°–Є–ї–Є—Б–Њ–Љ (querniaxatemsolivocantBactri: namaliiScythaeSilimnominant)». –Ф–Є–Љ–Њ–і–∞–Љ–∞–љ—В, –≤–Њ–ґ–і—М –°–µ–ї–µ–≤–Ї–∞ –Є –Р–љ—В–Є–Њ—Е–∞, –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л–є, –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Є–≤—И–Є—Б—М —З–µ—А–µ–Ј —Н—В—Г —А–µ–Ї—Г, «–Њ—В–Ї—А—Л–ї... —З—В–Њ —Н—В–∞ –Є–љ–∞—П —А–µ–Ї–∞, —З–µ–Љ –Ґ–∞–љ–∞–Є–і»[123]. –Ґ–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ —Д–Њ—А–Љ silis–Є sfr–љ–µ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є –љ–Є —Г –§. –Ѓ—Б—В–Є, –љ–Є —Г –С–∞—А—В–Њ–ї—М–і–∞[124].
–Ш–Ј —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є –Я–ї–Є–љ–Є—П –Є –°–Њ–ї–Є–љ–∞ —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В, —З—В–Њ —А–µ–Ї—Г, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ—Г—О –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –µ–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ —В–µ—З–µ–љ–Є–Є –ѓ–Ї—Б–∞—А—В, —Б–Ї–Є—Д—Л (—Б–∞–Ї–Є) — –Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–Є, –љ–∞—Б–µ–ї—П–≤—И–Є–µ –љ–Є–ґ–љ–µ—Б—Л—А–і–∞—А—М–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Є –њ—А–Є–∞—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–њ–Є, –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –°–Є–ї–Є—Б. –Т–≤–Є–і—Г –Ї—А–∞–є–љ–µ–є —Б–Ї—Г–і–Њ—Б—В–Є –∞–љ—В–Є—З–љ—Л—Е –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–Є–Ї–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Є–∞—А–∞–ї—М—П –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –і—А—Г–≥–Є—Е —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –°—Л—А, –Є–Љ–µ–≤—И–µ–≥–Њ —Г–Ј–Ї–Њ–ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ. –Т —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П —А–µ–Ї–Є –њ–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ –µ–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞–Љ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, «—А–µ–Ї–∞ –®–∞—И–∞», «—А–µ–Ї–∞ –£–Ј–≥–µ–љ–∞» –Є —В. –њ.), –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —А–µ–Ї–Є, –Ј–∞ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤—Л—И–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Є—Б—З–µ–Ј–∞—О—В –≤ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П—Е –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є—Е –Є –њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ —Б—Л—А –Ї–∞–Ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –љ–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є —А–µ–Ї–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ –≤ XVI B.iSI!, –∞ –≤ XIII—XIV –≤–≤. –≤ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –±–ї–Є–Ј –Ф–ґ–µ–љ–і–∞ —Б—В–∞–≤–Ї–Є —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є –Є –≤–љ—Г–Ї–Њ–≤ –Ф–ґ—Г—З–Є —–°—Л—А- –Ю—А–і–∞ («–°—Л—А—Б–Ї–∞—П —Б—В–∞–≤–Ї–∞», «—Б—В–∞–≤–Ї–∞ –љ–∞ –°—Л—А–µ»)[125]. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –ѓ–Ї—Б–∞—А—В, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—Й–µ–µ—Б—П –≤ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е, –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є—П IV –≤. –і–Њ –љ. —Н., –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ—Г –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ—Г —В–µ—З–µ–љ–Є—О –°—Л—А–і–∞—А—М–Є; –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –°—Л—А — –і—А–µ–≤–љ–µ–µ —Б–∞–Ї—Б–Ї–Њ–µ –Є–Љ—П —А–µ–Ї–Є — –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Ї –µ–µ –љ–Є–ґ–љ–µ–Љ—Г —В–µ—З–µ–љ–Є—О. –Э–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –і–≤—Г—Е —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є–є —Н—В–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М, –љ–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –°—А–µ–і–љ–µ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г—А–µ—З—М—П —Г–Ј–±–µ–Ї—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ—З–µ–≤—Л–Љ–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –њ—А–Є–∞—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–є (XV- XVI –≤–≤.) —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –≤—Б–µ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ —А–µ–Ї–Є.
–Ґ–µ–Љ–Є—А –Ї–∞–њ—Л–≥, –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –Т. –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ–Њ–Љ — —Н—В–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і –С—Г–Ј–≥–∞–ї–∞ –≤ –≥–Њ—А–∞—Е –С–∞–ї—Е, –≤ 90 –Ї–Љ –Ї —О–≥—Г –Њ—В –®–∞—Е—А–Є—Б—П–±–Ј–∞[126]. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ–і —В–µ–Љ –ґ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, –љ–Њ –≤ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л –°—О–∞–љ—М –¶–Ј–∞–љ–Њ–Љ –Ї–∞–Ї –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –°–Њ–≥–і–Њ–Љ –Є –Ґ–Њ—Е–∞—А–Є- —Б—В–∞–љ–Њ–Љ1151. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ –∞—А–∞–±—Б–Ї–Њ–є –Є –њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ[127]. –Ю–і–љ–Њ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –≤ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —В—А—Г–і–µ –∞–ї-–Ш–∞–Ї—Г–±–Є (IX –≤.) «–Ъ–Є—В–∞–± –∞–ї-–±—Г–ї–і–∞–љ», –≥–і–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і –љ–Њ—Б–Є—В –њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ф–∞—А-–Є –∞—Е–∞–љ–Є–Є, –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞[128]. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ґ–µ–ї—И—А –Ї–∞–њ—Л–≥ –±—Л–ї–Њ –Ї–∞–ї—М–Ї–Њ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞.
–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–љ–Њ –Є–Ј —В–∞–±–ї–Є—Ж, –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Њ –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї —Н–њ–Њ—Е–µ –Т—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞. –Ы–Є—И—М —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В –Ї–∞–Ї –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П «—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞» –≤ VI –≤. –Є –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е —В—О—А–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –Ъ–Є—В–∞—О (630-680) –≤—Л—Е–Њ–і—П—В –Ј–∞ —А–∞–Љ–Ї–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ю–±–∞ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –љ–Њ—Б—П—В —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Й–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –Є–Љ–µ—О—Й–µ–Љ—Г—Б—П –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї—Г.
–Ъ–ї—П—И—В–Њ—А–љ—Л–є –°. –У.
–Ш–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є «–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є –Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞», 2003
[1] –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Є–є.–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П–±–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П. –°. 285-303; Vamb&ry.Tiirkcnvolk. S. 34-36; –®–Є—Д–љ–µ—А. –Ю–± —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –°. 605.
[2] –Р—А–Є—Б—В–Њ–≤. –Ю–њ—Л—В. –°. 28-29.
[3] –Ь–∞–ї–Є—Ж–Ї–Є–є. –Ю —Б–≤—П–Ј–Є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е —В–∞–Љ–≥. –°. 43 47.
[4] Thomsen. Dechiffrcment. P. 299.
[5] Thomsen. Inscriptions de l’Orkhon. P. 49-50.
[6] Donner.Originc dc l'alphabet turc. P. 21 —46.
[7] –Ь–µ–ї—З–Њ—А–∞–љ—Б–Ї–Є–є. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—О–ї—М-–Ґ–µ–≥–Є–љ–∞. –°. 46-47; –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤. –Ю –±–∞—И–Ї–Є—А—Б–Ї–Є—Е —В–∞–Љ–≥–∞—Е. –°. 84-86.
[8]–Я–Њ–ї–Є–≤–∞–љ–Њ–≤. –Ш–і–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ—В–Є–≤. –°. 177-181. –Я–Њ–њ—Л—В–Ї—Г –Є–і–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї –Р—Е–Љ–µ—В –Ф–ґ–µ–≤–∞—В –≠–Љ—А–µ (Emre.Mensegi. S. 1-54).
[11] Gauthiot.Essai. P. 5.
[12] Thomsen. Inscriptions runiques. P. 76.
[13] Allheim. Hunnische Runen. S. 1-31; Id. Geschichte der Hunnen. Bd. I. S. 268-289.
[14] Maenchen-Helfen.[–†–µ—Ж. –љ–∞–Ї–љ.:] Altheim F. Geschichte der Hunnen. S. 295-298.
[15] –Ъ–Є—Б–µ–ї–µ–≤. –Ф—А–µ–≤–љ—П—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є. –°. 604-610.
[16] –©–µ—А–±–∞–Ї. –Ч–љ–∞–Ї–Є –љ–∞ –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–µ. –°. 388.
[17] –°—А.: Gabam. Alttürkische Schrifttum. S. 12-14.
[18] –Ъ—Л–Ј–ї–∞—Б–Њ–≤. –Э–Њ–≤–∞—П –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–∞. –°. 96-103.
[19] –°. –Х. –Ь–∞–ї–Њ–≤ –њ–Њ –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї—Г—О —А—Г–љ–Є–Ї—Г V-VIH –≤–≤. (–Ь–∞–ї–Њ–µ. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є –Є –Ъ–Є—А–≥–Є–Ј–Є–Є. –°. 57).
[20] –Ы–Є—В–≤–Є–љ—Б–Ї–Є–є. –Ш–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –Ї—Г—А—Г–Љ–Њ–≤. –°. 109-130.
[22] –Ь–µ–љ–∞–љ–і—А –Я—А–Њ—В–µ–Ї—В–Њ—А. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П. –°. 374; Moravcsik. Byzantinoturcica. Bd. I. S. 422. –Ю—В—А—Л–≤–Њ–Ї –Є–Ј –њ–Є—Б—М–Љ–∞ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г –Ь–∞–≤—А–Є–Ї–Є—О —Ж–Є—В–Є—А—Г–µ—В –§–µ–Њ—Д–Є–ї–∞–Ї—В –°–Є–Љ–Њ- –Ї–∞–≥–≥–∞ (–§–µ–Њ—Д–Є–ї–∞–Ї—В –°–Є–Љ–Њ–Ї–∞—В—В–∞. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П. –°. 159).
[23] Drouin.Memoires. P. 50-56.
[25] Liu Mau-tsai. I. S. 10.
[26] Henning.Mitteliranisch. S. 55; Le Coq.Kurze Einführung. S. 93-109.
[27] Wittfogel, Feng Chia-sheng. History of Chinese society. P. 99, 103; Breischneider. Mediaeval researches. Vol. I. P. 256.
[28] Marquart. Guawai'ni’s Bericht. S. 499. –С–Њ–ї–µ—Б–њ–Њ–Ј–і–љ–Є–Љ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ(XI-XII –≤–≤.) –њ—Л—В–∞–ї—Б—П–і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є–Ї–Њ–ї–Њ—Д–Њ–љ–Њ–і–љ–Њ–є–Є–Ј—Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Є—Е—А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–µ–є–Т. –С–∞–љ–≥{Bang, Gabain, Rachmali. Türkische Turtan-Texte. S. 971. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–∞–Љ –Њ–љ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ —З—В–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–ї–Њ—Д–Њ–љ–∞ –Ї—А–∞–є–љ–µ —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї—Г, –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Г—О –Є–Љ –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —Д–Њ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—О, —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б—З–Є—В–∞—В—М –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є —З—В–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б–Љ. —Г –Ь. –†–ї—Б–∞–љ–µ–љ–∞ –Є –Р. –Ь. –С–µ—А–љ—И—В–∞–Љ–∞ (Räsänen.Zu dem Runenschrifteintrag. S. 1-2; –С–µ—А—В–Є—В–∞–Љ. –†—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М. C. 303-305).
[29] –Я—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–Є–≤–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –≤ –ї–∞–њ–Є–і–∞—А–љ—Г—О –≥—А–∞—Д–Є–Ї—Г –Ј–∞—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Њ –£–ї–∞–љ–Ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ–ї–Њ–є, –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–∞–Љ–Є –≤ 1955 –≥. (–Ф–Њ—А–ґ—Б—Г- —А–µ–њ. –Ш–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ. –Т–Ї–ї–µ–є–Ї–∞ –Ї —Б. 13; –©–µ—А–±–∞–Ї. –Э–∞–і–њ–Є—Б—М. –°. 23-25; –Ъ–ї—П—И—В–Њ—А–љ—Л–є. –£–ї–∞–љ–Ї–Њ–Љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М. –°. 26-28).
[30] –Ъ—Л–Ј–ї–њ—Б–Њ–≤. –Э–Њ–≤–∞—П –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–∞. –°. 118.
[31] –Ы—Г–≤—Б–∞–љ–і–Њ–љ–і–Њ–≤. –®–Є–љ—Н—Н—А –Њ–ї–і—Б–Њ–љ. –°. 1-7.
[32] –Ъ–ї—П—И—В–Њ—А–љ—Л–є. –Ю –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є. –°. 173-174.
[33] Babinger. Hans Demschwams Tagebuch.
[34] Radloff. Alttürkische Studien. VI. S. 430.
[35] –Ь–∞–ї–Њ–µ.–Х–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–∞—П –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, C. 7.
JD–С–∞—В–Љ–∞–љ–Њ–≤. –ѓ–Ј—Л–Ї –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –°. 124; —Б—А.: –С–∞—Б–Ї–∞–Ї–Њ–≤. –Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ —П–Ј—Л–Ї–Є. –°. 189-190; –Э–∞—Б–Є–ї–Њ–≤. –ѓ–Ј—Л–Ї –Њ—А—Е–Њ–љ–Њ-–µ–љ–Є—Б–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –°. 7; Gabain. Alttürkische. S. 22-23.
4! –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ—Г—О –±–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О —Б–Љ.: –©–µ—А–±–∞–Ї. –Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–∞—П —А—Г–љ–љ–Ї–∞. –°. 12-31.
[40] Gabain. Inhalt. S. 539.
JS–Э–∞—Б–Є–ї–Њ–≤, –Ъ–Њ—А–Љ—Г—И–≥—В. –Ч–∞ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–µ, –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ. –°. 139.
J6–Ь–µ–ї–Є–Њ—А–∞–љ—Б–Ї–Є–є. –Ю–± –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е. –°. 280. –њ –Ъ–Њ—А–≥–Є. –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–є –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є —Б—В–Є—Е. –°. 139-140.
JS–С–µ—А–љ—И—В–∞–Љ. –Ш—Б—В–Њ–Ї–Є –Ї–Є—А–≥–Є–Ј—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л. –°. 79-84; –Ю–љ –ґ–µ. –°–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б—В—А–Њ–є. –°. 33-34; –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤–∞. –Ъ–Є—А–≥–Є–Ј—Б–Ї–∞—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞. –°. 7-14.
■” –С–µ—А–љ—И—В–∞–Љ. –°–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б—В—А–Њ–є –Њ—А—Е–Њ–љ–Њ-–µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е —В—О—А–Њ–Ї. C. 37-3S.
[44]–С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤–∞. –Ъ–Є—А–≥–Є–Ј—Б–Ї–∞—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞. –°, 12.
31 –Р—Г—Н–Ј–Њ–≤. –Ъ–Є—А–≥–Є–Ј—Б–Ї–Є–є –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Н–њ–Њ—Б «–Ь–∞–љ–∞—Б». –°. 58. –≠–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л —Н–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –Є –Х. –≠. –С–µ—А—В–µ–ї—М—Б; —Б–Љ.: –С–µ—А—В–µ–њ—К—Б. –Ъ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є. –°. 73-79.
55 –°—В–µ–±–ї–µ–≤–∞. –Я–Њ—Н–Ј–Є—П —В—О—А–Њ–Ї VI—VIII –≤–µ–Ї–Њ–≤. –°. 61. –Ю —Б–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—О–ґ–µ—В–Њ–≤ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є —Б –∞–ї—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Н–њ–Њ—Б–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞–ї, –љ–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–µ–є, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П –њ–Њ–ї–љ—Г—О –њ–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г —Н–њ–Њ—Б–∞ –≤ –Њ–є—А–∞—В—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –У—Г–Љ–Є–ї–µ–≤ (–Ф—А–µ–≤–љ–Є–µ —В—О—А–Ї–Є. –°. 346-348).
[48] –°—В–µ–±–ї–µ–≤–∞. –Х—И–µ —А–∞–Ј –Њ–± –Њ—А—Е–Њ–љ–Њ-–µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–∞—Е.
[49] Kowalski. Ze studjyw nad forma poezji. S. 155-181.
[50] Candjei.lieberblick über den vor- und frühislamischen türkischen Vcrabau. S. 142-156.
[51] –©–µ—А–±–∞–Ї. –°–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –∞–ї–ї–Є—В–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є —А–Є—Д–Љ—Л. –°. 142-153; –Ю–љ –ґ–µ. –Х–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є. –°. 121.
[52] –Ц–Є—А–Љ—Г–љ—Б–Ї–Є–є. –Ю –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—Е. –°. 56.
5,–Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 61-62; —Б–Љ. —В–∞–Ї–ґ–µ: Hrebicek.Are the old-Turkic inscriptione written in verses? P. 477-482. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ –∞–≤—В–Њ—А–∞, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В–љ—Г—О –њ–Њ–≤–µ—А–Ї—Г «–Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–≤–љ–Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ™» —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤, –і–Є—Б—В—А–Є–±—Г—Ж–Є—П –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б—П—Е –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–ї—П –њ—А–Њ–Ј—Л.
[54] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 68. –Ю –ґ–∞–љ—А–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Љ. –љ–Є–ґ–µ (—Б—В–∞—В—М—П «–≠–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—О–ґ–µ—В—Л –≤ –і—А–µ–≤–Є–µ—В–≥–Њ—А–Ї—Б–Ї–Є—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е»).
[55] –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ –Љ–Њ–Є–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –≤ 1982 –Є 1984 –≥–≥. —Б–Љ. –≤—Л—И–µ.
[56] –Т–ї–∞–і–љ–Љ–Є—А—Ж–Њ–≤. –≠—В–љ–Њ–њ–Њ–≥–Њ-–ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З—Б—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –°. 42. –°—А.: Gabaiu. Inhalt. S. 538-542.
6 –°—А.: –†–∞–і–ї–Њ–≤. –Р—В–ї–∞—Б –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–µ–є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є. –Ґ–∞–±–ї. XVII. –°–Љ. —В–∞–Ї–ґ–µ: –У—А–∞—З. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –Є —Б–µ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є. –°. 316-333.
1,7 –Т —З—В–µ–љ–Є–µ 1-–є —Б—В—А–Њ–Ї–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –≤–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–∞, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Ѓ. –Ш–Њ—И–Є–і–∞. –°–Љ.: Provisional report et researches. P. 122-124.
[60] –†–∞–і–ї–Њ–≤, –Ь—Б—В—О—А–∞–љ—Б–Ї–Є–є. –Ф—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є. –°. 4-5.
[61] Jisl.Vyzkum. P. 86-116; Jisl. Vorbericht. S. 65-77.
[62] –Т –љ–∞–і–њ–Є—Б—П—Е –њ—А–Є–љ—П—В—Л –і–≤–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –ї–µ—В–Њ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—П — –њ–Њ –≥–Њ–і–∞–Љ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≥–µ—А–Њ—П –Є –њ–Њ –≥–Њ- –љ—П–Љ )2-–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ —Ж–Є–Ї–ї–∞. –Т –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –≥—А–∞–љ–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—О–ї—М- ^–µ–У–Є–љ–∞ (–Ъ–®) —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П: «–Ъ—О–ї—М-–Ґ–µ–≥–Є–љ —Г–ї–µ—В–µ–ї (—Г–Љ–µ—А) –≤ –≥–Њ–і –Ю–≤—Ж—Л, –≤ —Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—Л–є –і–µ–љ—М; –≤ —Б–Т—П–Ґ–Ђ–Ш –Љ—Б–µ—П—Ж, –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є –і–µ–љ—М –Љ—Л —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ—Л. [–Э–∞–і–≥—А–Њ–±–љ–Њ–µ] –Ј–і–∞–љ–Є–µ, –µ–Ј–љ—Л—Б (–Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П?) –Є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О (–≤ —З–µ—Б—В—М) –µ–≥–Њ — –Љ—Л –≤—Б–µ (—Н—В–Њ) –Њ—Б–≤—П—В–Є–ї–Є –≤ –≥–Њ–і —А–±–µ–Ј—М—П–љ—Л, –≤ —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є –Љ–µ—Б—П—Ж, –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є –і–µ–љ—М. –Ъ—О–ї—М-–Ґ–µ–≥–Є–љ —Г–Љ–µ—А —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞ —Б–µ–Љ–Є –ї–µ—В». £–Ы–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ —Г–Љ–µ—А 27 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 73) –≥., –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ—Л —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є—Б—М 1 –љ–Њ—П–±—А—П 731 –≥., –Њ–°–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ —Е—А–∞–Љ–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ, — 1 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 732 –≥. –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї –љ–µ —Ж–Є–Ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, –∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –≤ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–µ –љ–µ ‘ —В—А–µ–±–ї—П–ї–Є, —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є- iifji; –≤–Љ—Б—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –≤—Б–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ —В–Њ—З–љ–Њ. q–≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –њ—Г—В—П—Е –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П 12-–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —Ж–Є–Ї–ї–∞ –Ї —В—О—А–Ї–∞–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –љ–µ—В, –љ–Њ –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ- ■jrypcKiix—В–µ–Ї—Б—В–∞—Е –Њ–љ –љ–Њ—Б–Є—В —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ anxnvzn (Le Coq. Türkische Manichäica. £ ]9. Z. 2). –Т «–°—Г–є —И—Г» —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —В—О—А–Ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Є –≤—А–µ–Љ—П «–њ–Њ –Ј–µ–ї–µ–љ–Є —В—А–∞–≤—Л», –Ї–Њ —В3–є! –ґ–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –®–∞–±–Њ–ї–Є–Њ, –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ «–≥–Њ–і–Њ–Љ –Ф—А–∞–Ї–Њ–љ–∞ (584), –і–µ–≤—П- –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–Љ, –і–µ—Б—П—В—Л–Љ –і–љ–µ–Љ» (LiuMau-tsai.I. S. 463). –Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А–µ–Љ, –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ —В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –Ъ–Є—В–∞—О, —В—О—А–Ї–Є –љ–µ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, —Е–Њ—В—П –µ—Б—В—М —Б–≤–µ-
—П–Є—П, —З—В–Њ –≤ 586 –≥. –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А «–њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї» —В—О—А–Ї–∞–Љ –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А—М (Ibid.),–Я–µ—А–≤—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л ^–°0–Ґ—П–є—Б–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В–Њ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—П –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–∞—О—В –і—А–µ–≤–Ї–µ—Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Є–µ –Љ–∞-
npoi»‘
„—Е–µ–є—Б–Ї–Є—Б —В–µ–Ї—Б—В—Л, –≥–і–µ –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≥–Њ–і —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ь–∞–љ–Є. –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ —Б–Є—Б—В–µ- 1–† –ї–µ—В–Њ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—П –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –Р. –У–∞–±—Н–љ (Gabain. »^türkische Daticrungsformen. S. 191-203). –Ю 12-–ї—Б—В–љ–µ–Љ —Ж–Є–Ї–ї–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П –ї–Є—В–µ- –∞–Ґ—Г—А–∞; –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Г–і–∞—З–љ—Л —Б–≤–Њ–і–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –Ю. –Ґ—Г—А–∞–љ–∞ (Turan.On iki takvimi; —Б–Љ. —В–∞—О–Ї–µ: Pritsak. nylgarische Fürstenliste. S. 24-34; –Ч–∞—Е–∞—А–Њ–≤–∞.–Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є–ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–є—Ж–Є–Ї–ї. –°. 32-65) —В—А—Г–і–Ы. –С–∞–Ј–µ–љ–∞(Bazin. Lcs systcmes chronologiques).
1 n Pellioi. Neuf notes. P. 24S.
i* Ibid. P. 245-247; Liu Mau-tsai.1. S. 228-229; –С–Є—З—Г—А–Є–љ. –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є. –Ґ. I.
—Б 276-277.
[65] Pelliol. Neuf notes. P. 247-248.
[66] –Ю –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ–±—А—П–і–µ —В—О—А–Ї–Њ–≤ –Є –µ–≥–Њ –∞–Ї–µ–µ—Б—Б—Г–∞—А–∞—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –±–Њ–ї—М—И–∞—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞: –Ъ–Є—Б–µ–ї–µ–≤. –Ф—А–µ–≤–љ—П—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є. –°. 509; –У—А–∞—З. –Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–≤–∞—П–љ–Є—П. –°. 401-431; –У—А–∞—З. –Ф—А–µ–≤–љ—Б—В–≥–∞—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –Є–Ј–≤–∞—П–љ–Є—П. –°. 73-94. –Ю–±—Л—З–љ—Л–Љ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—А—П–і–Њ–Љ –і–ї—П —А—П–і–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤-–Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–µ —Б –Ї–Њ–љ–µ–Љ, –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–≤–µ—А—Е—Г –Њ–Ї—А—Г–≥–ї–Њ–є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞—Б—Л–њ—М—О (–Ї—Г—А–≥–∞–љ–Њ–Љ). –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–ї—П —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є –±—Л–ї —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ–љ –і—А—Г–≥–Њ–є –Њ–±—А—П–і –Є —В—А—Г–њ–Њ—Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є–µ —Б –Ї–Њ–љ–µ–Љ (LiuMau-tsai.I. S. 9-10). –Ы—О –Ь–∞–Њ-—Ж–Ј–∞–є, —Ж–Є—В–Є—А—Г—П —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Ґ–∞–є—Ж–Ј—Г –љ–∞, —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –љ–Љ –≤ 628 –≥., –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В—О—А–Ї–Є –љ—Л–љ–µ –љ–µ —Б–ґ–Є–≥–∞—О—В, –∞ —Е–Њ—А–Њ–љ—П—В —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е –њ–Њ–і –Ї—Г—А–≥–∞–љ–Њ–Љ, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ–± –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –Њ–±—А—П–і–∞ –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –Ї–Є—В–∞–є—Ж–µ–≤ –Є–ї–Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є—Е –Ї–Њ—З–µ–≤—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ (Ibid. S. 464). –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ 634 –≥., –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –•–µ–ї–Є, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –Ъ–Є—В–∞–µ, –µ–≥–Њ —В—А—Г–њ «–њ–Њ –Є—Е (—В—О—А–Ї–Њ–≤) –Њ–±—Л—З–∞—О» –±—Л–ї —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ, –∞ –њ—А–∞—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ –њ–Њ–і –Ї—Г—А–≥–∞–љ–Њ–Љ (Ibid. S. 197). –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Њ–±—А—П–і –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї—Б—П; –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ –Є –Ъ—О–ї—М-–Ґ–µ–≥–Є–љ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ—Л –њ–Њ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Њ–±—А—П–і—Г, —З—В–Њ –Є –•–µ–ї–Є (–У—А–∞—З. –Ф—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Б –Є–Ј–≤–∞—П–љ–Є—П. –°. 73-94).
[68]–Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤. –Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е. –°. 9.
[69] –Ю —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ї–µ –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —В–∞–Љ–≥–Є —Б–Љ.: –У—А–∞—З. –Я–µ—В—А–Њ–≥–ї–Є—Д—Л–Ґ—Г–≤—Л. –°. 408-411.
[70] Peliiot. Neuf notes. P. 229-246.
[71] –†–∞–і–ї–Њ–≤, –Ь–µ–ї–Є–Њ—А–∞–љ—Б–Ї–Є–є. –Ф—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є. –°. 5-6.
ss–Ъ–∞–Ј—М–Љ–Є–љ. –Ъ–ї–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ «–∞—В—Л—Б—Л»» –Щ–Њ–ї–ї—Л–≥-—В–µ–≥–Є–љ–∞. –°. 259-277; –С–µ—А–љ—И—В–∞–Љ. –°–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б—В—А–Њ–є –Њ—А—Е–Њ–љ–Њ-—Б–љ–Є—Б–µ–љ—Б–Ї–Є—Е —В—О—А–Њ–Ї. –°. 35.
[73] Aalto.G. I. Ramstedt und die Inschrift von Tonjukuk. S. 19-24.
[74] –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Ж–Њ–≤. –≠—В–љ–Њ–ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. C. 4 ί—42.
[76] –°—Н—А–Њ–і–ґ–∞–≤. –®–Є–Ї—Н –Њ–ї–і—Б–Њ–љ. C. 1-4.
1,1 Giraud, L’inscription de Bain Tsokto. P. 123-136.
[77] –Ъ–Њ—А—И. –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–є –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є —Б—В–Є—Е. C. 139; –С–µ—А–љ—И—В–∞–Љ. –°–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б—В—А–Њ–є –Њ—А—Е–Њ–Ї–Њ-–µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е —В—О—А–Њ–Ї. –°. 33.
–њKotwicz, SamoUovitch. Le monument turc. P. 60-64. –Т —З–Є—Б–ї–µ —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Т. JI. –Ъ–Њ—В–≤–Є—З–∞ –±—Л–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л» –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є—Б—В –¶. –Ц–∞–Љ—Ж–∞—А–∞–љ–Њ. –Љ Tryjarsky.Thepresentstate. P. 165-166.
,5Konvicz. Description du monument. P. 66.
[79]Bazin. La litterature. P. 202.
58Kotwicz, Samoilovitch. Le monument turc. P. 92-107. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ—Й–µ –≤ 1914 –≥. –Р. –Э. –°–∞–Љ–Њ–є–ї–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –±—Л–ї–∞ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї–∞ –Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є (–Ч–Т–Ю. –Ґ. XXII. 1914. C. VI-VII)
[86] Samoilovitch.Essai de dechiffrement de l’epitaphe. P. 96.
[87] Clauson, Tiyjarsky. The Inscription. P. 12.
[88] –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і —Г –Ф–ґ. –Ъ–ї–Њ—Б–Њ–љ–∞ –Є –≠. –Ґ—А–Є—П—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ: «–ѓ, –С–µ–љ—В–Є—А, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –≤—Б—О —Н—В—Г –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, (—Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й—Г—О) —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –Љ–љ–µ –ї–Є—З–љ–Њ, –Є —В–Њ, —З—В–Њ —П –Ј–љ–∞–ї –Є –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї. –ѓ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞» (Clauson, Tiyjarsky.TheInscription. P. 30).
[89] Samoilovitch.Essai de dechiffrement de l’epitaphe. P. 102.
[91] –У—Г–Љ–Є–ї–µ–≤. –Ф—А–µ–≤–љ–Є–µ —В—О—А–Ї–Є. C. 365.
[92] Ibid. P. 62.
[94]–†–∞–і–ї–Њ–≤, –Ь–µ–ї–Є–Њ—А–∞–љ—Б–Ї–Є–є. –Ф—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є. –°. 13.
[96]Radlojf. Das Denkmal am Ongin. S. 243-256.
[101] Tekin. A grammar. P. 255-256, 291-293.
[102] Radlojf.Das Denkmal am Ongin. S. 245.
152 –С–µ—А–љ—И—В–∞–Љ. –°–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б—В—А–Њ–є –Њ—А—Е–Њ–Ї–Њ-–µ–љ–љ—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е —В—О—А–Њ–Ї. –°. 38-40.
[106] Pelliot. Neuf notes. P. 206-207.
[107] Onogawa. Ongin inscription. P. 431^451.
[110] —Д–µ–Њ—Д–Є–ї–∞–Ї—В –°–Є–Љ–Њ–Ї–∞—В—В–∞. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П. –°. 159-160.
[111] Henning. Farewell to the khagan. P. 501.
[112] Sinor. Autour d’une migration. P. 34-36; Haussig.Quelle. S. 21-43. –Ю —Б—Г–і—М–±–µ –∞–≤–∞—А –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ —Б–Љ. —А–∞–±–Њ—В—Л –Э. –Т. –Я–Є–≥—Г–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –Р. –Ъ–Њ–ї–ї–∞—Г—В—Ж–∞ (–Я–Є–≥—Г–ї–µ–∞—Б–Ї–∞—П. –Р–≤–∞—А—Л. –°. 27-36; KoUautz. Awaren. S. 129-178).
[113] Macartney. On the Greek sourees. P. 260-267; Czegledy.Kaukäzusi hunok. P. 121-140.
[114] –§–µ–Њ—Д–Є–ї–∞–Ї—В –°–Є–Љ–Њ–Ї–∞—В—В–∞. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П. C. 160; –Њ —З–µ—А–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≥/z–≤ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е —Б–Љ. —А–∞–±–Њ—В—Г –Ы. –С–∞–Ј–µ–љ–∞ (Bazin.Structures. P. 14).
[115] Hamilton.Oui'ghours. P. 2.
—Л<|Pelliot. Nom de Fou-Iin. P. 498-500; Gabain. Fu-lin Frigs. S. 195-197; Ögel. «Fu-lin» problemi. S. 53-87. –°—А.: Shiratori. Fu-lin problem. P. 165-829.
[118] –Ь–µ–љ–∞–љ–і—А –Я—А–Њ—В–µ–Ї—В–Њ—А. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П. C. 421-422; Moravcsik. Byzantinoturcica. Bd. I. S. 275-276.
[119] Marquart. Chronologie. S. 5; —Б—А., –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ: Marquart. Skizzen. S. 16; Id.Provincial capitals of Eranshahr. P. 35-36; —Б—А. –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –Т. –Т. –С–∞—А—В–Њ–ї—М–і–∞ (–С–∞—А—В–Њ–ї—М–і. –Ъ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ—А–Њ—И–µ–љ–Є—П. –°. 160).
[120] Chavannes. Documents. P. 140.
[122] C. Plinius Secundus. Nat. Hist. Lib. VI, § 49 (—Ж–Є—В. no–Є–Ј–і.: –Ы–∞—В—Л—И–µ–≤. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П–і—А–µ–≤–љ–Є—Е–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є. –І. –Э. –°. 185).
[123]C. Julius Solinus. Collect, rerum memorabilium. Lib. 9, § 5 (—Ж–Є—В. –њ–Њ: –Ы–∞—В—Л—И–µ–≤. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є. –І. II. –°. 385).
[124]Justi. Grundriss. Bd. 2. S. 392; Barthold.Si'r-Darja. P. 468-469; —Б—А.: –Э–Є–і–µ—А–Љ–∞–љ. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Д–Њ–љ–µ—В–Є–Ї–∞. –°. 99-102.
[125]–Ґ–∞'—А–Є—Е-–Є –Т–∞—Б—Б–∞—Д.C. 516. –Ю –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є —Б—В–∞–≤–Ї–Є —Б–Љ.: –Ґ–Є–Ј–µ–љ–≥–∞—Г–Ј–µ–љ. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –Љ–∞
[128]–Ь–Є–љ–∞–µ–≤.–°–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. C. 58, 60, 69-70; Barthold. Turkestan. P. 138, 186. I<i3 –Р–ї-–Щ–∞'–Ї—Г–±–Є.–Ъ–Є—В–∞–±–∞–ї-–±—Г–ї–і–∞–љ. C. 290.