–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤—Б–µ —В–µ–≥–Є
–Я–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Є –љ—Г–ґ–љ—Л, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ. –°–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П —Б–∞–Љ—Л–є –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —П –ґ–Є–Ј–љ–µ—А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Њ–љ–Є –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–∞—О—В, —Г—В–µ—И–∞—О—В –Є –Њ–±–ї–∞–≥–Њ—А–∞–ґ–Є–≤–∞—О—В.
–Р. –І–µ—Е–Њ–≤
I
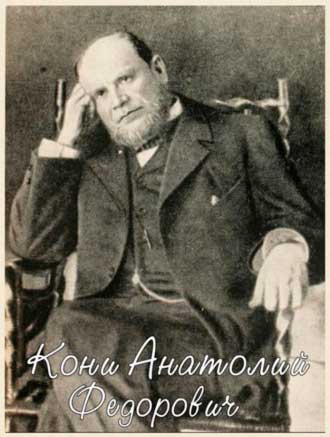 –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –Ъ–Њ–љ–Є, –Њ–љ –±—Л–ї –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї, —Б–µ–љ–∞—В–Њ—А, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В–∞–є–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї, —З–ї–µ–љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞, –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А —Б–∞–Љ—Л—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Њ—А–і–µ–љ–Њ–≤. –Ч–љ–∞—О—Й–Є–µ –ї—О–і–Є –≤ —В—Г –њ–Њ—А—Г —Г—З–Є–ї–Є –Љ–µ–љ—П, —З—В–Њ –љ–∞ –Ї–Њ–љ–≤–µ—А—В–∞—Е –њ–Є—Б–µ–Љ, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Ї –љ–µ–Љ—Г, —П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Г–і—В–Њ –±—Л –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Є—Б–∞—В—М: «–Х–≥–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г».
–Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –Ъ–Њ–љ–Є, –Њ–љ –±—Л–ї –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї, —Б–µ–љ–∞—В–Њ—А, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В–∞–є–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї, —З–ї–µ–љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞, –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А —Б–∞–Љ—Л—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Њ—А–і–µ–љ–Њ–≤. –Ч–љ–∞—О—Й–Є–µ –ї—О–і–Є –≤ —В—Г –њ–Њ—А—Г —Г—З–Є–ї–Є –Љ–µ–љ—П, —З—В–Њ –љ–∞ –Ї–Њ–љ–≤–µ—А—В–∞—Е –њ–Є—Б–µ–Љ, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Ї –љ–µ–Љ—Г, —П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Г–і—В–Њ –±—Л –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Є—Б–∞—В—М: «–Х–≥–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г».
–ѓ —В–∞–Ї –Є –њ–Є—Б–∞–ї. –Ш–Ј –≤—Б–µ—Е –Љ–Њ–Є—Е —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е —В–Њ –±—Л–ї —Б–∞–Љ—Л–є –Є–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є —Б–∞–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї. –Э–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ.
–Э–Њ –њ—А–Є—И–ї–∞ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П — –Є —Б—А–∞–Ј—Г, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М —З–∞—Б, –≤—Б–µ —Н—В–Њ —Г—И–ї–Њ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ, –Є –≤ –Њ–±–≥–ї–Њ–і–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–є–љ–Њ–є –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ –Њ–љ —Б–і–µ–ї–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ъ–Њ–љ–Є, —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ, –Ї–∞–Ї –Є –≤—Б–µ.
–Ш –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ: –µ–Љ—Г –Є –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ –њ–Њ–ґ–∞–ї–µ—В—М –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ, –Њ–±–Є–і–µ—В—М—Б—П –љ–∞ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О, –ї–Є—И–Є–≤—И—Г—О –µ–≥–Њ –≤—Б–µ—Е –Ј–≤–∞–љ–Є–є, –Њ—А–і–µ–љ–Њ–≤ –Є —З–Є–љ–Њ–≤. –°–µ–Љ–Є–і–µ—Б—П—В–Є–њ—П—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є —Б—В–∞—А–Є–Ї, —Б–≥–Њ—А–±–ї–µ–љ–љ—Л–є –і—Г–≥–Њ—О, —Б –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є, –Њ–љ –≤–Ј—П–ї —Б–≤–Њ–Є –Ї–Њ—Б—В—Л–ї—М–Ї–Є –Є –њ–Њ—И–µ–ї, –Ї–Њ–≤—Л–ї—П—П, –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ, –≤ —Б–∞–Љ—Л–µ –і–∞–ї—М–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Ж—Л –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞ — —З–Є—В–∞—В—М –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Ж–∞–Љ, –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–∞–Љ, —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ –≤ –љ–µ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е, –њ—А–Њ–Љ–Њ–Ј–≥–ї—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–ї—Г–±–Њ–≤. –Ш–Ј-–Ј–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Є –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л —Н—В–Є –Ї–ї—Г–±—Л –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ—Л –≤ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞—Е, —З—В–Њ –Ј–∞ –і–≤—Г—Е—З–∞—Б–Њ–≤—Г—О –ї–µ–Ї—Ж–Є—О –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–∞–ї–Є –µ–≥–Њ — –і–∞ –Є —В–Њ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞! — —А–ґ–∞–≤–Њ–є —Б–µ–ї–µ–і–Ї–Њ–є –Є–ї–Є –Љ–Є–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –ї–Њ–Љ—В–Є–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–њ–ї–µ—Б–љ–µ–≤–µ–ї–Њ–≥–Њ —Е–ї–µ–±–∞. –Ш —З–∞—Б—В–Њ, —Г—В–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤ –њ—Г—В–Є, –Њ–љ —Б–∞–і–Є–ї—Б—П –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г—В—М –љ–∞ —З—Г–≥—Г–љ–љ—Г—О —В—Г–Љ–±—Г –Є–ї–Є –љ–∞ —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л—Е –ї–∞–≤—З–Њ–љ–Њ–Ї, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤ –≤–Њ–Ј–ї–µ —Б–µ–±—П –Ї–Њ—Б—В—Л–ї—М–Ї–Є, –Є –љ–µ –Њ–±–Є–ґ–∞–ї—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–µ—А–і–Њ–±–Њ–ї—М–љ—Л–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л — —Н—В–Њ –±—Л–≤–∞–ї–Њ –љ–µ —А–∞–Ј! — –њ–Њ–Ї—Г—И–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і–∞—В—М –µ–Љ—Г –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—Л–љ—О.
–Я–Њ–Љ–љ—О, –љ–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ–µ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Ж–µ–≤ –±–ї–∞–≥–Њ–і—Г—И–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –µ–Љ—Г:
–Р—Е —В—Л, –і–µ–і—Г—И–Ї–∞. –Я–Њ–ї–Ј–µ—И—М –љ–∞ —З–µ—В—Л—А–µ—Е? –Э—Г –њ–Њ–ї–Ј–Є, –њ–Њ–ї–Ј–Є, –±–Њ–≥ —Б —В–Њ–±–Њ–є!
–≠—В–Њ –љ–Є—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ. –Ґ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –Ї –Ы—Г–љ–∞—З–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –Љ—Л, –≤—Б—В—А–µ—З–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —Б –љ–Є–Љ –≤ —Н—В—Г –њ–Њ—А—Г, —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Њ—З–µ–љ—М —З–∞—Б—В–Њ. «–Т–∞—И–Є —Ж–µ–ї–Є –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ—Л, — –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–љ –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ. — –Т–∞—И–Є –Є–і–µ–Є –Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –Љ–љ–µ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ–Є, —З—В–Њ –Љ–љ–µ, –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –Њ–њ–њ–Њ—А—В—Г–љ–Є—Б—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А—П–ї —И–∞–≥–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –і—Г—Е—Г –Љ–µ–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —П –ґ–Є–ї, — –≤—Б–µ —Н—В–Њ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є–Љ, –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–Ї—А—Г–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є –≤–ї–∞—Б—В—М –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ—З–љ–Њ–є, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–∞ –±—Г–і–µ—В –њ–Њ–ї–љ–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Ї –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ –љ—Г–ґ–і–∞–Љ... —З—В–Њ –ґ–µ, —П –≤–µ—А–Є–ї –Є –≤–µ—А—О –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О, —П –≤–µ—А–Є–ї –Є –≤–µ—А—О –≤ –≥–Є–≥–∞–љ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ, –Њ–њ–Њ–µ–љ, –Њ–±–Њ–±—А–∞–љ –Є —Б–њ–∞–ї. –ѓ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–µ–і–≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—А–Њ–і –≤–Њ–Ј—М–Љ–µ—В –≤–ї–∞—Б—В—М –≤ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є, —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –≤ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ–∞—Е, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –і—Г–Љ–∞–ї–Є –Љ—Л, –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А—Л –Є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Л –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Ґ–∞–Ї –Њ–љ–Њ –Є –≤—Л—И–ї–Њ»[1].
–Я–Њ—В–Њ–Љ—Г-—В–Њ —Г–ґ–µ –≤ —Б–∞–Љ—Л–µ –њ–µ—А–≤—Л–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ, —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ –Њ–љ –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Є—Е –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є–є –Є –Њ–≥–ї—П–і–Њ–Ї –љ–∞—И–µ–ї «—Б–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ —Б—В—А–Њ—О» –Є –≤—Б—В–∞–ї –≤ —А—П–і—Л –±–µ–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е «–њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ—Ж–µ–≤», –Њ—В–і–∞–≤–∞—П –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є —Г–±–Њ–≥–Є–µ —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —Б–Є–ї—Л –і–µ–ї—Г —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–Њ–≤–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ “—В–∞–ї–∞–љ—В –љ–µ —Г–≥–∞—Б, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Б—В–∞–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–µ–є—И–Є—Е –ї–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ. –Я—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—П—Б—М –Ї –і–µ–≤—П—В–Њ–Љ—Г –і–µ—Б—П—В–Ї—Г, —Н—В–Њ—В –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Є –њ–µ—А–µ—Г—В–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б—В–∞—А–Є–Ї –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–ї —Б–µ–±–µ –љ–Њ–≤–Њ–µ –Є–Љ—П, —Б–і–µ–ї–∞–ї –љ–Њ–≤—Г—О –Ї–∞—А—М–µ—А—Г. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Ї—Г–і–∞ –љ–µ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї–Є –±—Л –µ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є—В—М —Б –ї–µ–Ї—Ж–Є—П–Љ–Є. –Ю–±–∞ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –≤—Б–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г–Љ—Л, —И–Ї–Њ–ї—Л, –Ї—Г—А—Б—Л, –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –Є –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Ї–ї—Г–±—Л, –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л, –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є, –і–Њ–Љ–∞ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П, –Љ—Г–Ј–µ–Є, –Є –Я—А–Њ–ї–µ—В–Ї—Г–ї—М—В, –Є –Ф–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤, –Є –С–∞–ї—В—Д–ї–Њ—В — –≤—Б—О–і—Г –Њ–љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї —Б –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–є –Њ—Е–Њ—В–Њ–є –Є —Б –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ. –І–Є—В–∞–ї –Њ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–µ, –Њ –Ы—М–≤–µ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ, –Я–Є—А–Њ–≥–Њ–≤–µ, –Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–Є –і–µ—В–µ–є, –Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ–± —Н—В–Є–Ї–µ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є—П –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–ї—О–±—Ж–µ –У–∞–∞–Ј–µ. –£ –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —В–µ–Љ, –љ–Њ –Њ —З–µ–Љ –±—Л –Њ–љ –љ–Є —З–Є—В–∞–ї, –≤—Б—П–Ї–∞—П –µ–≥–Њ –ї–µ–Ї—Ж–Є—П –Ј–≤—Г—З–∞–ї–∞ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–∞—П –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—М, –≤—Б—П–Ї–∞—П —Г–њ–Њ—А–љ–Њ —В–≤–µ—А–і–Є–ї–∞ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—З–∞—Б—В—М—П –≤ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –і–Њ–±—А—Г. –Ю —З–µ–Љ –±—Л –Њ–љ –љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є —Б–ї—Л—И–∞–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ –Є —В–Њ—В –ґ–µ –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–і—В–µ–Ї—Б—В:
–Э–∞–њ—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —О–љ–Њ–µ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ—М–µ,
–Ю—В –Љ—А–∞–Ї–∞ –Є –≥—А—П–Ј–Є —Г–Љ—Л –Є —Б–µ—А–і—Ж–∞ —Г–±–µ—А–µ—З—М,
–У–Њ–ї–Њ—Б —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї —В–Њ–≥–і–∞ —Б–ї–∞–±—Л–є, —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –њ—А–Њ—Б—В—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є, –љ–Њ —Б–ї—Г—И–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–∞–і–љ—Л–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ —И–µ–њ–Њ—В –µ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –і–Њ —Б–∞–Љ—Л—Е –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е —А—П–і–Њ–≤.
–Ф–Њ —З–µ–≥–Њ –ї—О–±–Є–ї–Є –µ–≥–Њ —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–Є, –≤–Є–і–љ–Њ —Е–Њ—В—П –±—Л –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ 1921 –≥–Њ–і—Г –≤ –і–µ–љ—М –µ–≥–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–∞ –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є—П –Њ—В –љ–Є—Е –Є –њ–Њ–і–љ–µ—Б–ї–∞ –µ–Љ—Г –±–µ–ї—Л–є —Е–ї–µ–± — –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л –њ–Њ—З—В–Є –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–∞—П. –≠—В–Њ —В–∞–Ї —А–∞—Б—В—А–Њ–≥–∞–ї–Њ –Є –≤–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —В–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –Ј–∞—П–≤–Є–ї —Б –і—А–Њ–ґ—М—О –≤ –≥–Њ–ї–Њ—Б–µ, —З—В–Њ —Б—З–Є—В–∞–µ—В —Н—В–Њ—В –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є —Е–ї–µ–±–µ—Ж –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е –љ–∞–≥—А–∞–і, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Њ–љ –Ї–Њ–≥–і–∞-–ї–Є–±–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є.
–£—З–Є—В–µ–ї—М –°–µ–Љ–µ–љ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤ (–ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї–∞—Б—В—М), –њ—А–Њ—З—В—П –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є–є –Љ–Њ–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ–± –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–µ, –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї –Љ–љ–µ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ: «–ѓ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤ –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞. –ѓ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–∞—Б, —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–µ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ-—В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, —Б –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–і—Б—В–µ—А–µ–≥–∞–ї–Є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ –њ–Њ—П–≤–Є—В—Б—П –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –Ъ–Њ–љ–Є. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л (3—4 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞) —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–є –∞—Г–і–Є—В–Њ—А–Є–Є –Є —И–ї–Є –Ї «–Њ—А–∞—В–Њ—А–∞–Љ». –Ґ–∞–Љ, –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–Є–љ—Г–≤ —А—В—Л, –Љ—Л —Б–ї—Г—И–∞–ї–Є –Ъ–Њ–љ–Є. –£–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї –љ–µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –±–µ–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ. –Ю–љ –љ–µ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ–љ—Б–њ–µ–Ї—В–∞–Љ–Є, –љ–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Љ–µ–ґ–і–Њ–Љ–µ—В–Є–є, —Б–Є–і–µ–ї —Б –њ–Њ–ї—Г–Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є, –њ–Њ—А–Њ—О —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ —Б—В–∞—А—Л—Е —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞—Е, –Њ–љ — —П —Г–≤–µ—А–µ–љ –≤ —Н—В–Њ–Љ — –Ј–∞–±—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ —Б—В—Г–і–µ–љ—В—Л –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, –Є –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї —В–Њ, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї —А–∞–љ—М—И–µ».
–° –љ–∞—З–∞–ї–∞ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Є –і–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є, –њ—А–µ–і—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З, –њ–Њ –њ–Њ–і—Б—З–µ—В—Г –і—А—Г–Ј–µ–є, –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В—Л—Б—П—З–Є –ї–µ–Ї—Ж–Є–є![2]
–Т 1921 –≥–Њ–і—Г –µ–Љ—Г —Б—В–∞–ї–Њ –ї–µ–≥—З–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М: –њ–Њ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤—Г —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤ –Э–∞—А–Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ—Б –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –µ–Љ—Г (–њ—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ–љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ) –ї–Њ—И–∞–і—М –Є –±—А–Є—З–Ї—Г. –Ъ—Г—З–µ—А —Н—В–Њ–є –±—А–Є—З–Ї–Є, –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–≤ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –ї–µ–Ї—Ж–Є–є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–µ–і–Њ–Ї–∞, —Б—В–∞–ї –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—В—М –Є—Е –њ—А–Є –≤—Б—П–Ї–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ъ–Њ–љ–Є, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б –≤—Л—Б–Њ—В—Л —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–Њ–Ј–µ–ї:
–Ґ—Л, –±—А–∞—В, —П –≤–Є–ґ—Г, —Б–≤–µ—З–∞!
(–Ю–љ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б –њ–Њ-—Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є: —Б–≤–µ—Й–∞!)
–Ю—В —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г –Љ–µ–љ—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Б–Њ—В–љ–Є –њ–Є—Б–µ–Љ –Є –Ј–∞–њ–Є—Б–Њ—З–µ–Ї –Ъ–Њ–љ–Є, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —А–Є—Б—Г—О—Й–Є—Е –Є –µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ—Л–є, –≤–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г —В–Є—В–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —В—А—Г–і –Є —В–µ –±—Л—В–Њ–≤—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ —В–Њ–≥–і–∞ –ґ–Є–ї –Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ –ґ–Є–ї —Г–ґ–µ –љ–µ –љ–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ, –≥–і–µ —П –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –љ–Є–Љ, –∞ –љ–∞ –Э–∞–і–µ–ґ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ (–љ—Л–љ–µ —Г–ї–Є—Ж–∞ –Ь–∞—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ).
«–Ф–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –Ъ–Њ—А–љ–µ–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З!.. — –њ–Є—Б–∞–ї –Њ–љ –Љ–љ–µ –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ 1925 –≥–Њ–і–∞. — –Э–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В—М –Т–∞—Б, –Є–±–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ «–Њ–±–µ–Ј–љ–Њ–ґ–Є–ї» –Є –ї–Є—И—М —Б–Є–ґ—Г –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Г –Ї—А—Л–ї—М—Ж–∞, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Љ–Њ–Є –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–µ —Б–Љ–µ—О—В—Б—П, —З—В–Њ —П –њ—А–µ–±—Л–≤–∞—О –≤ «–®–≤–µ–є—Ж–∞—А–Є–Є» [–≤ –®–≤–µ–є—Ж–∞—А–Є–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤–љ–Є–Ј—Г –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –±—Л–≤—И–Є–є —И–≤–µ–є—Ж–∞—А, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–љ –±—Л–ї –Є–Ј–і–∞–≤–љ–∞ –і—А—Г–ґ–µ–љ. — –Ъ –І.] — –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Ј–∞–≥–ї—П–љ–µ—В–µ? 13 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М 60 –ї–µ—В –Љ–Њ–µ–є —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–є, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–Њ—А–∞ –±—Л –Є –љ–∞ –±–Њ–Ї–Њ–≤—Г—О...
–Т–∞—И –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–є
–Р. –Ъ–Њ–љ–Є».·
–Ъ –љ–µ–Љ—Г –≤ –і–Њ–Љ –љ–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ —Б—В–∞—А–∞—П –њ—А–Є—П—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Х–ї–µ–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–љ–∞ –Я–Њ–љ–Њ–Љ–∞—А–µ–≤–∞, –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–є –µ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –±–Њ–≥–∞—З–Ї–Њ–є, —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–µ—А—И–µ–є, –Є –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О —З–∞—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ–љ–µ–≥ –љ–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї—Г –≤ –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤–µ –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞. –Т 1913 –≥–Њ–і—Г —П –±—Л–ї —Г –љ–µ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ъ–Њ–љ–Є –≤ –µ–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –љ–∞ –§–Њ–љ—В–∞–љ–Ї–µ. –Ю–љ–∞ –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї–∞ –Ј–∞ –љ–Є–Љ —Б–≤–Њ—О –Ї–∞—А–µ—В—Г. –Ю–љ —З–Є—В–∞–ї —Г –љ–µ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ—Г –Ї—А—Г–≥—Г –і—А—Г–Ј–µ–є –Є –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є—Е —О—А–Є—Б—В–Њ–≤ —Б–≤–Њ–Є (–µ—Й–µ –љ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –њ–µ—З–∞—В–Є) «–Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –і–µ–ї–µ –Т–µ—А—Л –Ч–∞—Б—Г–ї–Є—З» –Є –Њ –Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –С–Њ—А–Ї–Є. –°–Њ–±—А–∞–ї–Њ—Б—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В. –Т—Б–µ—Е —Г–≥–Њ—Б—В–Є–ї–Є –њ–Њ–ї—Г–љ–Њ—З–љ—Л–Љ —Г–ґ–Є–љ–Њ–Љ, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤ —З–µ—Б—В—М –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–љ—П—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–Ї–∞–ї–Њ–≤ –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—З–µ–є.
–Ґ–Њ–≥–і–∞ –≤ –Х–ї–µ–љ–µ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–љ–µ —П –≤–Є–і–µ–ї –±–Њ–≥–∞—В—Г—О —Б–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О –і–∞–Љ—Г, —Е–Њ–Ј—П–є–Ї—Г –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —Б–∞–ї–Њ–љ–∞. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Е–ї–Њ–њ–Њ—В–ї–Є–≤—Г—О, –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Г—О —Б—В–∞—А—Г—И–Ї—Г, –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–≤—И—Г—О —Б–µ–±—П –Ј–∞–±–Њ—В–∞–Љ –Њ–± –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞, –±—Л–≤–∞–ї–Њ, –љ–Є –њ–Њ–і–Њ–є–і–µ—И—М –Ї –і–≤–µ—А—П–Љ –µ–≥–Њ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л (–љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ), —Г—Б–ї—Л—И–Є—И—М —Н–Ї–Ј–µ—А—Б–Є—Б—Л –Є –≥–∞–Љ–Љ—Л, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ—Л–µ –љ–∞ —А–∞–Ј–±–Є—В–Њ–Љ –њ–Є–∞–љ–Є–љ–Њ –љ–µ—Г–Љ–µ–ї—Л–Љ–Є –і–µ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–∞–ї—М—Ж–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ –Х–ї–µ–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–љ–∞ –і–∞–µ—В —Г—А–Њ–Ї–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є –Ї–Њ–Љ—Г-–љ–Є–±—Г–і—М –Є–Ј —Б–Њ—Б–µ–і—Б–Ї–Є—Е —А–µ–±—П—В — –Ј–∞ —Б–∞–Љ—Г—О –Љ–Є–Ј–µ—А–љ—Г—О –њ–ї–∞—В—Г, —А–∞–і–Є —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—Б—В–Є –і–ї—П –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ —П–±–ї–Њ–Ї–Њ –Є–ї–Є —Б—В–∞–Ї–∞–љ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–∞. –°–∞–Љ–Њ–µ –Є–Љ—П –µ–≥–Њ «–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З» –Њ–љ–∞ –≤ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ, —Б –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є –і–ї—П –љ–µ–µ –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–µ, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ–µ, —Б–≤–µ—В–ї–Њ–µ, —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Г –Ъ–Њ–љ–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–∞, –Є –Њ–љ –Љ–Њ–≥ –Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П —Б –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є –ї–Є—И—М –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –њ–Є—Б–µ–Љ, –Њ–љ–∞ –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –±—А–∞–ї–∞, –љ–∞ —Б–µ–±—П –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –Є —А–∞—Б—Б—Л–ї—М–љ–Њ–≥–Њ. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј —В–µ—Е –њ–Є—Б–µ–Љ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ, –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ–љ—Л –Љ–љ–µ –Х–ї–µ–љ–Њ–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–љ–Њ–є. –ѓ —Г–ґ–µ –ї–µ—В –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –љ–µ –њ–µ—А–µ—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –Є—Е, –Є —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ–Є –њ–Њ-–љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –≤–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ–µ–љ—П.
–Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ –µ–ї–µ –і—Л—И–∞–ї –Њ—В –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є; –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –µ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П:
«–ѓ —Б—В—А–∞–і–∞—О —Б–Є–ї—М–љ–µ–є—И–Є–Љ –±—А–Њ–љ—Е–Є—В–Њ–Љ –Є –њ—А–µ–ґ–љ–Є–Љ–Є –±–Њ–ї—П–Љ–Є –≤ —Б—В–∞—А–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–µ –±–µ–і—А–∞...»
–Т –і—А—Г–≥–Њ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ:
«–Ь–Њ–є –љ–µ–≤—А–Є—В –љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–µ—В –Љ–µ–љ—П, –Є –Ї–∞–ґ–і–∞—П –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –≤ –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В –љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ—Б—В—А–Њ–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –Љ—Г–Ї–∞–Љ».
–Ш –≤ —В—А–µ—В—М–µ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ:
«–Ч–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ –Љ–Њ–µ –њ–ї–Њ—Е–Њ. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –≤—Л—Е–Њ–і –љ–∞ –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є (–∞ —Н—В–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ—П—В–љ–Є—Ж—Л) –њ—А–Є—З–Є–љ—П–µ—В –Љ–љ–µ –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Г—О —Г—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В—М –Є –љ–µ—А–≤–љ—Л–µ –±–Њ–ї–Є –≤ —Б–ї–Њ–Љ–∞–љ–љ–Њ–є 19 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –љ–Њ–≥–µ».
–Ш –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ:
«–Т—З–µ—А–∞ –≤ –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–Њ–µ–є –і–≤—Г—Е—З–∞—Б–Њ–≤–Њ–є –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є, —Г –Љ–µ–љ—П —Б–і–µ–ї–∞–ї—Б—П —Б–Є–ї—М–љ—Л–є —Б–µ—А–і–µ—З–љ—Л–є –њ—А–Є–њ–∞–і–Њ–Ї... –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ —П «–њ–µ—А–µ–±–Њ—А—Й–Є–ї» –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ...»
–Э–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В —Н—В–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥, —В–∞–Ї –Њ–љ–∞ —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ, –Є –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –Ј–∞–≥—А—Г–ґ–∞–ї —Б–µ–±—П –µ—О. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —П –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ –Њ—В–і–µ–ї–Њ–Љ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤, –Є –Њ–љ –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї –Љ–љ–µ —В–∞–Ї—Г—О –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г.
«–ѓ –Љ–Њ–≥ –±—Л –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М, — –њ–Є—Б–∞–ї –Њ–љ –Љ–љ–µ, — «–Ю–± –Њ—А–∞—В–Њ—А–∞—Е, —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е, –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е», «–Ю –Ї–љ—П–Ј–µ –Т. –§. –Ю–і–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ», —Н—В–Њ—В –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М —В–µ–њ–µ—А—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П, «–Ц–Є—В–µ–є—Б–Ї–Є–µ –і—А–∞–Љ—Л –Є –≤—Б—В—А–µ—З–Є», «–Ю–±—Й–Є–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є—П», «Taedi- urn vitae» [3] –Є —В. –і. –Є —В. –і.
–Ґ–Њ –µ—Б—В—М –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤–Ј–≤–∞–ї–Є–≤–∞–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П —В–∞–Ї—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –±—Л –µ–і–≤–∞ –ї–Є –њ–Њ–і —Б–Є–ї—Г —В—А–Њ–Є–Љ, –±—Г–і—М –Њ–љ–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Њ—Б—В—А–Њ–є –љ—Г–ґ–і—Л –Њ–љ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г–ґ–µ –љ–µ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї. –Х–≥–Њ –±—Л—В–Њ–≤—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —Г–ї—Г—З—И–Є–ї–Є—Б—М. –Э–Њ –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї —Б–µ–±–µ –Є –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –ї–µ–Ї—Ж–Є–є.
«–≠—В–Њ, — –њ–Є—Б–∞–ї –Њ–љ –Љ–љ–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1921 –≥–Њ–і–∞, — –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Г—В–µ—И–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–µ–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —Б–ї–∞–±–Њ—О –љ–Є—В—М—О –µ—Й–µ –њ—А–Є–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ –Љ–µ–љ—П –Ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О –≤–Њ–Њ–±—Й–µ. –І—В–µ–љ–Є–µ –ї–µ–Ї—Ж–Є–є, –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –Є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б–Њ —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є, –Є—Е —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ –Љ–љ–µ –≤ –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ, «–Ц–Є–≤–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ» –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е –Њ–±–Њ–і—А—П–µ—В –Љ–µ–љ—П, –і–∞–µ—В –Љ–љ–µ —Б–Є–ї—Л –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В—Л –Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Њ—В–≤–ї–µ–Ї–∞—В—М—Б—П –Њ—В –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є... –Ю—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є —З–µ—А–µ–Ј –Ї–∞–ґ–і—Л–µ 10 –Љ–Є–љ—Г—В –њ—А–Є—Б–∞–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –Є–Ј–љ–µ–Љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї –Є–ї–Є —В—Г–Љ–±—Г, —П –±—Г–і—Г –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—А–Њ—Б–Є—В—М –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л–µ –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є, –Є —Н—В–Њ –љ–∞–љ–µ—Б–µ—В –Љ–љ–µ –љ–µ–Є–Ј–ї–µ—З–Є–Љ—Л–є –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Г–і–∞—А».
–Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, — –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї –Њ–љ, — —З—В–Њ —П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Љ–µ—З—В–∞–ї –Њ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б—Г—А–µ. –Х–і–≤–∞ —П –Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Б–Ї—Г—О —Б—В–µ–њ–µ–љ—М \ –Љ–љ–µ –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Ї–∞—Д–µ–і—А–∞. –Ф–ї—П –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —О–љ–Њ—И–Є —В–Њ –±—Л–ї–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П —З–µ—Б—В—М — —Б—В–∞—В—М –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–Њ–Љ –≤ —В–µ—Е —Б–∞–Љ—Л—Е —Б—В–µ–љ–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞, –Ю–≥–∞—А–µ–≤–∞, –У—А–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ! –Э–Њ –Љ–µ–љ—П –Љ–∞–љ–Є–ї–∞ –і—А—Г–≥–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ — –љ–∞—Б–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–≤, — –Є —П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П. –Р —В–µ–њ–µ—А—М, –љ–∞ –≤–Њ—Б—М–Љ–Њ–Љ –і–µ—Б—П—В–Ї–µ, —П –Љ–Њ–≥—Г –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є—В—М —Б–µ–±—П –ї—О–±–Є–Љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —П –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–≥.
–Ь–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М —В–∞–Ї –Є —В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ї –љ–µ–Љ—Г. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Љ–µ–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Є—Е –і–љ–µ–є –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л—Е —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞.
–Т 1926 –≥–Њ–і—Г, 10 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–Љ—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М 82 –≥–Њ–і–∞, –Ї –љ–µ–Љ—Г –љ–∞ –Э–∞–і–µ–ґ–і–Є–љ—Б–Ї—Г—О –њ—А–Є—И–ї–Є —Б –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –і–µ—Б—П—В–Ї–Є —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –Т –њ–Є—Б—М–Љ–µ –Ї –і–Њ—З–µ—А–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞ –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–љ–µ –°–∞–і–Њ–≤–Њ–є –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –±–µ–Ј –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В–Є:
«–Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –±—Л–ї–Њ 62 –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П –Є 41 –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Є 8 —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ. –Я–Њ –≥—А–µ—Е–∞–Љ, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ»[4].
–Т –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ–љ –≤–µ–ї –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П —Б–Њ —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є, –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—П –Њ—З–µ–љ—М —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞—Г—З–Є—В—М –Є—Е –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г –Њ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —А–µ—З–Є — —В–Њ–Љ—Г –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–љ —Б–∞–Љ –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї –љ–µ–і–Њ—Б—П–≥–∞–µ–Љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ. –Ю–љ —Г—З–Є–ї –Є—Е —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ—Г –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є—О, –Є–љ—Б—Ж–µ–љ–Є—А—Г—П —Б—Г–і. –Т–Њ–є–і—П –≤ —В—Г –∞—Г–і–Є—В–Њ—А–Є—О, –≥–і–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–∞–љ—П—В–Є—П, —П –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г—Б—М –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ —Б—Г–і–µ. –Э–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ —Б–Є–і–µ–ї –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л — —Й—Г–њ–ї—Л–є —О–љ–Њ—И–∞ –ї–µ—В –і–µ–≤—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є. –Я—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –і–µ–≤–Є—Ж–∞ — —Б –Ї—А—Г–≥–ї—Л–Љ, –Љ—П–≥–Ї–Є–Љ, –і–Њ–±—А–Њ–і—Г—И–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ. –Т —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ, –љ–∞ –Њ—В–ї–µ—В–µ, –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–Њ–Љ —Б–Є–і–µ–ї –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В— –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–≥–ї–∞–Ј—Л–є, –Ї—Г–і—А—П–≤—Л–є –±—А—О–љ–µ—В —Б–Є–ї—М–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞. –Р —Г –љ–µ–≥–Њ –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є –љ–∞ —Б–Ї–∞–Љ—М–µ –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е —В–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б —В–Њ—Б–Ї–Њ—О –≤–Њ –≤–Ј–Њ—А–µ –Ј–∞—Б—В–µ–љ—З–Є–≤—Л–є, –Љ–Є–ї–Њ–≤–Є–і–љ—Л–є —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Є–Ї —Б –і–µ–≤–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–∞–Є–≤–љ—Л–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –ї–Є—Ж–∞. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞.
–Э–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –Є –њ—П—В–Є –Љ–Є–љ—Г—В, –Ї–∞–Ї —П –њ–Њ–љ—П–ї –Є–Ј —Б–ї–Њ–≤ «–њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞», —З—В–Њ —Н—В–Њ—В —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Є–Ї —Г–ґ–∞—Б–љ—Л–є –Ј–ї–Њ–і–µ–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ —Г—В–Њ–њ–Є–ї –≤ —А–µ–Ї–µ –Ц–і–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ —Б–≤–Њ—О –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Г—О –ґ–µ–љ—Г, –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–∞ –љ–µ –Љ–µ—И–∞–ї–∞ –µ–Љ—Г —Б–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Б –њ—А–∞—З–Ї–Њ–є –Р–≥—А–∞—Д–µ–љ–Њ–є.
–Ґ–∞–Ї, —Б –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –Є–љ—Б—Ж–µ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Ј–і–µ—Б—М, –њ–µ—А–µ–і —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞–Љ–Є, —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б «–њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–± —Г—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–Є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Ї–Є –Х–Љ–µ–ї—М—П–љ–Њ–≤–Њ–є», –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–љ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї–µ–Љ.
–Т–Є–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ, —З—В–Њ –і–µ–ї–Њ –≤–µ–і–µ—В—Б—П –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј, —З—В–Њ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є «–њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞» –≤–Њ—И–ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–Є —А–Њ–ї–Є; –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞-–њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б —В–∞–Ї–Њ–є –Є—Б–њ–µ–њ–µ–ї—П—О—Й–µ–є –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В—М—О –≥–ї—П–і–µ–ї–∞ –љ–∞ —Б–Љ–∞–Ј–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Њ–љ –Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –±—Л–ї –Љ–µ—А–Ј–∞–≤—Ж–µ–Љ, —Г–ї–Є—З–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –±–µ—Б—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ–Љ –Ј–ї–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–µ. –Ю–љ–∞ –Њ–±—А—Г—И–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ —Б –≥–љ–µ–≤–љ–Њ–є —А–µ—З—М—О, –Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –Њ–і–Њ–±—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Є–≤–∞–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є. –Р–і–≤–Њ–Ї–∞—В —В–Њ–ґ–µ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Є–µ. –Э–Њ «–њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л» –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ, –Є–±–Њ —В–Њ—В –љ–µ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –љ–∞–њ—Г—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ, –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —А–µ–Ј—О–Љ–µ, —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–ґ —П–≤–љ–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ—П–ї –≤–µ—Б—Л –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –°–Є–±–Є—А–Є –Є –Ї–∞—В–Њ—А–≥–Є.
–Т—Л –Є–Ј–Љ–µ–љ—П–µ—В–µ —А–Њ–ї–Є —Б—Г–і—М–Є –і–ї—П —А–Њ–ї–Є –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞! — —Б–µ—А–і–Є–ї—Б—П –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –і–µ–ї–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ —Б—Г–і–µ, –Є –љ–µ–≥–Њ–і—Г—О—Й–µ —Б—В—Г—З–∞–ї –Ї–Њ—Б—В—Л–ї—М–Ї–Њ–Љ.
–°—В–Њ–ї—М –ґ–µ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј—Л–≥—А–∞–љ–Њ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ «–Ф–µ–ї–Њ –Њ –њ–Њ–і–ї–Њ–≥–µ —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї–Є –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є –©–µ—А–±–∞—В–Њ–≤–Њ–є», –Є –Ї–∞–Ї –Њ–≥–Њ—А—З–∞–ї—Б—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є —О—А–Є—Б—В, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М —Б—Г–і—Г –љ—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–∞ –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л—Е! –Ґ—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М, –∞ –≤ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –±—Л–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—П—В—М –Є–ї–Є —И–µ—Б—В—М, –і–∞ –Є —В–µ —Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –љ–µ–Њ—Е–Њ—В–Њ–є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —Н—В–Є –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤—Л–µ —А–Њ–ї–Є: –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л—В—М –ї–Є–±–Њ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–Њ–Љ, –ї–Є–±–Њ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ–Љ, –ї–Є–±–Њ — —З—В–Њ –µ—Й–µ –ї—Г—З—И–µ! — –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ —Б–µ–±—П —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ-—В–Њ –і–µ–ї–µ —Г—Б–њ–µ–ї –Њ—В–≥—А–µ–Љ–µ—В—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г–≤–µ–Ї–∞ –љ–∞–Ј–∞–і.
–Я–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —В–∞–Ї–Њ–є –Є–љ—Б—Ж–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —Б—Г–і–∞ –Ъ–Њ–љ–Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–ї —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ —А–µ—З–Є –Є —Б—В—А–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–µ–Ї–∞–ї –і–µ–≤—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є—Е –Њ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –µ—Б–ї–Є –≤ –Є—Е —А–µ—З–∞—Е –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є—Б—М –і–µ—И–µ–≤—Л–µ, —Е–Њ–і–Њ–≤—Л–µ, —В—А–µ—Б–Ї—Г—З–Є–µ —Д—А–∞–Ј—Л, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ —Б –љ–∞–Є–≥—А–∞–љ–љ—Л–Љ –њ–∞—Д–Њ—Б–Њ–Љ. –Ю–љ –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–µ–ї —А–Є—В–Њ—А–Є–Ї—Г, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В—Л –Є –±—Л–ї –љ–µ–Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤ –Ї —В–µ–Љ\ –Ї—В–Њ –љ–∞—А—Г—И–∞–ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л —П–Ј—Л–Ї–∞.
–Я–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —В–∞–Ї–Є—Е –Є–љ—Б—Ж–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї –±—Л–ї–∞ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–∞, –Є —П –ї—О–±–Є–ї –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –љ–Є—Е, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–∞, –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ–Љ–∞—П –≤ —Н—В–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–µ–Љ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ, —П–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ—О –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –≤–µ—А–љ—Л—Е –њ—Г—В–µ–є –і–ї—П –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –Њ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Њ–±–Њ –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Њ–Љ —П –≥–Њ–≤–Њ—А—О –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—Д–∞–љ, –Њ—З–µ–љ—М –і–∞–ї–µ–Ї–Є–є –Њ—В —Б—Г–і–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. –Т —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е –Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ —П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –±–Њ–ї–µ–µ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–Љ,, –Є, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М, –њ–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Ї–Њ –Љ–љ–µ —Б –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є—Е —З—Г–≤—Б—В–≤ –Є –Љ–љ–µ–љ–Є–є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г. –£ –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ —З—Г–і–µ—Б–љ–∞—П —З–µ—А—В–∞: –≥–Њ–≤–Њ—А—П –Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е —П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е, –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Г–Љ–µ–ї –±—Л—В—М —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ — –Њ–љ–Є –ї–Є–±–Њ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–ї–Є –µ–≥–Њ, –ї–Є–±–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –љ–µ–Љ –≥–љ–µ–≤–љ—Л–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞.
–Т 1924 –≥–Њ–і—Г –Я—Г–±–ї–Є—З–љ–∞—П –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –Њ–±–љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ —Е—А–∞–љ–Є–≤—И—Г—О—Б—П –≤ –µ–µ –∞—А—Е–Є–≤–µ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М –≥–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є «–Э–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є». –Т —Н—В–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –њ—А–Њ–±—Г–µ—В –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –љ–Є –љ–∞ —З–µ–Љ –љ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤ —В–Њ–Љ, –±—Г–і—В–Њ –Ґ—Г—А–≥–µ–љ–µ–≤ –њ–Њ–Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Г –љ–µ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Л –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ «–Ф–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–љ–µ–Ј–і–∞». –Ґ–Њ –±—Л–ї, –њ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О –Ъ–Њ–љ–Є, «–±–µ–Ј—Г–Љ–љ—Л–є –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –±—А–µ–і». –Ю–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ «–±—А–µ–і–∞» –≤–Њ–Ј–Љ—Г—В–Є–ї–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Є «–≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ –±—Г—А–љ—Л–є –њ—А–Њ—В–µ—Б—В. –Ъ–∞–Ї –і—А—Г–≥ –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤–∞, –Њ–љ —Б—З–µ–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –µ–≥–Њ –њ–∞–Љ—П—В–Є –Є –≤–Ј–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –Ї–Њ –Љ–љ–µ –љ–∞ —В—А–µ—В–Є–є —Н—В–∞–ґ, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М —Б–≤–Њ–є, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П, «–Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –∞–Ї—В» –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ї–Є—Ж, –Њ–±–љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е —Н—В—Г –њ–Њ—В–∞–µ–љ–љ—Г—О —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М.
–Ґ–∞–Ї –ґ–µ –≤–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ —А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Њ–љ –Є –љ–∞ —В–∞–Ї–Є–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞; –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –µ–Љ—Г –њ–Њ –і—Г—И–µ. –Я—А–Њ—З—В—П —Б—В–∞—В—М—О –У–Њ—А—М–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –ґ–µ–љ—Л -–Ы—М–≤–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Љ–љ–µ –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1925 –≥–Њ–і–∞:
«–Х—Б–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В–µ –Љ–љ–µ –∞–і—А–µ—Б –У–Њ—А—М–Ї–Њ–≥–Њ. –ѓ –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–µ –Њ—В –µ–≥–Њ —Б—В–∞—В—М–Є –Њ –°–Њ—Д—М–µ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–љ–µ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Є —Е–Њ—З—Г –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –µ–Љ—Г –Њ–± —Н—В–Њ–Љ. –Ь—Л —В–∞–Ї —Б–Њ—И–ї–Є—Б—М —Б –љ–Є–Љ –≤–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞—Е».
–Ґ–∞–Ї–Є—Е –њ–Є—Б–µ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Є –љ–µ—В—А—Г–і–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е —П–≤–ї–µ–љ–Є–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ—В, –µ—Б–ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–∞–Ї –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П, –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є, —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, —Б—Г–і–µ–є—Б–Ї–Є–є –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–є. –Ґ–Њ –ґ–µ –Є -–≤–Њ –≤—Б–µ—Е –µ–≥–Њ —Б—В–∞—В—М—П—Е. –•–Њ—В—П –Њ–љ –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ–Є—Е –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ —В–µ–Љ—Л — –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –њ–Є—И–µ—В –Њ–± –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –∞–Ї—В–µ—А–µ, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–µ —Б—Ж–µ–љ –Є–Ј –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–∞ –Ш–≤–∞–љ–µ –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤–µ, –≤. –і—А—Г–≥–Њ–є — –Њ —Е–Є—А—Г—А–≥–µ –Я–Є—А–Њ–≥–Њ–≤–µ, –≤ —В—А–µ—В—М–µ–є — –Њ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ, — –љ–Њ –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Є–Ј –љ–Є—Е –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —Б—Г–і—М–µ–є, —Б—В–∞–≤—П—Й–Є–Љ —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –њ—А–µ–≤—Л—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В–∞–Ї –і–Њ—А–Њ–≥ –Љ–љ–µ —В–Њ—В –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞–Ї —О—А–Є—Б—В, –Ї–∞–Ї —Б—Г–і—М—П –≤—Л–љ–µ—Б –Њ–і–љ–Њ–є –Љ–Њ–µ–є –Ї–љ–Є–ґ–Ї–µ. –Ъ–љ–Є–ґ–Ї–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М «–Ц–µ–љ–∞ –њ–Њ—Н—В–∞». –Т –љ–µ–є –њ–Њ –Љ–µ—А–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–љ–Є—П —П –њ—Л—В–∞–ї—Б—П —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –≤ —Б—З–Є—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–≤–Є–і–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–∞—Е –Р–≤–і–Њ—В—М–Є –Я–∞–љ–∞–µ–≤–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–Є–ї–Є —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–є –µ–µ –і—А—Г–≥—Г –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ—Г–ґ—Г –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤—Г. –Ъ–љ–Є–ґ–Ї–∞ –≤—Л—И–ї–∞ –≤ 1921 –≥–Њ–і—Г. –ѓ —Б —В—А–µ–њ–µ—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–∞–ї –µ–µ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З—Г, –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –Љ–Њ—П –љ–µ—З–∞—П–љ–љ–∞—П —А–∞–і–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –ґ–µ –і–µ–љ—М —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ—В –љ–µ–≥–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ:
«...–Я—А–Є–і—П –і–Њ–Љ–Њ–є, —П –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤—Б—П–Ї—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г –Є –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П –Ј–∞ –Т–∞—И—Г –Ї–љ–Є–ґ–Ї—Г –Њ –ґ–µ–љ–µ –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤–∞ — –Є –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Њ—В–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В –љ–µ–µ. –У–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ –Т–∞—И–Є—Е –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ—В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л—Е –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П—Е, –њ–Њ–њ–∞–і–∞—О—Й–Є—Е, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –±—Л –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤, «–њ—А—П–Љ–Њ –≤ —Ж–µ–љ—В—А—Г», –Њ –Т–∞—И–µ–є —Н—А—Г–і–Є—Ж–Є–Є –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ-–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є — –љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П. –≠—В–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є. –Э–Њ –≤–Њ –Љ–љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —Б—В–∞—А—Л–є —Б—Г–і—М—П, –Є —П –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ –Т–∞—И–Є–Љ —З–Є—Б—В–Њ —Б—Г–і–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –±–µ—Б–њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Є, –≥–Њ–≤–Њ—А—П —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л—Е, –Т–∞—И–Є–Љ «'—А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—П—Й–Є–Љ –љ–∞–њ—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ», –Т–∞—И–Є–Љ —А–µ–Ј—О–Љ–µ –і–µ–ї–∞ –Њ –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е — –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤–µ –Є –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–µ. –Т–∞—И–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–є –Њ—В—З–µ—В, –Є –Т–∞—И–µ «–Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ» –і—Л—И–Є—В «–њ—А–∞–≤–і–Њ–є –Є –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М—О»- –Ф–∞–≤–љ–Њ –љ–µ —З–Є—В–∞–ї —П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –і–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—О—Й–µ–≥–Њ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –Є –Ї–ї–∞–і—Г—Й–µ–≥–Њ –±–ї–Є—Б—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–љ–µ—Ж –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Љ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Є –њ–Њ—Б–њ–µ—И–љ–Њ-–і–Њ–≤–µ—А—З–Є–≤—Л–Љ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П–Љ. ·
–°–µ—А–і–µ—З–љ–Њ –ґ–Љ—Г –Т–∞—И—Г —А—Г–Ї—Г.
–Т–∞—И –Р. –Ъ–Њ–љ–Є.
–Ч–∞–Љ—Г—З–Є–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –±–µ—Б—Б–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞. –Ы–µ–≥ –≤ —З–∞—Б –Є –≤–Њ—В –≤ —З–µ—В—Л—А–µ —Г–ґ–µ —Б–Є–ґ—Г –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ».
–Т –њ–Є—Б—М–Љ–µ –±—Л–ї–Є —Б—В—А–Њ–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –Љ–љ–µ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –Є–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є:
«–Я—А–Є–ї–∞–≥–∞—О —Б–≤–Њ—О –Ї–љ–Є–ґ–µ—З–Ї—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ –Т–∞—И–Є—Е –Ї–љ–Є–≥ –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ —Б—В—Г—З–∞—В—М—Б—П —Б –љ–µ—О –≤ –Т–∞—И–Є –і–≤–µ—А–Є, –љ–Њ —Г–ґ –њ—Г—Б—В–Є—В–µ –Ї —Б–µ–±–µ –±–µ–і–љ—Г—О —Б—В—А–∞–љ–љ–Є—Ж—Г».
–≠—В–Њ –њ–Є—И–µ—В –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є —О—А–Є—Б—В, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –Љ–∞—Б—В–µ—А —Б–ї–Њ–≤–∞, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤ –Є –Ґ—Г—А–≥–µ–љ–µ–≤ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤, –њ–Є—И–µ—В –±–µ–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –∞–≤—В–Њ—А—Г –љ–µ–њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є.
–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ї –ї—О–і—П–Љ –±—Л–ї–Њ, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Ъ–Њ–љ–Є. –°—А–µ–і–Є –µ–≥–Њ –њ–Є—Б–µ–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —В–∞–Ї–Є—Е:
«...–Ф–Њ—З—М –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Я–∞–≤–ї–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Ъ–Њ–≤–∞–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (—Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞ «–°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞» –Є «–Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї») –Ю–ї—М–≥–∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–љ–∞, –ґ–Є–≤—Г—Й–∞—П –≤ –У–∞—В—З–Є–љ–µ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є... –Ш–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ, —З—В–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ—О –≤–∞—Б» –Є —В. –і., –Є —В. –і.; –Є —В. –і.
«...–£ –Љ–µ–љ—П –µ—Б—В—М –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є, —Б—Л–љ –Љ–Њ–µ–≥–Њ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Ж–∞ –°. –Ъ. –У–Њ–≥–µ–ї—П, —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–є—Б—П –≤ –±–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —В—Г–±–µ—А–Ї—Г–ї–µ–Ј–∞ –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —Б—А–µ–і—Б—В–≤. –ѓ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—В–µ–ї –±—Л –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –µ–Љ—Г, –љ–Њ –°–Њ—О–Ј –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є —Б–∞–Љ —Б—В—А–∞–і–∞–µ—В «–≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –љ—Г–ґ–µ–љ», –Ї–∞–Ї –њ–Є—Б–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Г. –Т—Л –Ј–љ–∞–µ—В–µ –≤–µ—Б—М –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –Љ–Є—А –Є –µ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Э–µ —Г–Ї–∞–ґ–µ—В–µ –ї–Є –Љ–љ–µ, –Ї—Г–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П —Б —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ–Љ –Ј–∞ –±–µ–і–љ—П–Ї–∞», –Є —В. –і., –Є —В. –і., –Є —В. –і.
–°–∞–Љ –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Є —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—Б—В–∞–ї—Л–є, –Њ–љ, –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–≥–∞—П —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±–Њ–ї—М—О, –љ–µ—Г—В–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Е–ї–Њ–њ–Њ—В–∞–ї –Њ –і—А—Г–≥–Є—Е.
–Ю—З–µ–љ—М —В–Њ—З–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї —Н—В—Г —З–µ—А—В—Г –µ–≥–Њ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Є —О—А–Є—Б—В –°. –Р. –Р–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Њ–±—А–∞—В–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є:
–Ы—О–±–ї—О —В–≤–Њ–Є—Е –≥–ї–∞–Ј –љ–µ–њ–Њ—А–Њ—З–љ—Г—О —П—Б–љ–Њ—Б—В—М,
–Ш —Б–Љ–µ–ї—Г—О –њ—А–∞–≤–і—Г —А–µ—З–µ–є,
–Ш –і–Њ–±—А—Л—Е –і–µ—П–љ–Є–є —Б–≤—П—В—Г—О –±–µ–Ј–≥–ї–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –Т –Ї—А—Г–≥—Г –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є.
II
–Э–Њ —П –±–Њ—О—Б—М, —З—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї—Б—П —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –њ—А–µ—Б–љ—Л–є –Є –њ–Њ—Б—В–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –µ–ї–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞, –≤–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є—Й–∞ –≤—Б–µ—Е –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї–µ–є — –љ–µ –њ–Њ—А—В—А–µ—В, –∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Є–Ї–Њ–љ–∞.
–°–њ–µ—И—Г –Ј–∞–≤–µ—А–Є—В—М, —З—В–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б —Н—В–Њ–є —Г—В–Њ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї—Г—З–љ–Њ–є –њ–Њ—А–Њ–і–Њ–є –ї—О–і–µ–є.
–І—Г–і–µ—Б–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ –љ–µ–Љ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –µ–≥–Њ —Б—В–∞—А—Л—Е –і—А—Г–Ј–µ–є, –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –£—А—Г—Б–Њ–≤:
«–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З — –≤–Є—А—В—Г–Њ–Ј –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї–Є. –£ –і—А—Г–≥–Є—Е —Н—В–∞ –±–Њ–≥–Є–љ—П —Б–Ї—Г—З–љ–∞ –Є –±–∞–љ–∞–ї—М–љ–∞, –∞ —Г –Ъ–Њ–љ–Є –Њ–љ–∞ —Г–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–∞, –Њ—Б—В—А–Њ—Г–Љ–љ–∞ –Є —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—А–Њ–Ї» [5].
–Ь–Њ–≥—Г –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–∞–Ї. –£ –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л—Е —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –њ—А–Є—Б—В–∞–ї–Є —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б—Г–і—М–µ, –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—О –љ—А–∞–≤–Њ–≤, –њ–µ–Ї—Г—Й–µ–Љ—Г—Б—П –Њ–± –Є—Б–Ї–Њ—А–µ–љ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤.
–Ш –њ–µ—А–≤–Њ–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ — «–≤–µ—Б–µ–ї–Њ–љ—А–∞–≤–Є–µ», —О–Љ–Њ—А. –Э–µ –њ–Њ–Љ–љ—О —Б–ї—Г—З–∞—П, –і–∞–ґ–µ –≤ –≥–Њ–і—Л –µ–≥–Њ —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є, —З—В–Њ–±—Л, –њ—А–Є–і—П –Ї –љ–µ–Љ—Г, —П –љ–µ —Г—Б–ї—Л—Е–∞–ї –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Ј–∞–±–∞–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –≥—А–Њ—В–µ—Б–Ї–µ. –Ю–љ –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ —О–Љ–Њ—А–Њ–Љ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–≤—И–Є–Љ –Ї–∞–Ї–Њ–µ –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ —Е–∞–љ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ.
–≠—В–Њ, –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—Б—П, —Г–і–Є–≤–Є–ї–Њ –Љ–µ–љ—П –њ—А–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –ґ–µ –љ–∞—И–µ–є –≤—Б—В—А–µ—З–µ.
–Ю–љ –ґ–Є–ї —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–µ (–≤ –і–Њ–Љ–µ вДЦ 100), –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж—Л. –ѓ —И–µ–ї –Ї –љ–µ–Љ—Г, –љ–∞—Б—В—А–Њ–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ —Б—Г–Љ—А–∞—З–љ—Л–є –ї–∞–і, –љ–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞—Б–∞, –Ї–∞–Ї —П —Б —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –±–µ—Б–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ —Г–ї—Л–±–∞—О—Б—М –≤–Њ –≤–µ—Б—М —А–Њ—В. –Ь–µ–љ—П –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –њ—А–Є–≤–µ—В–ї–Є–≤—Л–є –њ–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞, –±–µ–Ј —Г—Б–Њ–≤, —Б —А—Л–ґ–µ–≤–∞—В–Њ–є –±–Њ—А–Њ–і–Ї–Њ–є, —Б –Њ–ґ–Є–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –Љ–Њ–ї–Њ–ґ–∞–≤—Л–Љ–Є, –і–∞–ґ–µ —З—Г—В—М-—З—Г—В—М –Њ–Ј–Њ—А–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є. –£–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Њ–њ–Є—А–∞–ї—Б—П –љ–∞ –њ–∞–ї–Ї—Г, –њ—А–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ, —И–∞–≥–µ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –љ–∞–Ї—А–µ–љ—П—П—Б—М –≤–њ–µ—А–µ–і, –љ–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї–Њ –µ–Љ—Г –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–і—А–Њ –Є –±—Л—Б—В—А–Њ –Ї–Њ–≤—Л–ї—П—В—М –њ–Њ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В—Г, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Љ–љ–µ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Є–Ї–Є, —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –≥—А–∞–≤—О—А–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Б–≤–µ—А—Е—Г –і–Њ–љ–Є–Ј—Г, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ, –±—Л–ї–Є —Г–≤–µ—И–∞–љ—Л –≤—Б–µ —З–µ—В—Л—А–µ —Б—В–µ–љ—Л –µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л. –Я–Њ–і–≤–µ–і—П –Љ–µ–љ—П –Ї –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Г –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤–∞, –Њ–љ —В—Г—В –ґ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–≤ –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Є, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, —З—В–Њ –Ш–≤–∞–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ґ—Г—А–≥–µ–љ–µ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ, –Ї–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —Б—З–Є—В–∞–ї —Е–Є—В—А–µ—Ж–Њ–Љ, –љ–µ–і–Њ–≤–µ—А—З–Є–≤–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б:
–Я—А–Є—В–≤–Њ—А—П–µ—В—Б—П!
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ –і–∞–ґ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤–∞: –≥—Г–±—Л –µ–≥–Њ –Љ—А–∞—З–љ–Њ –Є—Б–Ї—А–Є–≤–Є–ї–Є—Б—М, –≥–ї–∞–Ј–∞ —Б—В–∞–ї–Є —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Є—Б–њ–Њ–і–ї–Њ–±—М—П, –ї–Є—Ж–Њ –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї–Њ —В—П–ґ–µ–ї—Г—О –Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ —Н—В–Њ –і–ї–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Л, –Є, –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤ —Б–≤–Њ–є –њ–Њ—А—Л–≤ –Ї –ї–Є—Ж–µ–і–µ–є—Б—В–≤—Г, –Њ–љ —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –Ї–∞–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л, –≥—Г–ї—П—П –њ–Њ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ—Г, –і–Њ–±—А–Њ–і—Г—И–љ–Њ –њ–Њ—В–µ—И–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–і —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ–Є, –Њ—Е—А–∞–љ—П–≤—И–Є–Љ–Є –і–≤–Њ—А–µ—Ж –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Л –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Н–Ї—Б—Ж–µ–љ—В—А–Є—З–љ–Њ–є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–µ — –Ї–ї–µ—В—З–∞—В—Л—Е —О–±–Њ—З–Ї–∞—Е –≤—Л—И–µ –Ї–Њ–ї–µ–љ.
«–І—В–Њ –≤—Л —В—Г—В —Б–Љ–µ–µ—В–µ—Б—М?» — —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤. «–Ф–∞ —В—Л –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є, –≤–∞—И–µ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–Є–µ, –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–∞-—В–Њ –Є–Љ —И—В–∞–љ–Њ–≤ –љ–µ –і–∞–ї–∞!» (–° —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ —Г–і–∞—А–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–µ —И—В–∞–љ–Њ–≤.)
–Я–Њ–Ј–ґ–µ —П –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј, –Ї–∞–Ї —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –≤–ї–∞–і–µ–µ—В –Ъ–Њ–љ–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ—О, «–Љ—Г–ґ–Є—Ж–Ї–Њ—О» —А–µ—З—М—О. –Ю–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї —Н—В—Г —А–µ—З—М, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ј–∞–њ—А–∞–≤—Б–Ї–Є–є –∞–Ї—В–µ—А, –љ–Є—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —И–∞—А–ґ–Є—А—Г—П –µ–µ –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є–є, –љ–µ –≤—Л–њ—П—З–Є–≤–∞—П –µ–µ –њ—А–Є—З—Г–і–ї–Є–≤—Л—Е —Б–ї–Њ–≤:
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –ї–µ—З—М –љ–∞ –±—А—О—Е–Њ –і–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є –њ—А–Є–Ї—А—Л—В—М—Б—П.
–Ю–љ –≤—Л–њ–Є–≤—И–Є –±—Л–ї, —Г –љ–∞—Б –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї, –љ—Г, –Њ–љ –Є –љ–∞–њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–Є–ї—Б—П.
–Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ –Њ–љ –ї—О–±–Є–ї –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤–∞, –ї—О–±–Є–ї –µ–≥–Њ —Б—Ж–µ–љ—Л –Є–Ј –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–∞ –Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї –µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ.
–Ю–љ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –±—Л–ї –≥–Њ–≤–Њ—А–ї–Є–≤, —Б–ї–Њ–≤–Њ–Њ—Е–Њ—В–ї–Є–≤ –Є –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞. –Ю—З–µ–љ—М –Ј–∞–±–∞–≤–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ–љ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–µ–є —Б—В–∞—А—Г—Е–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ї–ї—П–ї–∞—Б—М –Є –±–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ–∞, –µ—Й–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Њ–є, –≤—Л—И–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ –Ј–∞ –њ—П—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞ –Є –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М —А–Њ–і–Є–ї–∞ «—Б–Њ—В–љ—О –°–∞—И–µ–љ–µ–Ї –Є —Б–Њ—В–љ—О –У—А–Є—И–µ–љ–µ–Ї».
–Ш –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ «–Ю –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –≤ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї».
–Ш –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Њ –≥—А–∞—Д–µ –°–Њ–ї–ї–Њ–≥—Г–±–µ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ: –Њ–љ –Њ–њ–Њ–ї–Њ—Г–Љ–µ–ї –Њ—В –і—А—П—Е–ї–Њ—Б—В–Є –Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–і—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З—Г:
–Я–Њ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—О –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –±–Њ–≥–∞ —П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Њ–њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В—М –≤—Б–µ—Е –і–µ–≤–Є—Ж, –Њ–±–Є—В–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є –њ–ї–∞–љ–µ—В–µ. –Р –Љ–µ–љ—П –Є –љ–∞ –њ–Њ–ї-–Х–≤—А–Њ–њ—Л –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В.
–Т –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –Љ–Њ–Є—Е –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–є, –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О, –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О, –Њ–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О, –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ–і—И—Г—О –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ. –Ґ—Г–і–∞ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞ –Є–Ј –Я–∞—А–Є–ґ–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–ґ–µ–љ–Ї–∞, –Є –Ј–∞ –љ–µ–є —Б—В–∞–ї —Г—Е–∞–ґ–Є–≤–∞—В—М –Њ–і–Є–љ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А. –Р —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–ї–∞ –і–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—А–∞–Ї–∞ —Г—Б—В—Г–њ–Є—В—М –µ–≥–Њ —Г–њ–Њ—А–љ—Л–Љ –і–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, –Њ–љ –њ–Њ–≤–µ–ї –µ–µ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Є –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї—Г –Љ–Њ–ї–µ–±–µ–љ — —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –Ј–∞ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ —Ж–∞—А—П. –§—А–∞–љ—Ж—Г–ґ–µ–љ–Ї–∞, –љ–µ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–≤—И–∞—П—Б—П –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞—Е, –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –Љ–Њ–ї–µ–±–µ–љ –Ј–∞ —Б–≤–∞–і–µ–±–љ—Л–є –Њ–±—А—П–і –Є, –≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–≤ —Б–µ–±—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–µ–љ–Њ–є, –њ—А–Њ–≤–µ–ї–∞ —Б –Њ–±–Љ–∞–љ—Г–≤—И–Є–Љ –µ–µ —И–∞–ї–Њ–њ–∞–µ–Љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л—Е —З–∞—Б–Њ–≤ –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞. –Э–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–µ–±–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–µ –µ–µ –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ — —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ — —Г–Ј–љ–∞–ї–∞ –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ–њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–Љ–Њ–є –Њ—И–Є–±–Ї–µ... –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –≤—Б–µ –Њ–±–Њ—И–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–љ–Њ: —Д—А–∞–љ—Ж—Г–ґ–µ–љ–Ї–µ –њ–Њ—Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і—Б—В–µ—А–µ—З—М —Ж–∞—А—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –µ–≥–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Ї–Є, –Њ–љ–∞ –±—А–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –Ї –µ–≥–Њ –љ–Њ–≥–∞–Љ –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–є –±–µ–і–µ. –¶–∞—А—М –≤–Њ—Б–њ—Л–ї–∞–ї –≥–љ–µ–≤–Њ–Љ –Є, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Ї–∞—А–∞—В—М –љ–µ—З–µ—Б—В–Є–≤—Ж–∞, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –≤—Б–µ–Љ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–Љ —Г—Б—В–∞–≤–∞–Љ:
–°—З–Є—В–∞—В—М –Љ–Њ–ї–µ–±–µ–љ –±—А–∞–Ї–Њ—Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ–Љ!
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ї–Њ–≤–∞—А–љ—Л–є –Њ–±–Њ–ї—М—Б—В–Є—В–µ–ї—М —Б—В–∞–ї –ґ–µ—А—В–≤–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –ґ–µ –Ї–Њ–≤–∞—А—Б—В–≤–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Г—В—А–∞—В–Є–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –ґ–µ–љ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –±–Њ–≥–∞—В–Њ–є –љ–µ–≤–µ—Б—В–µ, –∞ –µ–≥–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–ґ–µ–љ–Ї–∞ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–∞ –љ–Є –≥—А–Њ—И–∞ –Ј–∞ –і—Г—И–Њ–є.
–Т—Б–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ —В—Л—Б—П—З—Г —А–∞–Ј –ї—Г—З—И–µ, —З–µ–Љ –Ј–і–µ—Б—М —Г –Љ–µ–љ—П, –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ: –ґ–Є–≤—Л–µ –Љ–Њ–і—Г–ї—П—Ж–Є–Є –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞, –њ–Њ–ї–љ–Њ–≤–µ—Б–љ—Л–µ —Н–њ–Є—В–µ—В—Л, –њ–∞—Г–Ј—Л –≤ –љ—Г–ґ–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е — –≤—Б–µ –Њ–±–ї–Є—З–∞–ї–Њ –≤ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–µ –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –Є–Ј—Г—Б—В–љ—Л—Е —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤[6]. –Ш—Е –±—Л–ї–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ. –Ш –Ј–і–µ—Б—М –≤ –љ–µ–Љ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –і—А—Г–≥–∞—П —З–µ—А—В–∞, –ї–Є—И–∞–≤—И–∞—П –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ—Б—В—М —В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–≤–Ї—Г—Б–∞, —В–Њ–є —Г–љ—Л–ї–Њ–є –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј–і–∞–≤–љ–∞ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Г –Љ–µ–љ—П —Б –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М—О. –Ю–љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –∞—А—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—В—Г—А–Њ–є, —Б —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞. –Х—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ –љ–µ –±—Л–ї —Б—Г–і—М–µ–є, –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–Њ–Љ, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–Љ –Њ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ, –Њ–љ –Љ–Њ–≥ –±—Л —Б—В–∞—В—М –љ–µ–Ј–∞—Г—А—П–і–љ—Л–Љ –∞–Ї—В–µ—А–Њ–Љ –Є–ї–Є —Н—Б—В—А–∞–і–љ—Л–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–Њ–Љ — —В–∞–Ї–Њ–є –±—Л–ї —Г –љ–µ–≥–Њ –∞–њ–њ–µ—В–Є—В –Ї. —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –±—Л—В–Њ–≤—Л–Љ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–∞–Љ, –≤—Л—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А—П–Љ–Њ –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О –≤—Б–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Њ–≤, –ї–Є—Ж, —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–є.
–Э–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –≤–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б –∞–Ї—В–µ—А–∞–Љ–Є, –і—А—Г–ґ–Є–ї —Б –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–Љ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –©–µ–њ–Ї–Є–љ—Л–Љ, —Б –Ь–∞—А—М–µ–є –У–∞–≤—А–Є–ї–Њ–≤–љ–Њ–є –°–∞–≤–Є–љ–Њ–є, —З—В–Њ –Њ—В–µ—Ж –µ–≥–Њ –±—Л–ї —В–µ–∞—В—А–∞–ї –њ–Њ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є, –∞ –Љ–∞—В—М — —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–∞—П –±—Л—В–Њ–≤–∞—П –∞–Ї—В—А–Є—Б–∞.
–Р—Е, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З, — –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–∞ –Њ–і–љ–∞ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞—П –і–∞–Љ–∞, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Г–≤–Є–і–µ–≤—И–∞—П –µ–≥–Њ –≤ —А–Њ–ї–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞, — –Ї–∞–Ї –ґ–∞–ї—М, —З—В–Њ –≤—Л –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є—Б—М –∞–Ї—В–µ—А–Њ–Љ!
–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї—Б—П –Є, –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–≤, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б:
–Ф–∞, –Љ–Њ–є –≥–Њ–ї—Г–±—З–Є–Ї, —П –Є —Б–∞–Љ —З–∞—Б—В–Њ –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ –Њ—И–Є–±—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є–Є [7].
–≠—В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ —В–∞–Ї. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ—И–Є–±–Ї–Є —В—Г—В –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Х–≥–Њ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –±—Л–ї —Б—Г–і; –Њ–љ –±—Л–ї —Б–∞–Љ–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –і–ї—П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ —Б—Г–і–µ, –і–ї—П —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –Є —З–∞—Б—В–Њ –Њ–±—А–µ—З–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –љ–µ—Г–і–∞—З—Г –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –Є –њ—А–∞–≤–і—Г. –Э–Њ —Н—В–∞ –±–Њ—А—М–±–∞ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–∞ –±—Л –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Г—Б–њ–µ—Е–∞, –µ—Б–ї–Є –±—Л –µ–≥–Њ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ —А–µ—З–Є –±—Л–ї–Є —Б—Г—Е–Є –Є –Љ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ—Л, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ–Є –љ–µ –±—Л–ї–Є —А–∞—Б—Ж–≤–µ—З–µ–љ—Л —О–Љ–Њ—А–Њ–Љ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –≤ –љ–Є—Е –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –µ–≥–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є —В–∞–ї–∞–љ—В. –Ґ–∞–ї–∞–љ—В —Н—В–Њ—В —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ –Њ—З–µ–љ—М —П–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П –≤ –µ–≥–Њ –Њ–±–∞—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –Є –Њ—З–µ–љ—М —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є –Љ–∞–љ–µ—А–µ –≤–µ—Б—В–Є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А: —Г—Б–ї—Л—И–∞–≤ –Њ—В –≤–∞—Б –Ї–∞–Ї—Г—О-–љ–Є–±—Г–і—М — –њ—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ—Г—О' –Њ—А–і–Є–љ–∞—А–љ—Г—О — –Љ—Л—Б–ї—М, –Њ–љ —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ–Є—Б—З–µ—А–њ–∞–µ–Љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –ґ–Є–≤—Г—О –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є—О –Ї –≤–∞—И–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ — –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –ґ–∞–љ—А–Њ–≤—Л–є, –Ї–Њ–ї–Њ—А–Є—В–љ—Л–є, –±—Л—В–Њ–≤–Њ–є –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В, — –Є —Г –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞, –Њ—В—И–ї–Є—Д–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Љ–µ–ї—М—З–∞–є—И–µ–є –і–µ—В–∞–ї–Є, —Б –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤–Ї–Њ–є.
–°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Є—Е –Ї—А–Њ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –љ–Њ–≤–µ–ї–ї –≤ –µ–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞—Е! –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ —Е–Њ—В—П –±—Л –µ–≥–Њ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–љ—Л–µ –Њ—З–µ—А–Ї–Є «–Ф–Њ–Љ–Њ—З–∞–і—Ж—Л», –Є–ї–Є «–°–Є–љ—М–Њ—А –С–µ–ї—П–µ–≤», –Є–ї–Є «–Ш–Ј —Е–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є», –Є–ї–Є «–°–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–Є –љ–∞ —Б—Г–і–µ», –Є–ї–Є «–Ш–≤–∞–љ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –Я—Г—В–Є–ї–Є–љ» — –≤—Л —Г–≤–Є–і–Є—В–µ, —З—В–Њ –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –і–ї—П –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞-—А–µ–∞–ї–Є—Б—В–∞, –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Є –Є—Е –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–є, —Б—Г–і–µ–± –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤.
–ѓ –і—Г–Љ–∞—О, —Б–∞–Љ –Ы–µ—Б–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –±—Л –љ–µ –њ—А–Њ—З—М –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і –µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Њ—А–Є—В–љ—Л–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ—В –Я—Г—В–Є–ї–Є–љ, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—Ж–Є–Є, –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –ї–Њ–≤–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Њ—А—Г –≤—Л–Ї—А–∞—Б—В—М –Є–Ј —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–µ–Ї–Є–є –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–є —Б–µ—А–≤–Є–Ј –Є –Ї–∞–Ї —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї —Б—В–Њ–ї—М –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ–Њ–µ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–∞.
• — –Т–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї-—В–Њ –±—Л–ї! — –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–ї—Б—П –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Њ–Љ. — –Ф—Г—И–∞! –°–µ—А–і—Ж–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–µ! –Р —Г–ґ –љ–∞—Б—З–µ—В –ї–Њ–≤–Ї–Њ—Б—В–Є, —В–∞–Ї —П –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –≤–Є–і—Л–≤–∞–ї. –Э–µ —В–µ–њ–µ—А–µ—И–љ–Є–Љ –≤–Њ—А–∞–Љ —З–µ—В–∞.
–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞, –Ї–∞–Ї –Є –Ы–µ—Б–Ї–Њ–≤–∞, —В—П–љ—Г–ї–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Ї—Г—А—М–µ–Ј—Л –Є –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–µ–є.
–Х–≥–Њ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–љ—Л–µ –Ї–љ–Є–≥–Є —В–∞–Ї –Є –Ї–Є—И–∞—В –ї—О–і—М–Љ–Є — —З–∞—Б—В–Њ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –Ј–∞–±–∞–≤–љ—Л–Љ–Є. –Я–Њ –≤—Б–µ–Љ –µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–Љ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–є —В–Њ–ї–њ–Њ–є –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л, —И–∞–љ—В–∞–ґ–Є—Б—В—Л, –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–Є, —А–∞—Б—В—А–∞—В—З–Є–Ї–Є, –≤—Б–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –і–µ—П—В–µ–ї–Є, —И–≤–µ–Є, —В–∞–њ–µ—А—Л, –Є–≥—А–Њ–Ї–Є, –Њ—В—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є, –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є, —Б—Л—Й–Є–Ї–Є, —Б–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞, —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–µ — –Є —Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ—П –њ–Њ–≤–∞–і–Ї–∞, —Б–≤–Њ–є –ґ–µ—Б—В, —Б–≤–Њ—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–∞—П —А–µ—З—М. –Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –±—Л –љ–∞ –і–µ—Б—П—В—М —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤. –Т–µ—Б–µ–ї–Њ, –ї–µ–≥–Ї–Њ, –±–µ–Ј –љ–∞—В—Г–≥–Є –Ъ–Њ–љ–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В —Н—В–Є—Е –ї—О–і–µ–є –Є –ї—О–і–Є—И–µ–Ї, –Є—Е —Г–Љ–Є—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Љ–µ—И–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Є.
–Э–Њ —В—Г—В –ґ–µ, —А—П–і–Њ–Љ, –љ–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е, –ґ–Є–≤–µ—В –≤ –µ–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥–∞—Е –Њ—Б–Њ–±–∞—П –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П –ї—О–і–µ–є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–≥–Њ–Љ: «—Б–∞–Љ–Њ–Њ—В–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В—А–∞–ґ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞», «–±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–µ–є—И–Є–µ –њ—А–∞–≤–і–Њ–ї—О–±—Ж—Л», «–Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Є», — –Є–±–Њ, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ, –µ–≥–Њ –≤–µ—З–љ–Њ –≤–ї–µ–Ї–ї–Њ –Ї –і–Є—Д–Є—А–∞–Љ–±–∞–Љ, –Ї –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–љ—Л—Е –і–µ—П–љ–Є–є –Є –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–≤. –Ю—В—Б—О–і–∞ –µ–≥–Њ —Б—В–∞—В—М–Є –Њ –Ы—М–≤–µ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ, –Я–Є—А–Њ–≥–Њ–≤–µ, –Ґ—Г—А–≥–µ–љ–µ–≤–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ. —В–∞–Ї–Є—Е –њ–Њ–Ј–∞–±—Л—В—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–∞—Е, –Ї–∞–Ї –Ы—П–Љ–±–ї—М, –С–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –Ф–Њ–љ–і—Г–Ї–Њ–≤–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ.
–Т —Б–≤–Њ–Є—Е –ї—О–±–Є–Љ—Л—Е –≥–µ—А–Њ—П—Е –Њ–љ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В –Є—Е –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Є—Е, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П, esprit de combativité. –Я–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є —Н—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В: –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Ј–∞–і–Њ—А, –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М –Ї –±–Њ—О. –£ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –Њ–і–Є–љ –Є —В–Њ—В –ґ–µ — –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–є — –і–µ–≤–Є–Ј: «Vivere est milUare» («–Ц–Є—В—М — —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М»), –Є –Њ–љ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–µ—В—Б—П –Є–Љ–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –≤–Њ–Є—В–µ–ї–Є. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л—Е –Є–Љ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–њ—А–Є—Й–µ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–љ–Є–±—Г–і—М, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –љ–µ–њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–Є–Љ–Њ–µ –Ј–ї–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –µ–Љ—Г –љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Њ–і–Њ–ї–µ—В—М. –° –Ї–µ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –≤–Њ—О–µ—В, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –і–Њ–Ї—В–Њ—А –У–∞–∞–Ј! –Ш —Б —В—О—А–µ–Љ—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Є —Б –њ–Њ–њ–∞–Љ–Є, –Є —Б —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Є —Б –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ, –Є —Б –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—Ж–Є–є, –≤–Њ—О–µ—В –Њ–і–Є–љ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—Б–µ—Е, –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П —Б–≤–Њ–Є–Љ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є –Њ–і–Є–љ –≤ –њ–Њ–ї–µ — –≤–Њ–Є–љ.
–Т —Н—В–Є—Е –і–Є—Д–Є—А–∞–Љ–±–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –Ъ–Њ–љ–Є –Љ—Л –њ–Њ—З—В–Є –Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —З–Є—В–∞–µ–Љ: «–Ю–љ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–≤–∞–ї»... «–≤–Њ–µ–≤–∞–ї».., «—А–∞—В–Њ–≤–∞–ї» –Є —В. –і.
–Т—Б—П –ґ–Є–Ј–љ—М –Я–Є—А–Њ–≥–Њ–≤–∞ –≤ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –Ъ–Њ–љ–Є –µ—Б—В—М —Б–њ–ї–Њ—И–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ —Б–Њ «—Б–≤–Є–љ—Ж–Њ–≤—Л–Љ–Є –Љ–µ—А–Ј–Њ—Б—В—П–Љ–Є» —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П.
–Ґ–∞–Ї–Њ–≤ –ґ–µ –±—Л–ї –њ—Г—В—М —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞: —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ–ї –Њ–љ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л—Е, –љ–Њ —В—П–ґ–Ї–Є—Е –±–Њ–µ–≤, –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—П –њ—А–∞–≤—Л–є —Б—Г–і –Њ—В –њ–Њ—Б—П–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є! –ѓ—А—З–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –µ–≥–Њ –±–Њ–µ–≤–∞—П –љ–∞—В—Г—А–∞ –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б–µ–Љ–Є–і–µ—Б—П—В—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л–µ –њ–Њ–і –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–ї–Є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Ї—Г –Т–µ—А—Г –Ч–∞—Б—Г–ї–Є—З, —Б—В—А–µ–ї—П–≤—И—Г—О –≤ –≥—А–∞–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ґ—А–µ–њ–Њ–≤–∞. –≠—В–Њ—В –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –±—Л–ї –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ –Є–Љ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–µ–Љ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ. –Ш —Ж–∞—А—М –Є –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А —О—Б—В–Є—Ж–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –љ–∞–њ—Г—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–љ—Г—И–Є–ї –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –Т–µ—А–∞ –Ч–∞—Б—Г–ї–Є—З –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–∞ –µ—Б–ї–Є –љ–µ –Ї —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–Є, —В–Њ –Ї —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—В–Њ—А–≥–µ. –Ъ–Њ–љ–Є –љ–µ –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–ї –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Є—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Є –њ–Њ–≤–µ–ї –і–µ–ї–Њ —В–∞–Ї, —З—В–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –љ–µ–≥–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Ж–∞—А—П –Є –±–µ—И–µ–љ—Л–µ –љ–∞–њ–∞–і–Ї–Є —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –њ–µ—З–∞—В–Є «–Ю–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є–µ –Ч–∞—Б—Г–ї–Є—З, —–≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –°. –Ь. –°—В–µ–њ–љ—П–Ї-–Ъ—А–∞–≤—З–Є–љ—Б–Ї–Є–є, — –±—Л–ї–Њ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ —Н—В—Г –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г –њ–Њ–і–љ—П—В—М –љ–∞ –њ–∞–ї–∞—З–∞ —Б–≤–Њ—О –Љ—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —А—Г–Ї—Г» *. «–Т –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, — –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –і—А—Г–≥–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А, — –і–µ–ї—Г –Ч–∞—Б—Г–ї–Є—З —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б—В–∞—В—М —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–Њ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П» [8].
–Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ, –Ї–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–љ–Є —В–∞–Ї –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—П–µ—В –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–љ–Є–≥–∞—Е, –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л –µ–≥–Њ —Б–ї–∞–≤–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–є. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–љ—П—В—М –±–µ–Ј–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ—З–љ–Њ —В–µ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –µ–≥–Њ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Њ–≤, –≥–і–µ –Њ–љ —Б—В–∞–≤–Є—В –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –њ—М–µ–і–µ—Б—В–∞–ї —А–∞–Ј–љ—Л—Е –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е «—Б–≤—П—В–Є—В–µ–ї–µ–є», –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –Њ—В–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є. –Т –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ —Н—В–Є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л —Б–ї–∞–±—Л –Є –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –µ–ї–µ–є–љ—Л, –≤–Є—В–Є–µ–≤–∞—В—Л –Є –≤—Л—З—Г—А–љ—Л. –Т –љ–Є—Е –і–∞–ґ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З—Г —О–Љ–Њ—А, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Њ–љ–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –і—А—Г–≥–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ.
–Э–Њ –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–ї–ї—О–Ј–Є–Є –Ъ–Њ–љ–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ–Љ—А–∞—З–Є—В—М –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г –µ–≥–Њ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ –µ–≥–Њ –ї—О–±–Є–ї–Є –Є —З—В–Є–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –ї—О–і–Є, –Ї–∞–Ї –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤, –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤, –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –Ъ –Є—Е —З–Є—Б–ї—Г —Б –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М –Ш–ї—М—О –†–µ–њ–Є–љ–∞. –†–µ–њ–Є–љ –±—Л–ї —Б–≤–µ—А—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ъ–Њ–љ–Є (–Њ–±–∞ –Њ–љ–Є —А–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ 1844 –≥–Њ–і—Г), –Є —П –њ–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–µ—Б—В–∞—А–µ–ї—Л–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –њ–Є—Б–∞–ї –µ–Љ—Г –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ, –Ј–∞–і—Г—И–µ–≤–љ—Л–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞—П –µ–≥–Њ –≤ —Б–≤–Њ–Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–∞–љ—Л –Є –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Л. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П –Я–µ–љ–∞—В–Њ–≤ –†–µ–њ–Є–љ —Г—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ —А–∞—Б—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї –Љ–µ–љ—П –Њ–± –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–µ –Є –Њ –Љ–µ–ї—М—З–∞–є—И–Є—Е –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П—Е –µ–≥–Њ –ґ–Є—В—М—П –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ.
–С—Л–ї–∞ —Г –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Њ–і–љ–∞ –Љ–Є–ї–∞—П —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В—М, —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П: –Њ–љ —Г–њ–Њ—А–љ–Њ, —Б –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ–Њ–є –Ј–∞–њ–∞–ї—М—З–Є–≤–Њ—Б—В—М—О –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї —В–µ –љ–Њ—А–Љ—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —А–µ—З–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –µ–≥–Њ —О–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–љ–Є –Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –µ–Љ—Г –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ—Л–Љ–Є. –Ю–љ —Д–∞–љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–µ—А–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ—А—Г—И–Є–Љ—Л, –Є —Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ –Њ–њ–Њ–ї—З–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ –љ–∞—А—Г—И–∞–ї —Н—В–Є –љ–Њ—А–Љ—Л.
–Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б–ї–Њ–≤–Њ «–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є» –Є–Љ–µ–ї–Њ, –њ–Њ –µ–≥–Њ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—О, –Њ–і–Є–љ-–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї — «–ї—О–±–µ–Ј–љ—Л–є». –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ —Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї —В–∞–Ї–Є–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л:
«–У—А–∞—Д –±—Л–ї —В–∞–Ї –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї–µ–љ, —З—В–Њ —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї–Њ –Љ–љ–µ –° –Т–Ш–Ч–Ш–Ґ–Ю–Ь».
«–Ю–љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ (—В–Њ –µ—Б—В—М –Њ–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є –ї—О–±–µ–Ј–љ–Њ) –Њ–±–µ—Й–∞–ї –њ–Њ—Е–ї–Њ–њ–Њ—В–∞—В—М –Ј–∞ –Љ–µ–љ—П».
–Э–Њ, –Ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –µ–≥–Њ –Њ–≥–Њ—А—З–µ–љ–Є—О, —Б–ї–Њ–≤–Њ «–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ» –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—В–∞–ї–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—В—М «–љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ»: «–ѓ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–µ–і—Г –Ї –≤–∞–Љ –Ј–∞–≤—В—А–∞», –Є «—П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞—О—Б—М —Б –љ–Є–Љ».
–Ґ–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –і–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –і–Њ —П—А–Њ—Б—В–Є. –Ч–і–µ—Б—М —З—Г–і–Є–ї–Њ—Б—М –µ—Е–Љ—Г –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є–µ —Б–∞–Љ—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤ —П–Ј—Л–Ї–∞.
–Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М—В–µ —Б–µ–±–µ, — –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–љ, —Е–≤–∞—В–∞—П—Б—М –Ј–∞ —Б–µ—А–і—Ж–µ, — –Є–і—Г —П —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ–Њ –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–ї—Л—И—Г: «–Ю–љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–±—М–µ—В —В–µ–±–µ –Љ–Њ—А–і—Г!» –Ъ–∞–Ї –≤–∞–Љ —Н—В–Њ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П! –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –ї—О–±–µ–Ј–љ–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–Њ—В–Є—В –µ–≥–Њ *.
–Э–∞–њ—А–∞—Б–љ–Њ —П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ «–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ» –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ «–ї—О–±–µ–Ј–љ–Њ» —Г–ґ–µ —Г–Љ–µ—А–ї–Њ –≤ [—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —А–µ—З–Є, —З—В–Њ –і–ї—П –љ–∞—А–Њ–і–∞ —В–µ–њ–µ—А—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞: «–љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ», «–≤–Њ —З—В–Њ –±—Л —В–Њ –љ–Є —Б—В–∞–ї–Њ», –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –љ–µ–≥–Њ–і—Г—О—Й–Є–Љ –≤–Ј–Њ—А–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –њ–µ—А–µ–±–µ–ґ—З–Є–Ї–∞ –≤–Њ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–є –ї–∞–≥–µ—А—М, –Є –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–Є–Љ–Є—А–Є—В—М—Б—П —Б–Њ –Љ–љ–Њ—О.
–Ґ–∞–Ї –ґ–µ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ –≤–Њ—И–µ–і—И–µ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –≤ –Љ–Њ–і—Г –Є —В–Њ–ґ–µ –љ–µ–Є—Б–Ї–Њ—А–µ–љ–Є–Љ–Њ–µ «–љ—Г, —П –њ–Њ—И–µ–ї» –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ «—П —Г—Е–Њ–ґ—Г». –ѓ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ —Н—В—Г —Д–Њ—А–Љ—Г, –Є–±–Њ, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤ —В–∞–Ї–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–µ —А–µ–Ј–Њ–љ—Л –љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є. –Ъ–Њ–љ–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї —Б–≤–Њ—О –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —В–µ —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ—Л–µ –љ–Њ–≤—И–µ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –µ–Љ—Г —Г—А–Њ–і–ї–Є–≤—Л–Љ–Є, –љ–Њ –Є –љ–∞ –ї—О–і–µ–є, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—Й–Є—Е—Б—П —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є. –Ч–і–µ—Б—М –Њ–љ –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Є–Ї–Є –Є –љ–µ —И–µ–ї –љ–Є –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Є–µ –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б—Л. –Ю–і–Є–љ –Љ–Є–ї–Њ–≤–Є–і–љ—Л–є, –њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —О–љ–Њ—И–∞, —Г—Е–Њ–і—П –Њ—В –љ–µ–≥–Њ, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ–Љ—Г –≤–Љ–µ—Б—В–Њ «–і–Њ —Б–≤–Є–і–∞–љ–Є—П» — «–њ–Њ–Ї–∞». –Ъ–Њ–љ–Є –±—Л–ї —В–∞–Ї –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —В–Њ—В –Ї—А–Њ–≤–љ–Њ –Њ–±–Є–і–µ–ї –µ–≥–Њ.
–Я–Њ–≤—В–Њ—А—П—О: –±—Л–ї–Њ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —З—В–Њ-—В–Њ –Љ–Є–ї–Њ–µ –≤ —Н—В–Њ–є —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ «—Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ—Л—Е –і–µ–ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞» –Ї —А–∞–Ј –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –µ–≥–Њ —В—Г—А–≥–µ–љ–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–µ.
–Э–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ–±–∞—П—В–µ–ї—М–љ–∞—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–∞ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤ –µ–≥–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–Є. –Х—Б–ї–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –Є–Ј –µ–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥ —В–µ —Б—В–∞—В—М–Є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П —Б–µ–є—З–∞—Б –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —В–∞–Ї–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В—А–∞–Ї—В—Г—О—В —Г—Б—В–∞—А–µ–ї—Л–µ —В–µ–Љ—Л, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —В—А–Є –Є–ї–Є —З–µ—В—Л—А–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —В–Њ–Љ–∞: «–°—В–∞—В—М–Є, –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Є —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ —А–µ—З–Є –Р. –§. –Ъ–Њ–љ–Є». –Ґ–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–µ–і –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞–Љ–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–µ—В –≤–Њ –≤—Б–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В–µ —Б–≤–µ—В–ї—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –±–µ—Б—В—А–µ–њ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і—М–Є-–≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –љ–µ–њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П –≥—А—Г–і—М—О –±–Є–ї—Б—П –Ј–∞ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л–є —Б—Г–і –Є –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–ї —Б–µ—А–і–µ—З–љ—Г—О –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤–Є–і—П—Й–Є—Е –≤ –љ–µ–Љ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –ї—Г—З—И–Є—Е —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤.
–Т –њ–Є—Б—М–Љ–µ –Ї –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–љ–µ –°–∞–і–Њ–≤–Њ–є –Ъ–Њ–љ–Є –Є–Љ–µ–ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М:
«–ѓ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –ґ–Є–Ј–љ—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –љ–µ –Ј–∞ —З—В–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–µ—В—М... –ѓ –ї—О–±–Є–ї —Б–≤–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і, —Б–≤–Њ—О —Б—В—А–∞–љ—Г, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Є–Љ, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥ –Є —Г–Љ–µ–ї. –ѓ –љ–µ –±–Њ—О—Б—М —Б–Љ–µ—А—В–Є. –ѓ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—А–Њ–ї—Б—П –Ј–∞ —Б–≤–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і, –Ј–∞ —В–Њ, –≤–Њ —З—В–Њ –≤–µ—А–Є–ї».
–Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ — –Ї—А–∞—В–Ї–Є–є –Њ—В—А—Л–≤–Њ–Ї –Є–Ј –µ–≥–Њ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л—Е –і—А—Г–Ј–µ–є, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ 1924 –≥–Њ–і—Г:
«...—П –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –Њ—В–і–∞–ї—Б—П –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б 1918 –≥–Њ–і–∞ —З–Є—В–∞–ї –Ї—Г—А—Б—Л —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ–є –Љ–љ–Њ–є «–≠—В–Є–Ї–Є –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є—П» (—Б—Г–і–µ–±–љ–∞—П, –≤—А–∞—З–µ–±–љ–∞—П, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П, –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П, –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–∞—П –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П, —Н—В–Є–Ї–∞ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П –Є –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П) –≤ I –Є II –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є—Е —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞—Е, –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ (—Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ) –Є –≤ –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ –Ї–Њ–Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–Њ–≤. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —П —З–Є—В–∞–ї –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ, –њ–Њ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є –њ–Њ –ї–Є—З–љ—Л–Љ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –Њ –≤—М—М –і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П—Е — –≤ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї, –≤ –Ф–Њ–Љ–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Є –Ф–Њ–Љ–µ —Г—З–µ–љ—Л—Е, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Ф–Њ–Љ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –≤ –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї, –Я–Њ–ї–Є—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ \\ –Ц–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г—А—Б–∞—Е. –Ь–µ–љ—П –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ —З–Є—В–∞—В—М –Љ–Њ–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –≤ –Ь—Г–Ј–µ–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Ь—Г–Ј–µ–µ —В–µ–∞—В—А–Њ–≤ –Є –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –±—Л–≤—И–Є—Е –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—П—Е –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞—Е. –Т –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ —П –µ–Ј–і–Є–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г —З–Є—В–∞—В—М —З–µ—В—Л—А–µ –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Њ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ/ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ, –Њ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –њ–∞–Љ—П—В–Є –Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є –Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ. –І–∞—Б—В—М –≤—Б–µ—Е —Н—В–Є—Е –ї–µ–Ї—Ж–Є–є —З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М —Б –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —Г—З–∞—Й–µ–є—Б—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–≤–Њ–Є–Љ –±–µ—Б–Ї–Њ—А—Л—Б—В–љ—Л–Љ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –Ј–љ–∞–љ–Є—О –Є —Б–≤–Њ–µ–є –≤–і—Г–Љ—З–Є–≤–Њ—Б—В—М—О –≤–љ—Г—И–∞–µ—В –Љ–љ–µ –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ—О—О —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—О. –Ю—Б–Њ–±—Л–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Є —З—Г—В–Ї–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—В —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л, —Г–і–µ–ї—П—П –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–µ –ї–µ–Ї—Ж–Є–є –Њ—В —Б–≤–Њ–Є—Е –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤. –Т –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ –Є –њ–Њ–і–Њ–ї–≥—Г –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—В—М —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞—О—Й–∞—П—Б—П —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В—М. –°–ї–Њ–Љ–∞–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –љ–Њ–≥–∞ –і–∞–ї–∞ –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј–∞ –≤—Б–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—О—Й—Г—О—Б—П —Е—А–Њ–Љ–Њ—В—Г, –і–Њ–≤–µ–і—И—Г—О –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —П –Љ–Њ–≥—Г –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П –ї–Є—И—М —Б –і–≤—Г–Љ—П –Ї–Њ—Б—В—Л–ї—М–Ї–∞–Љ–Є, —В–∞–Ї —З—В–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —В—А–∞–Љ–≤–∞–µ–Љ... –Ф—Г—А–љ–Њ —Б–њ–ї—О –Є —З–∞—Б—В–Њ —Б—В—А–∞–і–∞—О –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ґ–∞—В–Є–µ–Љ —Б–µ—А–і—Ж–∞ (–љ–µ–≤—А–Њ–Ј–љ—Л–Љ). –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Б—В–∞—А–∞—О—Б—М –њ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В—М –њ–Њ—Б–Є–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–ї—М–Ј—Г, –њ–Њ–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –≥—А—П–љ–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —З–∞—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –ґ–і—Г –±–µ–Ј —Б—В—А–∞—Е–∞ –Є –Љ–∞–ї–Њ–і—Г—И–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ—Л–љ–Є—П, –њ–∞–Љ—П—В—Г—П —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ь–∞—А–Ї–∞ –Р–≤—А–µ–ї–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ—Л–є –њ–Њ—Б—В—Л–і–љ—Л–є –≤–Є–і –ґ–∞–ї–Њ—Б—В–Є –µ—Б—В—М –ґ–∞–ї–Њ—Б—В—М –Ї —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —Б–µ–±–µ».
–Ъ–Њ—А–љ–µ–є –І—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є
–Ш–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є «–°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є: –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л –Є —Н—В—О–і—Л», 1962
[1] –¶–Є—В. –њ–Њ –≤—Б—В—Г–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–µ –Р. –Р–Љ–µ–ї–Є–љ–∞ –Є –Ь. –Т—Л–і—А–Є –Ї –Ї–љ–Є–≥–µ –Р. –§. –Ъ–Њ–љ–Є «–Ш–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П». –Ь., 1956, —Б—В—А. 15.