–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤—Б–µ —В–µ–≥–Є
–Т 14 —З–∞—Б–Њ–≤ 47 –Љ–Є–љ—Г—В 2 –Љ–∞—А—В–∞ 1917 –≥–Њ–і–∞ –Њ—В –њ–µ—А—А–Њ–љ–∞ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П —Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–µ–Ј–і –љ–∞ –Я—Б–Ї–Њ–≤. –Ъ –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј—Г –±—Л–ї –њ—А–Є—Ж–µ–њ–ї–µ–љ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–і–Є–љ –≤–∞–≥–Њ–љ-—Б–∞–ї–Њ–љ. –Т –љ–µ–Љ –µ—Е–∞–ї–Є –і–≤–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞: –Р.–Ш. –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –Т.–Т. –®—Г–ї—М–≥–Є–љ. –У—Г—З–Ї–Њ–≤, –±—Л–≤—И–Є–є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л, –±—Л–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –Ї–∞–Ї –ї–Є—З–љ—Л–є –≤—А–∞–≥ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II –Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є. –®—Г–ї—М–≥–Є–љ —Б–ї—Л–ї —П—А—Л–Љ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–Њ–Љ, –љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ «—Б–ї—Л–ї», –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ, –Ї–µ–Љ –±—Л–ї —Н—В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ —В–Њ—В –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–є –і–µ–љ—М, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ. –°–≤–Њ–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–Є –Њ–љ –Љ–µ–љ—П–ї –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞. –°–Њ–±—Л—В–Є—П –ґ–µ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б —В–∞–Ї–Њ–є –±—Л—Б—В—А–Њ—В–Њ–є, —З—В–Њ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М –љ–µ –њ–Њ –і–љ—П–Љ, –∞ –њ–Њ —З–∞—Б–∞–Љ.
–Э–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б—В–∞–≤–Є–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ —Ж–µ–ї–Є —Н—В–Њ–є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є. –Ф–∞ –Є –Ј–∞—З–µ–Љ –±—Л–ї–Њ –µ–≥–Њ —Б—В–∞–≤–Є—В—М. –Т–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Є–Ј –Я—Б–Ї–Њ–≤–∞, —Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–µ–Ј–і –њ—А–Є–≤–µ–Ј –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і –∞–Ї—В –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞. –Ш –®—Г–ї—М–≥–Є–љ, –Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–є—И–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ–њ–Є—Б–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ. –Т—Б—О –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Њ–љ–Є –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ—О –≤–µ—А—Б–Є—О –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, «–Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї–Є» — –љ–µ —В–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ. –Т–µ–і—М –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј –љ–Є–Ї—В–Њ –Є –љ–µ —Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–Њ–і —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–µ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–µ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М — «—А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–Є –Є –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є» —В–Њ, —З—В–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є.
–У—Г—З–Ї–Њ–≤ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ —Е–Њ—В–µ–ї —Ж–µ–љ–Њ—О –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П —Ж–∞—А—П –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ —Б–њ–∞—Б—В–Є –†–Њ—Б—Б–Є—О –Њ—В –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–ґ–µ —Б–њ–∞—Б–∞–ї –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—О, —Б–њ–∞—Б–∞–ї –ґ–Є–Ј–љ—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, —Б–њ–∞—Б–∞–ї –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М—О. –Ю–±–∞ —Б–њ–∞—Б–∞–ї–Є, —Б–њ–∞—Б–∞–ї–Є, —Б–њ–∞—Б–∞–ї–Є, –љ–Њ –љ–µ —Б–њ–∞—Б–ї–Є. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–Є –Њ–і–љ–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞ –Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ II –љ–µ –Њ–±—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –±–µ–Ј —Б–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞ –Є –Ї—А–∞—Б–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞, –Ї–∞–Ї –Њ—В—А–µ–Ї–∞–ї—Б—П —Ж–∞—А—М. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б 80-–ї–µ—В–Є–µ–Љ –§–µ–≤—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –≤–µ—А—Б–Є—П –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞ — –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–љ–Њ–≤—М –Њ–Ј–≤—Г—З–µ–љ–∞ –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ –≤—Б–µ–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є. –Р –≤–µ–і—М —В–Њ, —З—В–Њ —В–∞–Ї –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤, –±—Л–ї–Њ, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –∞–≤—В–Њ—А–∞, —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–є –ї–Њ–ґ—М—О.
–С–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–Є — –Љ—П—В–µ–ґ — —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П
–Я–Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—О —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –љ–µ–і–µ–ї—О –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е. –С—Л–ї –ї–Є —Н—В–Њ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–є, –Є–ї–Є –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ–і—И–µ–µ —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤?
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ 26 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є II –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ—Ж–∞ –Є–≥—А–∞–ї –≤ –і–Њ–Љ–Є–љ–Њ, –≤ –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤–µ –±—Л–ї–Њ —Б—Л–≥—А–∞–љ–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –і–≤–µ –њ–∞—А—В–Є–Є[1]. –Ш–≥—А–∞ –љ–µ —И–ї–∞. –Ю—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ, –≤—Л–Є–≥—А–∞–ї –ї–Є –Є—Е —Ж–∞—А—М –Є–ї–Є —Г—И–µ–ї –њ–Њ–±–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ. –Э–Њ –њ–∞—А—В–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –µ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Є–≥—А–∞—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –њ—П—В—М –і–љ–µ–є –Є –љ–Њ—З–µ–є, –Њ–љ –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–ї –≤—З–Є—Б—В—Г—О.
–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є II —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–і–∞–≤–∞–ї. –£—В—А–Њ–Љ, –≤ 10 —З–∞—Б–Њ–≤, –Њ–љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –Њ–±–µ–і–љ–µ. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞. –Ч–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Є—В–µ—В –Є —И—В–∞–±–љ–∞—П —Б–≤–Є—В–∞. –Я—А—П–Љ–Њ –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–ї—Г–ґ–±—Л —Ж–∞—А—О —Б—В–∞–ї–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ. –Т –≥—А—Г–і–Є –њ–Њ–Љ–∞–Ј–∞–љ–љ–Є–Ї –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –±–Њ–ї—М. –Ю–љ –µ–і–≤–∞ —Г—Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ –љ–Њ–≥–∞—Е, –ї–Њ–± –њ–Њ–Ї—А—Л–ї—Б—П –Є—Б–њ–∞—А–Є–љ–Њ–є. –Я–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ —Б–µ—А–і—Ж–µ–±–Є–µ–љ–Є–µ. –Ґ–∞–Ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М —З–µ—В–≤–µ—А—В—М —З–∞—Б–∞. –¶–∞—А—М –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є –њ–µ—А–µ–і –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –Т—Б–µ —Б—А–∞–Ј—Г –њ—А–Њ—И–ї–Њ.
–Т —В–Њ —Г—В—А–Њ –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–∞, –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ–∞, —В–Њ–ґ–µ —Б—В–Њ—П–ї–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ—П—Е, –љ–Њ –љ–µ –њ–µ—А–µ–і –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –∞ –љ–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ –Є—Е «–і—А—Г–≥–∞» — –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞ –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –°–µ–ї–µ. «–°–Њ–ї–љ—Ж–µ —Б–≤–µ—В–Є—В —В–∞–Ї —П—А–Ї–Њ, –Є —П –Њ—Й—Г—Й–∞–ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ –Є –Љ–Є—А», — –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –Љ—Г–ґ—Г[2].
–Э–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї, —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –љ–∞ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є –Љ–∞–љ–µ—А –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ «–С—Н–є–±–Є», –±–Њ–ї–µ–ї –Ї–Њ—А—М—О. –С–Њ–ї–µ–ї–Є –Є –µ–≥–Њ —Б–µ—Б—В—А—Л. «–С—Н–є–±–Є, — –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Љ—Г–ґ—Г, — —Н—В–Њ –Њ–і–љ–∞ —Б–њ–ї–Њ—И–љ–∞—П —Б—Л–њ—М, –њ–Њ–Ї—А—Л—В –µ—О, –Ї–∞–Ї –ї–µ–Њ–њ–∞—А–і». –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –Љ–Њ–ї–Є–ї–∞—Б—М –Њ –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –і–µ—В—П—Е. «–Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –≤—Б–µ –±—Г–і–µ—В —Е–Њ—А–Њ—И–Њ», — –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –Љ—Г–ґ—Г –Є –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ –Ї –њ–Є—Б—М–Љ—Г –Ї—Г—Б–Њ—З–µ–Ї –і–µ—А–µ–≤–∞ —Б –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Г–≤–µ—А–µ–љ–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞—Е —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї—Г—Б–Њ—З–Ї–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤–µ—А–Є–ї–∞, —З—В–Њ –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ —Г–Љ–µ—А, —З—В–Њ–±—Л —Б–њ–∞—Б—В–Є –Є—Е[3].
–Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–±–µ–і–љ–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II –ґ–і–∞–ї–∞ –љ–Њ–≤–∞—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В—М. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ь.–Т. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –µ–Љ—Г —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –°.–°. –•–∞–±–∞–ї–Њ–≤–∞, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Г—О 25 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –≤ 18 —З–∞—Б–Њ–≤ 08 –Љ–Є–љ—Г—В.
–•–∞–±–∞–ї–Њ–≤ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї: 23 –Є 24 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞ —Е–ї–µ–±–∞ –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞—Е –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–Є. –С–∞—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 200 —В—Л—Б—П—З. –Ґ—А–∞–Љ–≤–∞–Є –љ–µ —Е–Њ–і–Є–ї–Є. –†–∞–±–Њ—З–Є–µ –њ—А–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –љ–Њ –Є—Е —В–∞–Љ —А–∞–Ј–Њ–≥–љ–∞–ї–Є. –Т —В—А–∞–Љ–≤–∞—П—Е –Є –ї–∞–≤–Ї–∞—Е –±–Є–ї–Є —Б—В–µ–Ї–ї–∞. –І–µ—В–≤–µ—А–Њ –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є—Е —А–∞–љ–µ–љ—Л. –Я–Њ–ї–Є—Ж–Љ–µ–є—Б—В–µ—А—Г —Б–ї–Њ–Љ–∞–ї–Є —А—Г–Ї—Г. –£–±–Є—В –њ—А–Є—Б—В–∞–≤ –Ъ—А—Л–ї–Њ–≤[4].
–Т 11.50 –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О: «–Ю—З–µ–љ—М –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ—О—Б—М –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞»[5].
–Я–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –і–µ—А–ґ–∞–≤ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Ж–∞—А—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї—Г –љ–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–µ –њ–Њ –С–Њ–±—А—Г–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г —И–Њ—Б—Б–µ –Ї —З–∞—Б–Њ–≤–љ–µ, –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В–Њ–є –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М 1812 –≥–Њ–і–∞[6].
–Т 13.40 —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д –њ—А–Є–љ–µ—Б –≤ –°—В–∞–≤–Ї—Г –љ–Њ–≤—Л–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Њ—В –•–∞–±–∞–ї–Њ–≤–∞:
«–Ґ–Њ–ї–њ—Л —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Є —Г –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞. –Ш—Е —А–∞–Ј–≥–Њ–љ—П—О—В, –Њ–љ–Є —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П. –£ –У–Њ—Б—В–Є–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ —Д–ї–∞–≥–Є. –Т –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В –Њ—В–Ї—А—Л—В –Њ–≥–Њ–љ—М, –Є–Ј —В–Њ–ї–њ—Л —А–∞–Ј–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—М–≤–µ—А–љ—Л—Е –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤. –Ю–і–Є–љ —А—П–і–Њ–≤–Њ–є —А–∞–љ–µ–љ. –Ф—А–∞–≥—Г–љ—Л –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є –Њ–≥–Њ–љ—М. –Ґ—А–Њ–µ —Г–±–Є—В—Л—Е, –і–µ—Б—П—В—М —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е. –Ґ–Њ–ї–њ–∞ —А–∞—Б—Б–µ—П–ї–∞—Б—М. –Т –љ–∞—А—П–і –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ–Њ–≤ –±—А–Њ—И–µ–љ–∞ –≥—А–∞–љ–∞—В–∞, —А–∞–љ–µ–љ—Л –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ –Є –ї–Њ—И–∞–і—М. –С–∞—Б—В—Г–µ—В –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 240 —В—Л—Б—П—З. –Т—Л–њ—Г—Й–µ–љ–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞—О—Й–µ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞—Е —В–Њ–ї–њ–∞–Љ–Є. –£—В—А–Њ–Љ 26 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ»[7].
–Я–Њ—Б–ї–µ —З–∞—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є II —З–Є—В–∞–ї, –њ—А–Є–љ—П–ї —Б–µ–љ–∞—В–Њ—А–∞ –°.–Э. –Ґ—А–µ–≥—Г–±–Њ–≤–∞. –Ч–∞—В–µ–Љ –≤ 9 —З–∞—Б–Њ–≤ –≤–µ—З–µ—А–∞ — –Њ–±–µ–і. –Т 21.20 –њ–Њ—Б–ї–∞–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –ґ–µ–љ–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ 1 –Љ–∞—А—В–∞ –±—Г–і–µ—В –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –°–µ–ї–µ, –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П «–Ј–∞–±–Є–≤–∞—В—М –Ї–Њ–Ј–ї–∞»[8].
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Б—В—Г—З–∞–ї –Ї–Њ—Б—В—П—И–Ї–∞–Љ–Є –і–Њ–Љ–Є–љ–Њ, —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д –Њ—В–±–Є–≤–∞–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л –Ь.–Т. –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г. «–Т–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П <...> –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В —Б—В–Є—Е–Є–є–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Є —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О—Й–Є–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л». –Ш—Е –њ–Њ–≤–Њ–і — –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –≤—Л–њ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–ї–µ–±–∞ –Є —Б–ї–∞–±—Л–є –њ–Њ–і–≤–Њ–Ј –Љ—Г–Ї–Є. –Ю—В —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –њ–∞–љ–Є–Ї–∞. –У–ї–∞–≤–љ–∞—П –ґ–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ — «–њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –љ–µ–і–Њ–≤–µ—А–Є–µ –Ї –≤–ї–∞—Б—В–Є, –љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–є –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є —Б—В—А–∞–љ—Г –Є–Ј —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П». –Ф–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–µ—А–µ–Ї–Є–љ—Г—В—М—Б—П –љ–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М —Б—В—А–∞–љ—Л –Ј–∞–Љ—А–µ—В. –Ч–∞–≤–Њ–і—Л –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П, —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –Њ—Б—В–∞–љ—Г—В—Б—П –±–µ–Ј –і–µ–ї–∞ –Є –≤—Л–є–і—Г—В –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Л. –Э–∞—З–љ–µ—В—Б—П –∞–љ–∞—А—Е–Є—П, «—Б—В–Є—Е–Є–є–љ–∞—П –Є –љ–µ—Г–і–µ—А–ґ–Є–Љ–∞—П». –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –њ–∞—А–∞–ї–Є—З–µ, –Њ–љ–∞ –љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї. –Т–Њ–є–љ–∞ —Б –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–љ–∞. –†–Њ—Б—Б–Є—О –ґ–і—Г—В —Г–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –њ–Њ–Ј–Њ—А. –Ш–Ј —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –µ—Б—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ –≤—Л—Е–Њ–і: –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–≤–∞—В—М –ї–Є—Ж–Њ, «–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–µ—А–Є—В—М –≤—Б—П —Б—В—А–∞–љ–∞ –Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –±—Г–і–µ—В –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ».
–†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–µ–і —Ж–∞—А–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В—М –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Г, –њ–Њ–Ї–∞ –µ—Й–µ –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ. «–Я—А–Њ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ», — –њ–∞—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–µ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л[9].
–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є II –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П —Б–њ–∞—В—М. –Т –љ–Њ—З—М 27 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –≤ 2.05 –≤ –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤ –њ—А–Є—И–ї–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ –Э.–Ф. –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ–∞. –Я—А–µ–Љ—М–µ—А —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П —З–Є—Б—В—Л–Љ –±–ї–∞–љ–Ї–Њ–Љ —Б –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М—О —Ж–∞—А—П –Є —А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є–ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–∞–ї–∞—В—Л: –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –і—Г–Љ—Г –Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В[10].
–Э–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ–µ—А–µ—Б–ї–∞–ї –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –≤—Л—И–µ —В–µ–Ї—Б—В —Б–≤–Њ–µ–є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –≤—Б–µ–Љ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤. –Я–µ—А–≤—Л–Љ, –≤ 1.00, –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї—Б—П –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Р.–Р. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤. –Ю–љ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г —Б–≤–Њ—О –њ—А–Њ—Б—М–±—Г –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М –њ—А–Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ —Ж–∞—А—О —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –љ–µ –≤–Є–і–Є—В[11].
–£—В—А–Њ–Љ 27 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 10 —З–∞—Б–Њ–≤ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О II –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л. –Ф–Њ–Ї–ї–∞–і –і–ї–Є–ї—Б—П –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ. –Я—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, —Е–Њ—В—П –Є –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Њ –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Л–Љ, –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Њ –љ–∞ —Ж–∞—А—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П.
–£–ґ–µ –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ –Є–Ј —Г—Б—В –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, —Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤ –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –±—Л–ї–∞ –Ф—Г–Љ–∞, –Њ–љ —Б–ї—Л—И–∞–ї –љ–µ—З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ. –Я—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –і–∞—А–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–µ—А–µ–і –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–∞–ї–∞—В–∞–Љ–Є –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ (–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, –Ї—Б—В–∞—В–Є —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Љ—Л –љ–µ –Є–Љ–µ–µ–Љ –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, —Б–њ—Г—Б—В—П –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ 80 –ї–µ—В) –Є–ї–Є —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В—М «–Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –і–Њ–≤–µ—А–Є—П», —В. –µ. —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є–Ј –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –і–Њ–≤–µ—А—П–µ—В —Б—В—А–∞–љ–∞, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є —Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ.
–§–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А—Г—П —Б–≤–Њ–µ –Ї—А–µ–і–Њ, –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–µ—В –і–ї—П —Б–µ–±—П –ї–Є—З–љ–Њ, –љ–Є –Ј–∞ —З—В–Њ –љ–µ –і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П, –љ–Њ —Б—З–Є—В–∞–µ—В –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –≤ —А—Г–Ї–Є –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –±—Г–і—Г—З–Є —Г –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Љ–Њ–≥—Г—В –љ–∞–љ–µ—Б—В–Є —А–Њ–і–Є–љ–µ –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–Є–є –≤—А–µ–і, –∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞ —Г–Љ–Њ—О—В —А—Г–Ї–Є, –њ–Њ–і–∞–≤ —Б –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–Њ–Љ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г. «–ѓ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–µ–љ –њ–µ—А–µ–і –±–Њ–≥–Њ–Љ –Є –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –Ј–∞ –≤—Б–µ, —З—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –Є —Б–ї—Г—З–Є—В—Б—П, –±—Г–і—Г—В –ї–Є –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А—Л –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л –њ–µ—А–µ–і –Ф—Г–Љ–Њ–є –Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–Љ — –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ. –ѓ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Г–і—Г –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є, –≤–Є–і—П, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞–Љ–Є –љ–µ –Ї–Њ –±–ї–∞–≥—Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —Б –љ–Є–Љ–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞—В—М—Б—П, —Г—В–µ—И–∞—П—Б—М –Љ—Л—Б–ї—М—О, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–Є—Е —А—Г–Ї –і–µ–ї–Њ, –љ–µ –Љ–Њ—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М»[12].
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О II –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–∞ –Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–Є–љ—П—В—М —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Г: «–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М —Ж–∞—А—Б—В–≤—Г–µ—В, –∞ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В», –Њ–љ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї: —В–∞–Ї–∞—П —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–∞ –µ–Љ—Г –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–∞, –љ–∞–і–Њ –±—Л—В—М –Є–љ–∞—З–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ—Л–Љ –Є–ї–Є –њ–µ—А–µ—А–Њ–і–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є–љ—П—В—М –µ–µ.
–¶–∞—А—М «–њ–µ—А–µ–±–Є—А–∞–ї —Б –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–є —П—Б–љ–Њ—Б—В—М—О –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –≤—Б–µ—Е –ї–Є—Ж, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –≤ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–і –њ–∞–ї–∞—В–∞–Љ–Є –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤, –Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–µ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ—П—В–µ–ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤—П—В –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В, — –≤—Б–µ –ї—О–і–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–њ—Л—В–љ—Л–µ –≤ –і–µ–ї–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –±—А–µ–Љ—П –≤–ї–∞—Б—В–Є, –љ–µ —Б—Г–Љ–µ—О—В —Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є»[13].
–Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –љ–Є –њ–Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –≤ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤–Њ—И–ї–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є II –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ—А–∞–≤.
–Ю–љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–і –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г «–≤–µ—А–Є—В –≤—Б—П —Б—В—А–∞–љ–∞», –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–ї –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–µ–±—П. –Э–µ–ї—М–Ј—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л —Ж–∞—А—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–ї—Б—П –≤ –ї—О–і—П—Е, –љ–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–љ—П—В—М, —З—В–Њ –Ј–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ.
–Х—Б–ї–Є –±—Л –љ–∞ –Њ–і–љ—Г —З–∞—И—Г –≤–µ—Б–Њ–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –±–ї–∞–≥–Њ —Б—В—А–∞–љ—Л, –љ–Њ –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є—П –µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≤ —Б–Њ–Ј–Є–і–∞–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–∞, –∞ –љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О —З–∞—И—Г –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤–ї–∞—Б—В—М, –≤—А—Г—З–µ–љ–љ—Г—О –µ–Љ—Г, –љ–Њ –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—В—М –µ–µ –≤–Њ –±–ї–∞–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤—Г, –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –±—Л –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–µ–ї –≤–ї–∞—Б—В—М –±–µ–Ј –±–ї–∞–≥–∞ –±–ї–∞–≥—Г –±–µ–Ј –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Ш –≤ —Н—В–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ —Б—Г—В—М –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, —В–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–≤—А–µ–Љ—П —Б–њ–∞—Б—В–Є –†–Њ—Б—Б–Є—О, —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Є —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ—А–Є—И–µ–ї –µ–Љ—Г –љ–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г. –°–Њ–±—Л—В–Є—П –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є—Е –і–љ–µ–є —Н—В–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є.
–Ґ—А–∞–≥–µ–і–Є—П –ґ–µ —Ж–∞—А—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ –Њ–љ, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—П –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И—Г—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–і —Б—В—А–∞–љ–Њ–є –Є –С–Њ–≥–Њ–Љ, –±—Л–ї –љ–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –њ–Њ–Ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Й–µ –Њ–±–µ—Й–∞–ї, –Є –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –љ–∞–є—В–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ, —Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е –њ–µ—А–µ–і –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є, –љ–∞ –њ—Г—В–Є –њ–Њ–ї—Г–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б–Ї–∞–љ–Є–є.
–Т —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –≤–Є–і–µ–ї –њ–Њ–Ї–∞ –µ—Й–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–Є –Є –љ–∞ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, –љ–µ —Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –≤–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є—З–Є–љ –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞—В—М –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї—А–µ–і–Њ.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —Г–ґ–µ –≤ —В–Њ —Г—В—А–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ–∞ –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –њ–Њ-–Є–љ–Њ–Љ—Г. «–†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П, — —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –Р–ї–Є–Ї—Б –Љ—Г–ґ—Г –≤ 11.12, — –≤—З–µ—А–∞ –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ —Г–ґ–∞—Б–∞—О—Й–Є–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л <...> –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П —Е—Г–ґ–µ, —З–µ–Љ –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ»[14].
–Т 12.40 –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–∞ –≤—В–Њ—А–∞—П —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –∞–і—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П —Г–ґ–µ —Ж–∞—А—О. –Я—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ —Б —А–Њ—Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–Љ –Ф—Г–Љ—Л —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Њ–њ–ї–Њ—В –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞. –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –±–µ—Б—Б–Є–ї—М–љ–Њ. «–У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –Є —А–∞–Ј–≥–Њ—А–∞–µ—В—Б—П». –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Ј–∞–Ї–ї–Є–љ–∞–ї —Ж–∞—А—П —Б–Њ–Ј–≤–∞—В—М –Ф—Г–Љ—Г –Є –њ—А–Є–Ј–≤–∞—В—М «–љ–Њ–≤—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М», —В. –µ. –њ–Њ—А—Г—З–Є—В—М –µ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞[15]. «–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М, –љ–µ –Љ–µ–і–ї–Є—В–µ <...> –І–∞—Б, —А–µ—И–∞—О—Й–Є–є —Б—Г–і—М–±—Г –≤–∞—И—Г –Є —А–Њ–і–Є–љ—Л, –љ–∞—Б—В–∞–ї. –Ч–∞–≤—В—А–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Г–ґ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ». –Ю—В–≤–µ—В–∞ –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Є –љ–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј.
«–Р–і—А–µ—Б–∞—В –≤—Л–±—Л–ї»
–Т –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –њ—А–Є—В—З–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–∞—Б—В—Г—Е –Ј–≤–∞–ї –Њ–і–љ–Њ—Б–µ–ї—М—З–∞–љ —Б–њ–∞—Б–∞—В—М —Б—В–∞–і–Њ –Њ—В –≤–Њ–ї–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ—Й–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Е–Є—Й–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Є –≤ –њ–Њ–Љ–Є–љ–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –≤–Њ–ї–Ї–Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –њ—А–Є—И–ї–Є, –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –Ї—А–Є–Ї–Є –њ–∞—Б—В—Г—Е–∞ –Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є.
–Т –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–∞—Б—В—Г—Е–∞ –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ 27 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —Г–ґ–µ –≤ 13.03 –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Р–ї–Є–Ї—Б –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–ї–Њ —Б –Љ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, —Б–Њ–≤–њ–∞–ї–Њ –≤ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ. «–£—Б—В—Г–њ–Ї–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л, — —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О. — –°—В–∞—З–Ї–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В—Б—П. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї –њ–µ—А–µ—И–ї–Њ –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є»[16]. –Ь–љ–µ–љ–Є–µ –ґ–µ–љ—Л –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Њ –і–ї—П «–љ–µ–ґ–љ–Њ –ї—О–±—П—Й–µ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Є». –Э–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї. (–Я–Њ—В–Њ–Љ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є, —З—В–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—Б—В—Л –њ–Є—Б–∞–ї–Є –љ–∞ —Н—В–Є—Е —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞—Е: «–Р–і—А–µ—Б–∞—В –≤—Л–±—Л–ї».)
–Т 12.20 –њ—А–Є—И–ї–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –•–∞–±–∞–ї–Њ–≤–∞, –≤—Б—В—А–µ–≤–Њ–ґ–Є–≤—И–∞—П —Ж–∞—А—П –љ–µ –љ–∞ —И—Г—В–Ї—Г: –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П —Б—В—А–µ–ї—П—В—М –≤ –љ–∞—А–Њ–і, –≥–≤–∞—А–і–Є—П –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є—П. «–Я—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О –≤—Б–µ –Љ–µ—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–љ–µ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л», — –Ј–∞–≤–µ—А—П–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–Љ –Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є—Б–ї–∞—В—М –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞[17].
–Э–Њ –≤ 13.20 –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–∞ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Р.–Р. –С–µ–ї—П–µ–≤–∞: «–Э–∞—З–Є–љ–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —Г—В—А–Њ–Љ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —З–∞—Б—В—П—Е –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П ‘'—В–≤–µ—А–і–Њ –Є —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ–Њ”. –•–Њ—В—П –њ–Њ–Ї–∞ –µ—Й–µ –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і–∞–≤–Є—В—М –±—Г–љ—В, –≤ —Б–Ї–Њ—А–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ –±—Г–і–µ—В –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ. –Я—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ—Л–µ –Љ–µ—А—Л. –Т–ї–∞—Б—В–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—О—В –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ»[18].
–Т 13.59 –≤ –°—В–∞–≤–Ї—Г –њ—А–Є—И–ї–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Р.–Х. –≠–≤–µ—А—В–∞ –≤ –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ «—Ж–Є—А–Ї—Г–ї—П—А–љ—Г—О» —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ. –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ. –≠–≤–µ—А—В –њ—А–Њ—Б–Є–ї –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Ж–∞—А—О, —З—В–Њ –Њ–љ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М —Б–Њ–ї–і–∞—В –Є –≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г –љ–µ –Љ–µ—И–∞–µ—В—Б—П, –љ–Њ –њ—А–Њ—Б–Є—В –њ—А–Є–љ—П—В—М –≤—Б–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –Љ–µ—А—Л –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П. –Ъ–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В –њ—А–Є–Ј—Л–≤ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Њ —Б–Ї—А—Л—В–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ[19].
–Ю–Ї–Њ–ї–Њ 14 —З–∞—Б–Њ–≤ —Д–ї–Є–≥–µ–ї—М-–∞–і—К—О—В–∞–љ—В –Р.–Р. –Ь–Њ—А–і–≤–Є–љ–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –•–∞–±–∞–ї–Њ–≤–∞ –Є –С–µ–ї—П–µ–≤–∞. –С–µ–≥–ї–Њ –њ—А–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ –Є—Е, —Ж–∞—А—М –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї—Б—П. –Я–Њ—В–Њ–Љ «—Б –≥–Њ—А–µ—З—М—О» –≤ –≥–Њ–ї–Њ—Б–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: «–Э–∞–і–Њ –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Њ –±–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ –±—Г–і–µ—В —Б–Ї–Њ—А–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Њ»[20]. –¶–∞—А—М –≤—Б–µ –µ—Й–µ –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М –ґ–µ–љ–µ, —З—В–Њ «–±–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–Є –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—В –Њ—В —А–Њ—В—Л –≤—Л–Ј–і–Њ—А–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е»[21].
–Т 19.06 –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–Њ—Б–ї–∞–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г —Б—Г–њ—А—Г–≥–µ: «–Т—Л–µ–Ј–ґ–∞—О –Ј–∞–≤—В—А–∞ –≤ 2.30. –С–Њ–≥ –і–∞—Б—В, –±–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–Є –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е —Б–Ї–Њ—А–Њ –±—Г–і—Г—В –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ—Л»[22].
–Т 19.35 –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —А–∞–њ–Њ—А—В –С–µ–ї—П–µ–≤–∞: –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П «–≤–µ—Б—М–Љ–∞ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–Љ». –Т–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Љ—П—В–µ–ґ –≤–µ—А–љ—Л–Љ–Є —З–∞—Б—В—П–Љ–Є –њ–Њ–і–∞–≤–Є—В—М –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М. –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —З–∞—Б—В–Є –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї–Є—Б—М –Ї –Љ—П—В–µ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ. –Э–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–ґ–∞—А—Л. –У–∞—Б–Є—В—М –Є—Е –љ–µ—В —Б—А–µ–і—Б—В–≤. –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –Њ—Б–∞–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ «—Б–њ–µ—И–љ–Њ–µ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є, –њ—А–Є—В–Њ–Љ –≤ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ»[23].
–Т —Н—В–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–∞–ґ–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–є—В–Є –љ–∞ —Г—Б—В—Г–њ–Ї–Є, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –≤—Л–±—А–∞–ї –Њ—А–і–Є–љ–∞—А–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ: –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –•–∞–±–∞–ї–Њ–≤–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–Љ, —Б–љ—П—В—М —Б —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤ –Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –µ–Љ—Г –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ, –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –°–µ–ї–Њ –Є –љ–∞–≤–µ—Б—В–Є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї.
–Т 21.35 –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–Љ –Э.–Т. –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–Њ–≤, —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є—Е —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –њ—А—П–Љ–Њ –Ї —Ж–∞—А—О. –£–Ї–∞–Ј–∞–≤ –љ–∞ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ –і–ї—П –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ «—А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Њ–±–Њ—Б—В—А–Є—В—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —З–µ–Љ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є—О»[24]. –≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ, —З—В–Њ —Ж–∞—А—М –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ–Њ–є—В–Є –њ–Њ –њ—Г—В–Є, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ.
–Т 22.30 –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –Ї –њ—А—П–Љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–≤–Њ–і—Г –±—А–∞—В —Ж–∞—А—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З. –Ю–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –і–Њ–Љ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Њ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ —А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є—В—М –°–Њ–≤–µ—В –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є—В—М –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П, «–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ—П—Е» –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Б –њ—А–∞–≤–Њ–Љ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–Њ–≤—Л–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –њ—А–Њ—Б–Є–ї —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—В—М –µ–≥–Њ –Њ–±—К—П–≤–Є—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П. –Ъ–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–Љ –ґ–µ –љ–∞ –њ–Њ—Б—В –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –і–Њ–≤–µ—А–Є—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї –У.–Х. –Ы—М–≤–Њ–≤–∞, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—П. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї —Ж–∞—А—О –Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–Љ—Б—П —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–µ[25].
–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –≤–µ–ї–µ–ї –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М –±—А–∞—В—Г, —З—В–Њ –≤—Б–µ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ—Л –≤ –ї–Є—З–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ—В–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П –і–Њ –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –°–µ–ї–Њ. –Э–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –•–∞–±–∞–ї–Њ–≤–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї. –° —Д—А–Њ–љ—В–∞ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П 8 –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤. –°–Њ–Њ–±—Й–∞—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї—Г
–Њ–± –Њ—В–≤–µ—В–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –Њ—В —Б–µ–±—П –ї–Є—З–љ–Њ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї, —З—В–Њ–±—Л –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Є –≤–њ—А–µ–і—М –њ—А–Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞—Е —Ж–∞—А—О –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ –і—Г—Е–µ[26].
–≠—В–∞ –њ—А–Њ—Б—М–±–∞ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є –≤ —В–Њ–Љ, –љ–∞ —З—М–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —Г–ґ–µ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ
27 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –±—Л–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ, —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—М –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї —Б–≤—П–Ј—М —Б –∞—А–Љ–Є–µ–є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—О, –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Њ–є –Ї–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і, –≤ —Г—Б–њ–µ—Е–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї—Б—П.
–Я–Њ—Б–ї–µ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ —И—В–∞–± –Є –≤ 23.25 —Б–∞–Љ –њ–Њ—Б–ї–∞–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г[27]. –Я—А–Є –љ–Њ–≤–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–µ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А—Г –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤—Б–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–∞ –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О. –Х—Б–ї–Є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї—Г —Ж–∞—А—М –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ—Л –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Њ—В–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О—В—Б—П, —В–Њ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞—П–≤–Є–ї: «–Ю—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ –≤ –ї–Є—З–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –њ—А–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е —Б—З–Є—В–∞—О –Є—Е –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ—Л–Љ–Є».
–Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Њ–±–µ—А-–≥–Њ—Д–Љ–∞—А—И–∞–ї –Я.–Ъ. –С–µ–љ–Ї–µ–љ–і–Њ—А—Д —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Є–Ј –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–µ–ї–∞, —З—В–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –і–µ—В—М–Љ–Є —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –≤—Л–µ—Е–∞—В—М –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О. –С–µ–љ–Ї–µ–љ–і–Њ—А—Д –њ–µ—А–µ–і–∞–ї, —З—В–Њ, –њ–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—В –С–µ–ї—П–µ–≤–∞, —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —В–Њ–ї–њ–∞ —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –і–≤–Є–љ—Г—В—М—Б—П –Є–Ј –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞ –љ–∞ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –°–µ–ї–Њ[28]. –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ —В—Г—В –ґ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–ї—Б—П —Б –С–µ–ї—П–µ–≤—Л–Љ –Є —Г–Ј–љ–∞–ї –Њ—В –љ–µ–≥–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—О—В—Б—П —Б–∞–Љ–Є–Љ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ[29]. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –≤–µ–ї–µ–ї –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М —Б–µ–Љ—М–µ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ. –•–Њ—В—П —Ж–∞—А—М –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –≤—Л–µ—Е–∞—В—М –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М, –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –°–µ–ї–µ, –≥–і–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ —Г–ґ–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–ї–∞ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ —Г—Б–Ї–Њ—А–Є—В—М —Б–≤–Њ–є –Њ—В—К–µ–Ј–і.
«–Т –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –±–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і; –Ї –њ—А–Є—Б–Ї–Њ—А–±–Є—О, –≤ –љ–Є—Е —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞. –Ю—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –±—Л—В—М —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М –Њ—В—А—Л–≤–Њ—З–љ—Л–µ –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П», — –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Ж–∞—А—М –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ, –њ–Њ–і–≤–Њ–і—П –Є—В–Њ–≥ –і–љ—П[30].
–Э–Њ—З—М—О 28 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –≤ 0.55 –•–∞–±–∞–ї–Њ–≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г, —З—В–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –њ—А–Є–Ї–∞–Ј —Ж–∞—А—П
–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ «–љ–µ –Љ–Њ–≥». –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —З–∞—Б—В–µ–є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —Б—А–∞–ґ–∞—В—М—Б—П —Б –Љ—П—В–µ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –і—А—Г–≥–Є–µ –њ–Њ–±—А–∞—В–∞–ї–Є—Б—М —Б –љ–Є–Љ–Є –Є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї. –Я–Њ–љ–µ—Б–µ–љ—Л –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є. –Ъ –≤–µ—З–µ—А—Г –Љ—П—В–µ–ґ–љ–Є–Ї–Є –Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ю—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤–µ—А–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ —Б—В—П–љ—Г—В—Л –Ї –Ч–Є–Љ–љ–µ–Љ—Г –і–≤–Њ—А—Ж—Г[31].
–Т —З–∞—Б –љ–Њ—З–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї—Б—П –≤ –њ–Њ–µ–Ј–і –Є —А–µ—И–Є–ї –µ—Е–∞—В—М –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б–µ –±—Г–і–µ—В –≥–Њ—В–Њ–≤–Њ –Ї –Њ—В—К–µ–Ј–і—Г.
–Т 1.55 —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ—Л–µ —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Є —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Є –≤ –°—В–∞–≤–Ї—Г, —З—В–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –і–µ–њ–µ—И–Є, –Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ –Є—Е –љ–µ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—В—М, –µ—Б–ї–Є —В–∞–Љ –љ–µ —Е–Њ—В—П—В, —З—В–Њ–±—Л —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Љ—П—В–µ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤[32]. –Ш–Ј –°—В–∞–≤–Ї–Є –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є: «–Ф–µ–њ–µ—И–Є –±—Г–і—Г—В –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М, –њ–Њ–Ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –њ—А–Њ–≤–Њ–і»[33].
–Т 1.59 –С–µ–ї—П–µ–≤ —А–∞–њ–Њ—А—В–Њ–≤–∞–ї –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤—Г: «–Ь—П—В–µ–ґ–љ–Є–Ї–Є –Ј–∞–љ—П–ї–Є —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є—О –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ — –Ь–∞—А–Є–Є–љ—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж. –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А—Л —А–∞–Ј–±–µ–ґ–∞–ї–Є—Б—М. –Т–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П —З–ї–µ–љ—Л —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞»[34]. –Т 3.15 –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –ї–µ–≥ —Б–њ–∞—В—М. –Т 5 —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞ –ї–Є—В–µ—А–љ—Л–є –њ–Њ–µ–Ј–і «–Р» –і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –≤ –њ—Г—В—М[35].
–Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Л —Б–њ–∞—Б–∞—О—В –†–Њ—Б—Б–Є—О
–Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —Б –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–Љ –њ–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Г, —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А—Г —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В—Б—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—К—О—В–∞–љ—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ш—Г–і–Њ–≤–Є—З –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤. –Ю–љ –љ–∞–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П–Љ–Є. –Т –µ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞ —Б–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П 8 –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤, —Б–∞–Љ –ґ–µ –Њ–љ —Б –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–Љ –≥–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Њ–≤ –Ј–∞–≤—В—А–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –°–µ–ї–Њ[36].
–Т –і–µ—Б—П—В–Њ–Љ —З–∞—Б—Г –≤–µ—З–µ—А–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ—А–Є–љ—П–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї —Ж–∞—А—М –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї—Б—П –≤ –њ–Њ–µ–Ј–і, –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ –Њ–њ—П—В—М –±—Л–ї –≤—Л–Ј–≤–∞–љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤, –Є –±–µ—Б–µ–і–∞ —Б –љ–Є–Љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М –і–Њ
3 —З–∞—Б–Њ–≤[37]. –С—Л–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –µ–Љ—Г –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л, –∞ –µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–і–µ–ї–Є—В—М –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П–Љ–Є –і–Є–Ї—В–∞—В–Њ—А–∞: –≤—Б–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –±–µ—Б–њ—А–µ–Ї–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П.
28 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –≤ 10.05 –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –≤–Њ—Б—М–Љ—М—О—Б—В–∞–Љ–Є –≥–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–∞–Љ–Є –≤—Л–µ—Е–∞–ї –Є–Ј –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤–∞ –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –°–µ–ї–Њ. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л, —Б–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ—Л–µ —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–Њ–є—В–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ–Њ–Ј–ґ–µ[38].
–Т —В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М, 28 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П, —В—Г–і–∞ –ґ–µ, –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –°–µ–ї–Њ, –Є–Ј –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–µ–є — –Э.–Э. –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤, –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л–є –њ–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–є. –Я–Њ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Њ–љ –±—Л–ї —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –і—П–і–µ–є —Ж–∞—А—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Я–∞–≤–ї–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ, —Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –≥–≤–∞—А–і–Є–Є.
–Х—Б–ї–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ–µ–Љ –Є –Љ–µ—З–Њ–Љ —Б–њ–∞—Б—В–Є –†–Њ—Б—Б–Є—О, –њ–Њ—Б–ї–∞–ї —Ж–∞—А—М, —В–Њ —О—А–Є—Б—В–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞, —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б–њ–∞—Б—В–Є –†–Њ–і–Є–љ—Г —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–µ—А–∞ –Є —З–µ—А–љ–Є–ї, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л[39].
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Э.–Э. –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї —Н—В–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–µ, –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —Г–ґ–µ –±—Л–ї –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л –і–ї—П —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Б —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є.
–Я–Њ–ї—Г—Ж–Є—А–Ї—Г–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В
–£—В—А–Њ–Љ 27 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –≤ –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤–µ —Б–ї—Г—И–∞–ї –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞, –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –≤ –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ, –Ф—Г–Љ–∞, —А–∞—Б–њ—Г—Й–µ–љ–љ–∞—П —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ —Г–Ї–∞–Ј–Њ–Љ, —Б–Њ–±—А–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —З–∞—Б—В–љ–Њ–µ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ –Є —А–µ—И–Є–ї–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Њ—Б–Њ–±—Л–є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –≤–Њ–і–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ[40]. –Т –љ–µ–≥–Њ –≤–Њ—И–ї–Є –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Л –Њ—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Д—А–∞–Ї—Ж–Є–є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ф—Г–Љ–µ, — –≤—Б–µ–≥–Њ 12 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї.
–°–∞–Љ—Л–Љ–Є —П—А–Ї–Є–Љ–Є —Д–Є–≥—Г—А–∞–Љ–Є –≤–Њ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М: –Ь.–Т. –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ — –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М, –Я.–Э. –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ — –ї–Є–і–µ—А –њ–∞—А—В–Є–Є –Ї–∞–і–µ—В–Њ–≤, –Р.–§. –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є — —В—А—Г–і–Њ–≤–Є–Ї. –° –њ–µ—А–≤–Њ–є –ґ–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –Ј–∞–≤—П–Ј–∞–ї–∞—Б—М –±–Њ—А—М–±–∞ –Ј–∞ –ї–Є–і–µ—А—Б—В–≤–Њ. –Т—Б–µ —В—А–Њ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Љ–µ–Љ—Г–∞—А—Л –Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –љ–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–є –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ–є —Б—Е–≤–∞—В–Ї–µ. –Ъ–∞–Ї —А–∞–Ј –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –µ–µ –∞–≤—В–Њ—А—Л –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞—В—Г—И–µ–≤–∞—В—М. –Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ-–љ–∞–њ—А–Њ—Б—В–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –±–Њ—А–Њ–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –≤–ї–∞—Б—В—М –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ, –Є—Е –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–Є–ї–Є –±—Л –Љ–Є—Д —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –≤—Б–µ—Е –µ–µ —Б–∞–Љ—Л—Е –Њ–≥–Њ–ї—В–µ–ї—Л—Е –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Е—Г–ї–Є—В–µ–ї–µ–є.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П, –Ј–∞ —Б—В–µ–љ–Њ–є, –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ вДЦ 13, —Г–ґ–µ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤[41]. –Я—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–∞ —Б—В–∞–ї –Э.–°. –І—Е–µ–Є–і–Ј–µ, –Р.–§. –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є — –µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ.
–С—Г–і—Г—З–Є —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є –і–≤—Г—Е —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–≤, –Њ–±–∞ –Њ–љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Њ–і–љ—Г –Њ–±—Й—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Љ–∞—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї–Ї–∞, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Г—О –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ «–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є». –Ш–Ј 12 —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –Ї –Љ–∞—Б–Њ–љ–∞–Љ.
–Т–Њ –≥–ї–∞–≤–µ «–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є» –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–Њ—П–ї –Р.–§. –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є. –Ю–љ –±—Л–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А–µ–Љ –µ–≥–Њ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞. –Ч–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г —П–≤–ї—П–ї—Б—П –Э.–Т. –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤, —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ—И–µ–і—И–Є–є –≤–Њ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –Њ—В –њ–∞—А—В–Є–Є –Ї–∞–і–µ—В–Њ–≤. –Э–Є –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –љ–Є –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Ї –Љ–∞—Б–Њ–љ–∞–Љ –љ–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є. –•–Њ—В—П –і–Њ –≤–µ—Б–љ—Л 1916 –≥. –Њ–љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б –љ–Є–Љ–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —А—Г—Б–ї–µ, –і–Њ–±–Є–≤–∞—П—Б—М «–Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –і–Њ–≤–µ—А–Є—П».
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ—Л–Љ–Є –Ї—А—Г–≥–∞–Љ–Є, –Є –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤, «–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А, –њ—А–Є–≤—Л–Ї—И–Є–є —З–Є—В–∞—В—М –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є», –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є –ї–Є—И—М –ї–µ–≥–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л –±–Њ—А—М–±—Л. –Ь–∞—Б–Њ–љ—Л –ґ–µ —Б 1916 –≥. –≤–µ—Б–љ—Л –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї—М–љ—Л–Љ. –Т —Н—В–Њ–є —Б—А–µ–і–µ –±—Л–ї–Є –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–љ—Л –њ–ї–∞–љ—Л –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–є –Ї–∞–Љ–∞—А–Є–ї—М–Є, –≤—Л–љ–∞—И–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є–і–µ—П –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В–∞. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В–∞, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Ї—Г —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –љ–∞ –њ—Г—В–Є –Є–Ј –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤–∞ –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –°–µ–ї–Њ –Є –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ї –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—О –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Б—Л–љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –њ—А–Є —А–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞.
–Э–µ–Љ–∞–ї–Њ–≤–∞–ґ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ —Н—В–Є—Е –њ–ї–∞–љ–∞—Е –Є–≥—А–∞–ї –Р.–Ш.–У—Г—З–Ї–Њ–≤, –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞. –Ю—В–љ—О–і—М –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –і–љ–µ–Љ 27 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –Ф—Г–Љ–µ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–ї—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є—Б—М –Ї —Г–Ї–∞–Ј—Г —Ж–∞—А—П –Њ —А–Њ—Б–њ—Г—Б–Ї–µ –Ф—Г–Љ—Л, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–∞—Б–Њ–љ—Л –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М—Б—П –µ–Љ—Г –Є –њ–Њ–і—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–ї–Є –љ–µ—А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Є –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤–∞ –Ї —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ[42].
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї –≤–µ—З–µ—А—Г 27 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Г–ґ–µ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ, –≤–µ—А–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –±—Л–ї–Є —Б—В—П–љ—Г—В—Л –Ї –Ч–Є–Љ–љ–µ–Љ—Г –і–≤–Њ—А—Ж—Г, –∞ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї –Ј–∞—П–≤–Є–ї –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –Ф—Г–Љ—Л, –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж —А–µ—И–Є–ї—Б—П. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Ф—Г–Љ—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–љ–∞—П —Б—Ж–µ–љ–∞. –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –≤—Л–њ—А—П–Љ–Є–ї—Б—П –≤ –Ї—А–µ—Б–ї–µ –Є —Б —А–∞–Ј–Љ–∞—Е—Г —Г–і–∞—А–Є–ї –ї–∞–і–Њ–љ—М—О –њ–Њ —Б—В–Њ–ї—Г. «–•–Њ—А–Њ—И–Њ, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, — –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б –Њ–љ, — —П –±–µ—А—Г –≤–ї–∞—Б—В—М –≤ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є. –Э–Њ –Њ—В—Б–µ–ї—М –њ—А–Њ—И—Г –≤—Б–µ—Е –±–µ—Б–њ—А–µ–Ї–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—В—М—Б—П <...> –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З, —Н—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ї –≤–∞–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П». –Ю—В–≤–µ—В –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї–µ–љ: «–ѓ –≥–Њ—В–Њ–≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Є —Б –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –Ф—Г–Љ—Л, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Є–Љ–Є—В–µ –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –±—Г—А–ї–Є—В –≤ –±—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є»[43]. –Т –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –±—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Ј–∞—Б–µ–і–∞–ї –°–Њ–≤–µ—В —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤.
–Ф–Є–∞–ї–Њ–≥ —Н—В–Њ—В –±—Л–ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї–µ–љ. –Ь–љ–Њ–≥–Њ–µ –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –љ–µ–Љ: –Є —В–Њ, —З—В–Њ, –±–µ—А—П –≤ —А—Г–Ї–Є –±—А–∞–Ј–і—Л, –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, –Ї—В–Њ —Б—В–∞–љ–µ—В –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞—В—М —Г –љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–ґ–ґ–Є, –Є —В–Њ, —З—В–Њ –≤–µ—Б–Њ–Љ–Њ—Б—В—М –≥–Њ–ї–Њ—Б—Г –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–і–∞–≤–∞—В—М –Њ–њ–Њ—А–∞ –љ–∞ –°–Њ–≤–µ—В –Є —В–µ—Е, –Ї–Њ–≥–Њ –Њ–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—П —Б–µ–±—П «–Ј–∞–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є».
–°—В–∞–≤ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞, –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї —И–∞–≥–Є, —З—В–Њ–±—Л –ї–µ–≥–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Є–Ј –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є. –Э–Њ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –µ–Љ—Г –±—Л–ї–∞ –љ—Г–ґ–љ–∞ —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є—П –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –љ–∞ –µ–≥–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –љ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї, –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —А–µ—И–Є–ї –Њ–њ–µ—А–µ—В—М—Б—П –љ–∞ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Ж–∞—А—П.
–С–ї–Є–ґ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–љ –±—Л–ї —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–Љ, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї —В–∞–є–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Л. –Х—Й–µ 26 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –Њ–љ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Є–Ј –У–∞—В—З–Є–љ—Л, –∞ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –і–љ—П 27-–≥–Њ –Њ–љ —П–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Ь–∞—А–Є–Є–љ—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і—Г–Љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є–µ–є –Є –њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Г–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є —Ж–∞—А—П –њ–Њ—А—Г—З–Є—В—М –µ–Љ—Г —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –і–Њ–≤–µ—А–Є—П. –Э–Њ –Ї–љ—П–Ј—М –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —В–∞–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є.
–Ґ–Њ–≥–і–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —Б—В–∞–ї —Б–Ї–ї–Њ–љ—П—В—М –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞ –Э.–Ф. –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ–∞ —Б–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Б —Б–µ–±—П –Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П –Є –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –Є—Е –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—О –Ф—Г–Љ—Л. –£–є—В–Є –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ –±—Л–ї –≥–Њ—В–Њ–≤, –љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М –≤–ї–∞—Б—В—М –≤ —З—Г–ґ–Є–µ —А—Г–Ї–Є –±–µ–Ј —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–Є —Ж–∞—А—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л –љ–µ —Б—В–∞–ї. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї—Г –њ—А–Є–љ—П—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П —А–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–Њ, –љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ—В–Ї–∞–Ј: –±–µ–Ј —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–Є–љ—П—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П.
–°–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Н—В–Є—Е –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ –Є –±—Л–ї —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Л–Љ –њ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–≤–Њ–і—Г
27 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –≤ 22.30, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Ж–∞—А—М –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –љ–∞ –≤—Б–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –±—А–∞—В–∞ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–Њ–Љ[44].
–£—В—А–Њ–Љ 28 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞–ї –Э.–Э. –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–њ—Л—В–∞—В—М—Б—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –і–ї—П —Н—В–Є—Е –ґ–µ —Ж–µ–ї–µ–є –і—П–і—О —Ж–∞—А—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Я–∞–≤–ї–∞. «–ѓ —З–µ—А–µ–Ј –Э.–Ш. (—В. –µ. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞. — –Ь.–°.) –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–µ —Б –Ф—Г–Љ–Њ–є», — –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –ґ–µ–љ–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П –Ю.–Т. –Я–∞–ї–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–µ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ–µ 3 –Љ–∞—А—В–∞[45].
–Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М—Б—П —Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –љ–∞ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ—В –њ—А–Є–µ–і–µ—В –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –°–µ–ї–Њ, –Є —В—Г—В –ґ–µ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П —Г–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Ж–∞—А—П –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞—В—М –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В, –і–∞—А—Г—О—Й–Є–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ. –Т –њ–ї–∞–љ—Л –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞—В—М —Г–±–µ–і–Є—В—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ—Г —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Н—В–Њ–є –Ј–∞—В–µ–µ. –Э–µ –Ј—А—П –ґ–µ –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Љ—Г—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–ї—Г—Е–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —В–Њ–ї–њ–∞ —Г–ґ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ї –њ–Њ—Е–Њ–і—Г –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Т–µ—А—Б–∞–ї—М, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ —Е–Њ—В–µ–ї–∞ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є—О –Є –≤—Л–µ—Е–∞—В—М –љ–∞ –≤—Б—В—А–µ—З—Г —Б –Љ—Г–ґ–µ–Љ.
–Э–Њ —Г–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ—Г –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Ї —Н—В–Њ–є –Ј–∞—В–µ–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –љ–∞–і–µ—П–ї–Є—Б—М, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є—В—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞—В—М –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–µ, –µ—Й–µ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –Њ–љ —Г—Б–њ–µ–µ—В –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–µ—В –µ–µ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ.
–Э–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є–Є –±—Л–ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ—А—З–ї–Є–≤–Њ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–∞—Е, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ –Љ–Њ–≥ –і–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є—В—М—Б—П –≤ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Г—О –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є—О. –Ґ–∞–Љ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–љ—П—В—Л —В–µ–Љ, —З—В–Њ –њ–Є—Б–∞–ї–Є –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є—О[46]. –¶–∞—А–Є—Ж–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—Б–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ–∞ –Њ–± —Н—В–Є—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е. «–Я–∞–≤–µ–ї, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є –Њ—В –Љ–µ–љ—П —Б—В—А–∞—И–љ—Г—О –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–Љ–Њ–є–Ї—Г –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї —Б –≥–≤–∞—А–і–Є–µ–є, — –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –Љ—Г–ґ—Г 2 –Љ–∞—А—В–∞, — —В–µ–њ–µ—А—М —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –Є–Ј–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–Є–ї –Є —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –љ–∞—Б –≤—Б–µ—Е —Б–њ–∞—Б—В–Є –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–Љ –Є –±–µ–Ј—Г–Љ–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ: –Њ–љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Є–і–Є–Њ—В—Б–Ї–Є–є –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л»[47].
–Т –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–µ –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є —Ж–∞—А—П –Њ–±—К—П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Ф—Г–Љ–µ –Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≤–µ—В—Г –і–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—З–∞—В—М —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–љ–µ—Б–µ—В –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Њ–њ–Є—А–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –љ–∞ –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ —Б—В—А–∞–љ—Л, —Е–Њ—В—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –±–µ–Ј–ї–Є—З–љ—Л–є —В–µ–Ї—Б—В –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ –љ–µ–Љ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М, –Ї—В–Њ –ґ–µ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ—В –Є –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є—В —В–∞–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ. –Э–Њ –і–ї—П –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –њ–µ—А–≤–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–є –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞—В—М, —В. –µ. –њ–µ—А—Б–Њ–љ–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П–Љ–Є –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞.
–Я—А–Њ–µ–Ї—В –±—Л–ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —Б —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ—Е —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –і–ї—П –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞, –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—М –Њ–±—К—П–≤–ї—П–ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г –Њ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є. «–С–Њ–ґ—М–µ–є –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М—О, –Ь—Л, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Т—В–Њ—А–Њ–є.».
–Т –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Ж–∞—А—М —Е–Њ—В–µ–ї –њ–µ—А–µ—Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Е –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –њ—А–Є—Г—А–Њ—З–Є—В—М –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П –Ї–Њ –і–љ—О –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –≤–Њ–є–љ—Л. –Э–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М —Н—В–Њ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е—Г –Љ–µ—И–∞–ї–Њ «–±—Л–≤—И–µ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ»: —Б—З–Є—В–∞—П –љ–µ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–і –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Њ–љ–Њ (–≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –Є–Ј —Н–≥–Њ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є) –Њ—В–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Њ —Н—В–Њ—В –∞–Ї—В –љ–∞ –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –°–Њ–±—Л—В–Є—П –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –і–љ–µ–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –љ–µ –Њ–њ–Є—А–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–≤–Є–і–µ—В—М –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–µ –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Є –Є—Е –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —Г–ґ–µ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ, —Е–Њ—В–µ–ї —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Ї–Њ–Ј–ї–∞ –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П, –∞ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–∞ –≤–Њ–Ј–≤—Л—Б–Є—В—М –Ј–∞ —Б—З–µ—В «–Њ–Ї–Њ–Ј–ї–µ–љ–Є—П» –µ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤. –°–Љ—Г—В–∞, –Ї—А–∞–є–љ–µ –Њ–њ–∞—Б–љ–∞—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В, –њ–Њ—Б–µ—П–љ–∞ «–љ–µ –±–µ–Ј –њ—А–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ–≤–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞». (–Я—А–∞–≤–і–∞, –∞–≤—В–Њ—А –љ–µ —Г—В–Њ—З–љ—П–ї, –Ї–∞–Ї–Њ–є —Н—В–Њ –≤—А–∞–≥, –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –Є–ї–Є –≤–љ–µ—И–љ–Є–є.) –Э–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–і –љ–µ –і–∞—Б—В –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Н—В–Є–Љ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ–Є—Б–Ї–∞–Љ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–є —Ж–∞—А—М, «–Њ—Б–µ–љ—П —Б–µ–±—П –Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ», –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤—Г —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—В—А–Њ–є.
–Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–Є—В—М –њ—А–µ—А–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Г–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л –Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞. –Я—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—О –Ф—Г–Љ—Л –њ–Њ—А—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М «–Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В, –Њ–њ–Є—А–∞—О—Й–Є–є—Б—П –љ–∞ –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ —Б—В—А–∞–љ—Л». –≠—В–Њ—В –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Є–љ—П—В—М –Љ–µ—А—Л –і–ї—П —Б–Њ–Ј—Л–≤–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П. –Ю–љ–Њ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–є–Љ–µ—В—Б—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –≤–љ–µ—Б—В–Є –≤ –љ–µ–≥–Њ «–Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –і–Њ–≤–µ—А–Є—П».
–Я—А–Њ–µ–Ї—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї—Б—П —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Њ–є: «–Ф–∞–љ –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –°–µ–ї–µ, –Ь–∞—А—В–∞ –≤ 1-–є –і–µ–љ—М –≤ –ї–µ—В–Њ –Њ—В –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ —В—Л—Б—П—З–∞ –і–µ–≤—П—В—М—Б–Њ—В —Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–µ, —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ґ–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —В—А–µ—В–Є–µ»[48]. –Ф–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є–і–∞—В—М –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Г –±–Њ–ї—М—И–µ –≤–µ—Б–∞ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —Ж–∞—А—П, –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Я–∞–≤–µ–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–Њ–і –љ–Є–Љ —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М. –Т –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З–∞. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ–Њ—Б–ї–µ –і–Њ–ї–≥–Є—Е –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є–є –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З. –Т —В–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Є–і–µ —В–µ–Ї—Б—В –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Њ–і–Њ–±—А–Є—В—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є.
–Э–Њ —З—В–Њ–±—Л –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Н—В–Њ —Ж–∞—А—О, –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –і–Њ–ґ–і–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –љ–∞ –њ–µ—А—А–Њ–љ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞.
«–Ю–љ —И–µ–ї –љ–∞ –Ю–і–µ—Б—Б—Г, –∞ –≤—Л—И–µ–ї –Ї –•–µ—А—Б–Њ–љ—Г»
–Т—Б—О –љ–Њ—З—М —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–µ–Ј–і –і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П –Ї –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Г, –∞ –≤ –°—В–∞–≤–Ї—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ –Є –љ–Њ–≤—Л–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П. –Ю–і–љ–Њ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ–µ–µ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ –Є—Е –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –њ–Њ-–Є–љ–Њ–Љ—Г.
28 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –≤ 8.25 –•–∞–±–∞–ї–Њ–≤ –і–Њ–љ–µ—Б: «–Ъ–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤–µ—А–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В 600 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–µ—Е–Њ—В—Л, 500 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є. –Т –Є—Е —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є 15 –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–Њ–≤, 12 –Њ—А—Г–і–Є–є»[49].
–Т 9.10 –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г, –∞–і—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О —Ж–∞—А—О. –Ю–љ–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞ –≤ –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Ж–∞—А—М —Г–ґ–µ —Г–µ—Е–∞–ї –љ–∞ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А—Г—З–Є—В—М –µ–µ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —А—Г–Ї–Є –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є. –Ґ–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞ –Њ—В –≤—Л–±–Њ—А–љ—Л—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞, –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –°—А–µ–і–Є –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–≤—И–Є—Е –µ–µ –±—Л–ї –Р.–Ш. –У—Г—З–Ї–Њ–≤.
–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ—И–ї–Є –і–∞–ї—М—И–µ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л. –Ю–љ–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –ї–Є—Ж–Њ, –Њ–±–ї–Є—З–µ–љ–љ–Њ–µ –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ–Љ —Б—В—А–∞–љ—Л, –љ–Њ –Є –≤–≤–µ—Б—В–Є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–µ—А–µ–і –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ. –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —Г–ґ–µ —И–µ–ї –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ[50].
–Т 11.30 –љ–Њ–≤–∞—П —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –•–∞–±–∞–ї–Њ–≤–∞ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–∞: «–Т–µ—Б—М –≥–Њ—А–Њ–і –≤–Њ –≤–ї–∞—Б—В–Є –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А—Й–Є–Ї–Њ–≤, —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ –љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В, –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї—Л –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ—Л –Є —Б—В—А–Њ–≥–Њ –Њ—Е—А–∞–љ—П—О—В—Б—П»[51].
–Т 11.45 –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —А–∞–њ–Њ—А—В –С–µ–ї—П–µ–≤–∞: «–Ь—П—В–µ–ґ–љ–Є–Ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —З–∞—Б—В—П—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї–Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –±—А–Њ—Б–∞—О—В –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П—В –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Љ—П—В–µ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Э–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞—Е –Є–і–µ—В –±–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ–∞—П —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞, –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Њ, –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞—Е —А–∞–Ј–Њ—А—Г–ґ–∞—О—В. –Ъ—А–∞–є–љ–µ –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї–Њ—А–µ–є—И–µ–µ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї, –±–µ–Ј –љ–Є—Е –Љ—П—В–µ–ґ –±—Г–і–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П»[52].
–Т 13.10 –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –љ–∞—З–∞–ї —А–∞—Б—Б—Л–ї–Ї—Г —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ —Д—А–Њ–љ—В–∞–Љ–Є —Б –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ. –Х—Й–µ –љ–Њ—З—М—О, –≤ 0.35, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –†—Г—Б–Є–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Є–Ј —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Ф—Г–Љ—Л. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞–Љ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ, –њ–Њ —З–∞—Б—В–љ—Л–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ, –≤ –Ф—Г–Љ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ —Б–Њ–≤–µ—В –ї–Є–і–µ—А–Њ–≤ –њ–∞—А—В–Є–є –і–ї—П —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤—Л–±–Њ—А—Л –Њ—В —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є –Љ—П—В–µ–ґ–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї[53]. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–µ –±—Л–ї–Є –µ—Й–µ –і–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л —Ж–∞—А—О, –∞ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ—Л —Г–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Й–∞–ї–Є—Б—М –Њ –љ–Є—Е.
–Т 14.25 –С–µ–ї—П–µ–≤ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї—П—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї[54]. –Ю–Ї–Њ–ї–Њ 12 —З–∞—Б–Њ–≤ –і–љ—П –Є—Е –≤—Л–≤–µ–ї–Є –њ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Є–Ј –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б—В–≤–∞, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—М –Ј–і–∞–љ–Є–µ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ—Г. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Н—В–Є —З–∞—Б—В–Є –±—Л–ї–Є –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л, —А–µ—И–Є–ї–Є –љ–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В—М –Є—Е –≤ –і—А—Г–≥–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –∞ —А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є—В—М –њ–Њ –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ–∞–Љ. –І—В–Њ–±—Л –њ–Њ –њ—Г—В–Є —Г –љ–Є—Е –љ–µ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ї–Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–Є —Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ —Б–і–∞—В—М –µ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А—Г. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –і–Є–Ї—В–∞—В–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–µ—В —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л.
–Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ. –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –њ—Г—В–µ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –і–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ–Є. –°—В–∞–≤–Ї–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї–∞—Б—М –≤–Ј—П—В—М —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–Є –≤ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є, –љ–Њ —Н—В–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ —З–Є—Б—В–Њ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є. –°—В–∞–≤–Ї–∞ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–ї–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Ї—Г–ї–∞–Ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞, –љ–Њ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є, –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї—Л –Є —Б–≤—П–Ј—М –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —В–µ–њ–µ—А—М –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –≤–Њ—Б—Б—В–∞–≤—И–Є—Е, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–Є –≤—Л–і–µ–ї—П–ї–Є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Г, –Є—Е –µ—Й–µ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ–Њ–і–≤–µ—Б—В–Є –Ї –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Г.
–Р –њ–Њ–µ–Ј–і —Ж–∞—А—П –і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П –≤ –Љ—П—В–µ–ґ–љ—Г—О —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г, –љ–µ –Є–Љ–µ—П —Б–≤—П–Ј–Є —Б–Њ –°—В–∞–≤–Ї–Њ–є.
–¶–∞—А—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є. –Т 15 —З–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ–µ–Ј–і –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –Т—П–Ј—М–Љ—Г. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї –ґ–µ–љ–µ: «–Ь—Л—Б–ї—П–Љ–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ. –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–∞—П –њ–Њ–≥–Њ–і–∞. –Э–∞–і–µ—О—Б—М, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В–µ —Б–µ–±—П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Њ —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞. –Ы—О–±—П—Й–Є–є –љ–µ–ґ–љ–Њ –Э–Є–Ї–Є»[55]. –Я–Њ–µ–Ј–і –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї —З–µ—А–µ–Ј –†–ґ–µ–≤.
–Т 21 —З–∞—Б –Њ–љ —Г–ґ–µ –±—Л–ї –≤ –Ы–Є—Е–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ. –Т 21.27 –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–Њ—Б–ї–∞–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –ґ–µ–љ–µ: «–Ч–∞–≤—В—А–∞ —Г—В—А–Њ–Љ –љ–∞–і–µ—О—Б—М –±—Л—В—М –і–Њ–Љ–∞»[56]. –Э–Њ –≤ –Ы–Є—Е–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ —Ж–∞—А—П –ґ–і–∞–ї–Є —Б–Ї–≤–µ—А–љ—Л–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П.
–Ґ—Г—В –Њ–љ —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —А–∞–Ј–Њ—Б–ї–∞–ї –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ. –Т –љ–µ–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б—В–∞—А–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М, –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–≤—И–∞—П —А–∞–Ј—А—Г—Е—Г –≤—Б–µ—Е –Њ—В—А–∞—Б–ї–µ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –±–µ—Б—Б–Є–ї—М–љ–Њ–є. –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –і—Г–Љ–∞ –≤–Ј—П–ї–∞ –≤ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є «—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є». –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В—А—Г–і–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е —Б —Г–і–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Н–љ–µ—А–≥–Є–µ–є. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–Њ—Б–ї–∞–љ–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Њ–Љ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–Љ—Г —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В—Г –Р.–Р. –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ.
–Т 13.50 –≤ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї: «–°–µ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ –Ј–∞–љ—П–ї –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –њ—Г—В–µ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П»[57].
–Т –Ы–Є—Е–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ —Б—В–∞–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, –≤ —З—М–Є—Е —А—Г–Ї–∞—Е –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є.
–Т –С–Њ–ї–Њ–≥–Њ–Љ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г, –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О 28 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –≤ 5.15 –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л –±—Л–ї «–≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ» –≤–Ј—П—В—М –≤–ї–∞—Б—В—М –і–ї—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞.
–Ш–Ј –С–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≥–Њ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞, –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—О—Й–∞—П –µ–≥–Њ –≤—Л–µ—Е–∞—В—М –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г —Ж–∞—А—О –і–ї—П –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞. –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞–µ—В[58].
–Т –Ь–∞–ї–Њ–є –Т–Є—И–µ—А–µ —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –≤–µ–і–Њ–Љ—Л–є –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї –У—А–µ–Ї–Њ–≤, —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞, —А–∞–Ј–Њ—Б–ї–∞–ї —Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ—Г—О —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –≤—Б–µ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ —Б–ї—Г–ґ–± –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–∞. –Ю—В –Є–Љ–µ–љ–Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Њ–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М –µ–Љ—Г –њ–Њ–ї–љ—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–µ–Ј–і–∞—Е –Є –љ–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –Є—Е —Б–Њ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –±–µ–Ј —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П[59]. –≠—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Њ, —З—В–Њ –Ј–∞ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —З–∞—Б—В–µ–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М, –∞ –Є—Е –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї —В–µ–њ–µ—А—М –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞ –У—А–µ–Ї–Њ–≤–∞.
–Я–Њ–љ—П–ї–Є –ї–Є —В–Њ–≥–і–∞ –≤ –Ь–∞–ї–Њ–є –Т–Є—И–µ—А–µ, —З—В–Њ –Є –Ј–∞ –ї–Є—В–µ—А–љ—Л–Љ –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Љ —Ж–∞—А—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ? –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –і–∞. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –љ–∞ –і—А–µ–Ј–Є–љ–µ –њ—А–Є–±—Л–ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї, —З—В–Њ —З–µ—А–µ–Ј –Ы—О–±–∞–љ—М –њ—А–Њ–µ—Е–∞—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П. –Ю–љ–∞ —Г–ґ–µ –Ј–∞–љ—П—В–∞ –±—Г–љ—В—Г—О—Й–Є–Љ–Є —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ–Є[60]. –Ґ–Њ –ґ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Ґ–Њ—Б–љ–Њ.
–С—Л–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —З–∞—Б—Г –љ–Њ—З–Є 1 –Љ–∞—А—В–∞. (–Ь–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї —В–∞–Љ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –∞ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ. –°–Њ–ї–і–∞—В—Л –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–∞—О—Й–µ–є —З–µ—А–µ–Ј –Ы—О–±–∞–љ—М –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–Є–ї–Є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –±—Г—Д–µ—В. –Я–Њ—А—П–і–Њ–Ї –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ. –Т –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –°—В–∞–≤–Ї–Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞–Ј–Њ—А—Г–ґ–Є–ї–Є –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ–Њ–≤ –Є –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П—Е –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —Н—В–Є—Е –≥—А—Г–њ–њ.)[61]
–Ю–Ї–Њ–ї–Њ —В—А–µ—Е —З–∞—Б–Њ–≤ –љ–Њ—З–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–µ–Ј–і –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї –љ–∞ –С–Њ–ї–Њ–≥–Њ–µ. –Ю–Ї–Њ–ї–Њ 10 —З–∞—Б–Њ–≤ –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —Г–ґ–µ –Ј–∞ –С–Њ–ї–Њ–≥–Є–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г –Т–∞–ї–і–∞–µ–Љ –Є –°—В–∞—А–Њ–є –†—Г—Б—Б–Њ–є. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ–µ—Е–∞—В—М –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –°–µ–ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј –°—В–∞—А—Г—О –†—Г—Б—Б—Г, –Ф–љ–Њ –Є –Т—Л—А–Є—Ж—Г. –Ґ—Г—В –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Љ–Њ—Б—В –њ–Њ –Т–Є–љ–і–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ –Є—Б–њ–Њ—А—З–µ–љ.
–Т –°—В–∞—А–Њ–є –†—Г—Б—Б–µ –≤ 13.05 –±—Л–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М —З–µ—А–µ–Ј —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –Ф–љ–Њ –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —И—В–∞–± –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞.
–Э–∞ –њ–µ—А—А–Њ–љ–µ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Ф–љ–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П —Г–ґ–µ –ґ–і–∞–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—Б—В —Б —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є –≤ —А—Г–Ї–∞—Е. –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї: «–°–µ–є—З–∞—Б —Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Љ. –Т—Л–µ–Ј–ґ–∞—О –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –Ф–љ–Њ –і–ї—П –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –Т–∞–Љ, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М, –Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї –Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –Љ–µ—А–∞—Е –і–ї—П —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –£–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—И—Г –і–Њ–ґ–і–∞—В—М—Б—П –Љ–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–і–∞, –Є–±–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –Ї–∞–ґ–і–∞—П –Љ–Є–љ—Г—В–∞»[62].
–≠—В–Њ –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —И–∞–љ—Б –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Є–Ј —А—Г–Ї —Ж–∞—А—П «–і–Њ–±—А–Њ» –љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞. –Ю–љ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Ж–∞—А—О –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –≤ –і—Г—Е–µ —В–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –°–µ–ї–µ.

–Ґ–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є, –µ—Й–µ –≤—З–µ—А–∞ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–≤—И–Є–є –љ–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –Њ—Б—В—А–Њ –љ—Г–ґ–і–∞–ї—Б—П –≤ –љ–µ–Љ. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ–љ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–µ—Е–∞—В—М –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –Ф–љ–Њ, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –µ–Љ—Г —Г–і–∞—Б—В—Б—П –≤—Л–µ—Е–∞—В—М –Є–Ј —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л.
–Х—Й–µ –≤ 11.00, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П —Г–ґ–µ –њ—А–Њ—И–µ–ї —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –С–Њ–ї–Њ–≥–Њ–µ –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г –Т–∞–ї–і–∞–µ–Љ –Є –°—В–∞—А–Њ–є –†—Г—Б–Њ–є, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Т–Є–љ–і–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ—В –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –њ—А–µ–ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П: «–Э–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М —Б–Њ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Ф–љ–Њ –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –С–Њ–ї–Њ–≥–Њ–µ –і–≤–∞ —В–Њ–≤–∞—А–љ—Л—Е –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ —Б–ї–µ–і–Њ–Љ –і—А—Г–≥ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Є –Ј–∞–љ—П—В—М –Є–Љ–Є –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М —А–∞–Ј—К–µ–Ј–і, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–µ–µ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Ф–љ–Њ –Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї–Є—Е –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–≤ –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Њ—В –С–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≥–Њ –≤ –Ф–љ–Њ». –Ч–∞ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Є–ї–Є «–љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Б—А–Њ—З–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ» —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤ –≥—А–Њ–Ј–Є–ї –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–Ї –Ј–∞ –Є–Ј–Љ–µ–љ—Г –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г[63].
–Т—Б–µ —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Њ—Б—М –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ—А–≤–∞—В—М –≤—Б—В—А–µ—З—Г –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —Б —Ж–∞—А–µ–Љ. –£–Ј–љ–∞–≤ –Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –Њ –≤—Б—В—А–µ—З–µ –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Ф–љ–Њ, –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤ —А–µ—И–Є–ї —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В—Г –≤—Б—В—А–µ—З—Г —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є, –Ј–∞–Ї—А—Л–≤ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–љ –С–Њ–ї–Њ–≥–Њ–µ — –Ф–љ–Њ. –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ 2 –Љ–∞—А—В–∞ –≥–∞–Ј–µ—В–∞ «–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П», –Њ—А–≥–∞–љ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞, —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ «–Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П–Љ–Є –С–Њ–ї–Њ–≥–Њ–µ –Є –Ф–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–µ–Ј–і, –њ–Њ–Ј–∞–і–Є –љ–µ–≥–Њ (–≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ. — –Ь.–°.) —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ –Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–µ»[64].
–•–Њ—В—П –°–Њ–≤–µ—В —Е–Њ—В–µ–ї —Г–≤–µ—А–Є—В—М —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є, —З—В–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–µ–Ј–і –њ–Њ–є–Љ–∞–љ –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—О: –њ–Њ–Ј–∞–і–Є –Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–µ, –≤–њ–µ—А–µ–і–Є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ј–∞–љ—П–ї–Є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –∞ –≤–Њ—В –њ–Њ–Ј–∞–і–Є –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ –Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –љ–∞ –≤—Б—В—А–µ—З—Г —Б —Ж–∞—А–µ–Љ! (–Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ 1 –Љ–∞—А—В–∞ –≤ 20.45 –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞–ї—Б—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ –ї–Є—В–µ—А–љ—Л–µ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –Ф–љ–Њ –Є –і–∞–ї—М—И–µ[65], –∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞ –ї–Є–љ–Є–Є –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤—–Ф–љ–Њ— –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ —Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ.) –Ч–∞–њ–∞–і–љ—П –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ –љ–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О, –∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ.
–Ю—В –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞ –і–Њ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Ф–љ–Њ –±—Л–ї–Њ 6 —З–∞—Б–Њ–≤ –µ–Ј–і—Л. –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д—Г —Б–≤—П–Ј–∞–ї—Б—П —Б –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–Њ–Љ –Є —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і –і–ї—П –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П —Г–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤ —Б—В–Њ–Є—В –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–Љ –Ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–Ї–µ. –°–∞–Љ –ґ–µ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ, –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–≤–∞–ї—Б—П –≤—Л–µ—Е–∞—В—М, –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ.
–¶–∞—А—М —А–µ—И–Є–ї –љ–µ —В–µ—А—П—В—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–µ. –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –њ—А–Є–µ—Е–∞—В—М –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤, —В—Г–і–∞ –ґ–µ –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П —Б–∞–Љ —Ж–∞—А—М[66].
–Я–Њ –њ—Г—В–Є –Њ–љ –Њ–±–і—Г–Љ—Л–≤–∞–ї —А–∞–Ј–Љ–µ—А —Г—Б—В—Г–њ–Њ–Ї, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ–Њ–є—В–Є. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В—М—Б—П —З–µ–Љ-—В–Њ —Б—А–µ–і–љ–Є–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ —А–∞–љ—М—И–µ, –Є «–Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ –і–Њ–≤–µ—А–Є—П». «–°–Є–ї–Њ–≤—Л—Е» –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї —Ж–∞—А—М –±—Г–і–µ—В –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞—В—М —Б–∞–Љ, –њ—А–Њ—З–Є—Е –ґ–µ — –њ—А–µ–Љ—М–µ—А.
–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤—Г –≤—Л–µ—Е–∞—В—М –Є–Ј –Я—Б–Ї–Њ–≤–∞ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ –њ—Г—В–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Ї —В–∞–Ї–Њ–є –Ї—Г—Ж–µ–є –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є–Є. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ –і–∞–ґ–µ –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –і–ї—П —Б–µ–±—П —Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–µ–Ј–і[67]. –Э–∞–і–µ—П–ї–Є—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –Я—Б–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–µ—Е–∞—В—М –њ–Њ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –°–µ–ї–Њ.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –ґ–і–∞–ї–Є –±–µ–Ј–Њ—В—А–∞–і–љ—Л–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П.
–°—В–∞–≤–Ї–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–Њ–≤–µ—В–∞... –Є –±–Њ–ї—М—И–µ —З–µ–Љ –ґ–Є–Ј–љ—М
–Х—Й–µ 28 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –≤ 18.00 —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ—Л–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –°—В–∞–≤–Ї–Є —Б –У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —И—В–∞–±–Њ–Љ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞. –Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ: –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –Ф—Г–Љ—Л –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –≤–µ—А–љ—Г—В—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–≤—И–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤ –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ—Л. –Э–Њ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –∞–Ї—В –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞. –Э–∞–і–Њ —Б–њ–µ—И–Є—В—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ «–Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —А–∞–±–Њ—З–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–і—Л–Љ–µ—В —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–љ–∞–Љ—П –Є —Г—Б—В—А–∞–љ–Є—В –Ф—Г–Љ—Г»[68]. –≠—В–∞ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–∞ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –°—В–∞–≤–Ї–Є.
1 –Љ–∞—А—В–∞ –≤ 1.15, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–µ–Ј–і —Б—В–Њ—П–ї –≤ –Ь–∞–ї–Њ–є –Т–Є—И–µ—А–µ, –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Г —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –°–µ–ї–Њ. –Ю–љ–∞ –Є–Љ–µ–ї–∞ —Ж–µ–ї—М—О –Њ—Б–≤–µ–і–Њ–Љ–Є—В—М –і–Є–Ї—В–∞—В–Њ—А–∞, –∞ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П, –Њ–± –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Њ–±—А–∞–Ј –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є.
–Т —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ, –њ–Њ —З–∞—Б—В–љ—Л–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ, –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ. –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї. –Ь–Њ–љ–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Ј—Л–±–ї–µ–Љ—Л–Љ. –Т —Н—В–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, —З—В–Њ–±—Л –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–Є—Ж—Л, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Є–і—В–Є –њ—Г—В–µ–Љ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤[69].
–Т 13.55 –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤ —Б—В–∞–ї –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М —В–µ–Ї—Б—В —Н—В–Њ–є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞–Љ, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –Э.–Т. –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ[70].
–Т 15.55 –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ –≤ —И—В–∞–±–µ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –њ—А–Є–љ—П–ї–Є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞, –∞–і—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О (—А–∞–љ–µ–µ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–∞ –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –°–µ–ї–Њ, –љ–Њ –і–Њ –∞–і—А–µ—Б–∞—В–∞ –і–Њ–є—В–Є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞). –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П —Г–ґ–µ –њ–µ—А–µ–Ї–Є–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Ю–љ —Г–Љ–Њ–ї—П–ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Њ «–Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–µ –і–Њ–≤–µ—А–Є—П». –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –њ—А–Є–≤–µ–ї –љ–Њ–≤—Л–є, –Њ—З–µ–љ—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В: –µ—Б–ї–Є –Њ—В —Ж–∞—А—П –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г–µ—В –∞–Ї—В–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–Љ—Г —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є—О, «–≤–ї–∞—Б—В—М –Ј–∞–≤—В—А–∞ –ґ–µ –њ–µ—А–µ–є–і–µ—В –≤ —А—Г–Ї–Є –Ї—А–∞–є–љ–Є—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Є –†–Њ—Б—Б–Є—П –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–µ—В –≤—Б–µ —Г–ґ–∞—Б—Л —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є». –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї, —З—В–Њ —В–µ, –Ї—В–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–µ, —В. –µ. —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–Є –Є–Ј —Б–≤–Є—В—Л, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞, «–±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Њ –≤–µ–і—Г—В –†–Њ—Б—Б–Є—О –Ї –≥–Є–±–µ–ї–Є –Є –њ–Њ–Ј–Њ—А—Г –Є —Б–Њ–Ј–і–∞—О—В –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є». –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, –Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї –њ–Њ—Б–ї–∞—В—М –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г —Ж–∞—А—О[71].
–Т 16.55 –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –і–ї—П –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞: –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ — –±–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–Є, –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ — –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ, –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В[72].
–Т 17.40 –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–µ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–µ. –Ъ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Є «–Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –і–Њ–≤–µ—А–Є—П» –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –°–µ—А–≥–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З[73].
–Т 17.35 –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –†—Г—Б–Є–љ–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–ї–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ «–µ—Б—В—М –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–µ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л –Є –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Њ—Б–Њ–±—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г –Ї—А–∞–є–љ–Є—Е –ї–µ–≤—Л—Е —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–∞—А—В–Є–є –Є –°–Њ–≤–µ—В–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤»[74].
–Т 17.53 –†—Г—Б–Є–љ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Ж–∞—А—О –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ –∞–љ–∞—А—Е–Є—П, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–є—В–Є –Ф—Г–Љ–µ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г[75].
–Т 18.45 –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ: –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —А–∞–Ј–і–µ–ї—П–µ—В –ї–Є–љ–Є—О –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞[76].
–Т 19.36 –≤ –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤–µ –њ—А–Є–љ—П–ї–Є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Р.–Р. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞, –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –Ф–љ–Њ, –љ–Њ —Ж–∞—А—М —Г–ґ–µ —Г–µ—Е–∞–ї. –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П «–њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М —Б–≤–µ—А—И–Є–≤—И–Є–є—Б—П —Д–∞–Ї—В –Є –Љ–Є—А–љ–Њ <...> –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М –і–µ–ї–Њ»[77].
–Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –і–љ—П 1 –Љ–∞—А—В–∞ –°—В–∞–≤–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—Б—В—А–µ–≤–Њ–ґ–µ–љ–∞ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤–Њ–Љ –Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В —Б–≤–Њ—О, –Њ—В–ї–Є—З–љ—Г—О –Њ—В –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Є—В–µ—В–∞ –ї–Є–љ–Є—О.
–Т —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ (–≤ 20.45 –µ–µ —Б—В–∞–ї–Є —А–∞—Б—Б—Л–ї–∞—В—М –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞–Љ) –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –Њ–≥—А–∞–і–Є—В—М –∞—А–Љ–Є—О –Њ—В «–њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–≥–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П». –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞–ї—Б—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –≤–Љ–µ—И–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є. –Ю–љ –њ—А–µ—А–≤–∞–ї —Б–≤—П–Ј—М –°—В–∞–≤–Ї–Є —Б –¶–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –°–µ–ї–Њ–Љ –Є —Б —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М –ї–Є—В–µ—А–љ—Л–µ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞, –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б–љ—П—В—М –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –Ј–∞ –µ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є –Є —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –∞–≥–µ–љ—В–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞, –љ–∞–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Ј –Љ–ї–∞–і—И–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤, –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є—Е —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Л[78].
–Т –°—В–∞–≤–Ї–µ –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ, –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б—В—Г–њ–∞—В—М –љ–∞–±–Є—А–∞—О—Й–Є–Љ —Б–Є–ї—Г «–ї–µ–≤—Л–Љ —В–µ—З–µ–љ–Є—П–Љ», –∞ –љ–µ —В–Њ–є –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В–Є, –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —Б–≤—П–Ј—М –Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, —Е–Њ—В—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –Њ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–µ –≤ –љ–µ–і—А–∞—Е –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ —Г–ґ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–∞ –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤–∞.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –≤ —В–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–≥—А–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –ї–Є–і–µ—А—Л –≤–µ–ї–Є –≤ —В–µ —З–∞—Б—Л –Ј–∞ –њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Ю–ї–Є–Љ–њ–µ, –і–ґ–Њ–Ї–µ—А–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В –Є —Б–≤—П–Ј—М. –Т —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є 1 –Љ–∞—А—В–∞ –і–ґ–Њ–Ї–µ—А –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т–љ–∞—З–∞–ї–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–∞ –≤ –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–µ –њ—Г—В–µ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–∞—Б–Њ–љ—Г –Р.–Р. –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤—Г, –Љ–µ—Б—В–Њ –ґ–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –Њ—В–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Э.–Т. –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤—Г, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й—Г –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ «–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є».
–Ґ—А—Г–і–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –ї–Є –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї –У—А–µ–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞, –њ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ–Љ—Г —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Э–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Є —В–Њ, –љ–µ –±—Л–ї –ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А, –њ—А–Є–µ—Е–∞–≤—И–Є–є –љ–∞ –і—А–µ–Ј–Є–љ–µ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є—В—М —Ж–∞—А—П, —З—В–Њ –Ы—О–±–∞–љ—М –Є –Ґ–Њ—Б–љ–Њ –Ј–∞–љ—П—В—Л —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–∞–Љ–Є, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ –і–ї—П –і–µ–Ј–Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є. –Э–Њ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ —Б–Њ—А–≤–∞—В—М –≤—Б—В—А–µ—З—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Є –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —З–µ—В–Ї–Њ.
–С—Л–ї–Њ –±—Л –Њ—И–Є–±–Ї–Њ–є –і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є –°–Њ–≤–µ—В –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М —Б–і–µ–ї–Ї–Є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —Б —Ж–∞—А–µ–Љ. –Ґ–µ, –Ї—В–Њ –љ–µ –њ—Г—Б—В–Є–ї –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –Ф–љ–Њ, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ—А–Є–≤–µ–Ј –Њ—В —Ж–∞—А—П –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –µ–Љ—Г —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –і–Њ–≤–µ—А–Є—П –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ —Г—В—А–Њ–Љ 1 –Љ–∞—А—В–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї—Б—П —Б –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞, –Њ–љ –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї –≤ –°–Њ–≤–µ—В –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞, —З—В–Њ–±—Л —В–Њ—В –і–Њ–±–Є–ї—Б—П —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї—Г –Ї —Ж–∞—А—О.
–Ф–Њ 13.05 –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —З–µ—А–µ–Ј –°—В–∞—А—Г—О –†—Г—Б—Б—Г –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М –Ї –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –°–µ–ї—Г, –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –У.–Х. –Ы—М–≤–Њ–≤—Л–Љ –Є –°.–Ш. –®–Є–і–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —В—Г–і–∞ –ґ–µ[79]. –Э–Њ –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–µ–Ј–і –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М –љ–∞ –Я—Б–Ї–Њ–≤. –°–Њ–≤–µ—В, –љ–Є—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—П—Б—М —Б—Г—В—М—О –і–µ–ї–∞, –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—О –Ф—Г–Љ—Л. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ —П–≤–Є–ї—Б—П –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Є —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї –Є—Б—В–µ—А–Є–Ї—Г –Є–Ј-–Ј–∞ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –°–Њ–≤–µ—В —Б—Л–≥—А–∞–ї –љ–∞ —А—Г–Ї—Г –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —Б–љ–Њ–≤–∞, –њ—А–Њ–µ–Ј–і —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї–Є[80]. –Э–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Є–Љ —Г–ґ–µ –љ–µ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –≤ –Ь–∞–ї–Њ–є –Т–Є—И–µ—А–µ –≤ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–µ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Ф–љ–Њ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А—П –љ–∞ –Я—Б–Ї–Њ–≤ —Б–Њ—А–≤–∞–ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞–≤–Ї—Г —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Г, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–µ–Ј–і, –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —Н—И–µ–ї–Њ–љ–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ–Њ –Є –≥—А–∞—Д–Є–Ї —Б–Њ—А–≤–∞–љ. –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –ґ–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є —З–µ—А–µ–Ј —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –Ф–љ–Њ —Г—В—А–Њ–Љ 1 –Љ–∞—А—В–∞ —Б –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–Љ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ—В —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–Є–ї.
–Т –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ
–¶–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–µ–Ј–і –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤ 1 –Љ–∞—А—В–∞ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 19 —З–∞—Б–Њ–≤. –Х—Й–µ –≤ 17.20 –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Я—Б–Ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і –і–≤–Є–љ–µ—В—Б—П –љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і[81]. –Э–Њ –≤ 19.55 –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤ –Ы—Г–≥–µ –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ «–Ј–∞–і–µ—А–ґ–Ї–∞»[82]. –Т —З–µ–Љ –Њ–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞, –њ–Њ–Ї–∞ –µ—Й–µ –љ–Є–Ї—В–Њ —В–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї.
–Э–∞ –њ–µ—А—А–Њ–љ–µ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є. –≠—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ґ–Є–ї–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞, –≤ –Њ—З–Ї–∞—Е –Є –≥–∞–ї–Њ—И–∞—Е, –љ–∞–і–µ—В—Л—Е –љ–∞ —Б–∞–њ–Њ–≥–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ —Б—Л–≥—А–∞—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —А–Њ–ї—М.
–Я–Њ—В–Њ–Љ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є –≤ —Б–≤–Є—В–µ —Ж–∞—А—П –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–µ «–ї–Є—Б–∞», —В—А–Є–ґ–і—Л –њ–Њ-—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ «–њ–Њ–і–≤–Є–≥–µ». 7 –Љ–∞—А—В–∞ 1917 –≥. –≤ «–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П—Е» –±—Л–ї–Њ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Њ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –і–∞–ї –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В—Г –Т. –°–∞–Љ–Њ–є–ї–Њ–≤—Г. –Э–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В–∞, –њ—А–∞–≤–і–∞ –ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є–ї —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ–µ –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–Є–µ, —Г–±–µ–і–Є–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –љ–µ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞—В—М –Ї–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—О –љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї «—Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ» –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї: «–Х—Б–ї–Є —Г–ґ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ–± —Г—Б–ї—Г–≥–µ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –Љ–љ–Њ—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, —В–Њ –Њ–љ–∞ –і–∞–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —В–Њ–є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤—Л –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є –Љ–љ–µ —Б–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –≤–µ—Б—В—М <...> –Ъ–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ –і–ї—П —Г—Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є —Ж–∞—А—М –Љ–љ–µ –љ–µ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї –њ–Њ—Б—Л–ї–∞—В—М –њ–Њ —В–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ, —З—В–Њ —П —Г–±–µ–і–Є–ї –µ–≥–Њ –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞»[83].
14 –Є—О–љ—П 1917 –≥. –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–є—И–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–љ—П–Ј—О –Р–љ–і—А–µ—О –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З—Г –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Б–∞–Љ –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –Љ—Л—Б–ї–Є –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є, –∞ –Њ–љ, –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ, –ї–Є—И—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї –≤–Њ–ї—О —Ж–∞—А—П[84].
–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Њ—Б–µ–љ—М—О 1918 –≥. –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї –≤–Њ –≤—Б–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –°.–Э. –Т–Є–ї—М—З–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–љ–∞–±–і–Є–≤ —Б–≤–Њ–є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–є—И–Є–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є, –≤—Л–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј –Я—Б–Ї–Њ–≤–∞. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Н—В–Њ–є, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤—Б–µ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Є—Б—П—Й–µ–µ, —З—В–Њ–±—Л –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М —Б—В–∞–ї –ґ–µ—А—В–≤–Њ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –Є –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ[85]. –Ъ–∞–Ї —Г–≤–Є–і–Є–Љ –љ–Є–ґ–µ, –љ–Є –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —Н—В–Є—Е –≤–µ—А—Б–Є–є –љ–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–µ—В –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ. –Р –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї.
–Т—Б—В—А–µ—В–Є–≤ —Ж–∞—А—П, –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Ї—А–∞—В–Ї–Њ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –µ–Љ—Г –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г. –£–Ј–љ–∞–≤ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Є–µ—Е–∞—В—М –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Б–ї–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –њ—А–Є–љ—П—В—М –µ–≥–Њ –њ–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Г –Њ–± –Њ–±—Й–µ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –і–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–і–∞ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞. –Э–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–є –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ —П–≤–љ–Њ –љ–µ —В–Њ—А–Њ–њ–Є–ї—Б—П –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М –µ–≥–Њ –Ї —Ж–∞—А—О.
–Т 20.47 –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –њ–µ—А–µ—Б–ї–∞–љ–љ—Г—О –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ: «–І—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –Љ–љ–µ –≤—Л–µ—Е–∞—В—М, –Њ —З–µ–Љ –і–Њ–љ–Њ—И—Г –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г». –†–∞–љ–µ–µ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ—А–Њ—Б–Є–ї —Ж–∞—А—П –њ—А–Є–љ—П—В—М –µ–≥–Њ, –љ–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞—Б—М –Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –Т—Б—В—А–µ—З–Є –і–Њ–±–Є–≤–∞–ї—Б—П —Ж–∞—А—М, –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –ґ–µ –Њ—В –љ–µ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ «—З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞» –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–µ—В–∞–Љ–Њ—А—Д–Њ–Ј–µ.
–Ы–Є—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 22 —З–∞—Б–Њ–≤, –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ. –Ю–љ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Ж–∞—А—О, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є–µ –њ—А–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л –Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ — —Д–Є–Ї—Ж–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤ —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –ї—Г—З—И–µ –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —А–∞–і–Є –±–ї–∞–≥–∞ —Б—В—А–∞–љ—Л.
–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –Є —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–≤–Њ–µ –Ї—А–µ–і–Њ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Ж–∞—А—М –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є. –Я–Њ —Б—Г—В–Є –і–µ–ї–∞, —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–µ—Ж –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –њ–µ—А–µ–і –і–Є–ї–µ–Љ–Љ–Њ–є: –ї–Є–±–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М —В–Њ, —З—В–Њ —Г–ґ–µ —Б–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –≥–і–µ —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–Њ–≤–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М, –ї–Є–±–Њ –њ–Њ–њ—Л—В–∞—В—М—Б—П —Б–Є–ї–Њ–є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М –µ–µ.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є—Б—Е–Њ–і —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і—К–µ–Ј–ґ–∞–ї –Ї –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –°–µ–ї—Г, –±—Л–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –µ—Й–µ –љ–µ —П—Б–µ–љ. –Ф–∞ –Є —Б–∞–Љ –Њ–љ —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –≤ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —В—Г–і–∞ –ґ–µ[86]. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —А–µ—И–Є–ї –њ–Њ–є—В–Є –љ–∞ «–≥–Њ–Љ–µ–Њ–њ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ» —Г—Б—В—Г–њ–Ї–Є.
–Ю–Ї–Њ–ї–Њ 23.00 –Њ–љ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –µ–Љ—Г –њ–Њ—А—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є—В—М –љ–Њ–≤—Л–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В, –≤—Л–±—А–∞–≤ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї[87].
–Т —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤ –њ—А–Є—И–ї–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Њ—В –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є «—Г–Љ–Њ–ї—П–ї» –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –і–∞—А–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ. «–Я–Њ—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –і–∞—О—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П –љ–∞ —В–Њ, — –њ–Є—Б–∞–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤, — —З—В–Њ –і—Г–Љ—Б–Ї–Є–µ –і–µ—П—В–µ–ї–Є, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –µ—Й–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –≤—Б–µ–Њ–±—Й–Є–є —А–∞–Ј–≤–∞–ї <...> –љ–Њ —Г—В—А–∞—В–∞ –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —З–∞—Б–∞ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —И–∞–љ—Б—Л –љ–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –Є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є—П –Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Г –≤–ї–∞—Б—В–Є –Ї—А–∞–є–љ–µ –ї–µ–≤—Л–Љ–Є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є»[88].
–Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤ –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –°—В–∞–≤–Ї–Є –Э.–Р. –С–∞- –Ј–Є–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–Љ-–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–Њ–Љ –Р.–°. –Ы—Г–Ї–Њ–Љ—Б–Ї–Є–Љ —Г–ґ–µ –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —В–µ–Ї—Б—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–µ–і –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Я–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—П —В–µ–Ї—Б—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞, –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–Ї–ї–Є–љ–∞–ї —Ж–∞—А—П –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞—В—М –µ–≥–Њ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ.
–Т –°—В–∞–≤–Ї–µ –њ–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ —В–Њ—А–Њ–њ–Є–ї–Є—Б—М. –Э–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –Є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є —З–∞—Б–∞, –Ї–∞–Ї –Є–Ј –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤–∞ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є, –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –ї–Є –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П. –Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ 2 –Љ–∞—А—В–∞.
–Т 0.15 –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї –ґ–µ–љ–µ: «–Э–∞–і–µ—О—Б—М <...> —Б–Ї–Њ—А–Њ —Г–≤–Є–і–Є–Љ—Б—П»[89].
–Т 0.20 —Ж–∞—А—М –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Г –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –°–µ–ї–Њ: «–Я—А–Њ—И—Г –і–Њ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–і–∞ –Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –Љ–љ–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Љ–µ—А –љ–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М»[90]. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –≤ —Н—В—Г –Љ–Є–љ—Г—В—Г –Њ–љ –≤—Б–µ –µ—Й–µ –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П –≤—Л–µ—Е–∞—В—М –Є–Ј –Я—Б–Ї–Њ–≤–∞ –Ї —Б–µ–Љ—М–µ. –Э–Њ –≤ 0.50 –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ –Ы—Г–≥–Є –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Є –ї–Є—В–µ—А–љ—Л–є –њ–Њ–µ–Ј–і, —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Є —Н—И–µ–ї–Њ–љ—Л, –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ—Л–µ —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Г, –љ–Њ –Я—Б–Ї–Њ–≤–∞ –µ—Й–µ –љ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥—И–Є–µ, –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–Њ–є—В–Є —З–µ—А–µ–Ј –ї—Г–ґ—Б–Ї–Є–є —А—Г–±–µ–ґ[91].
–Т 1.06 –Э.–Т. –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤, –Ї—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –ї—Г–ґ—Б–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г, —З—В–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–µ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –Њ—В–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞[92].
–Т 1.20 —Ж–∞—А—М —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П –≤–µ—А–љ—Г—В—М –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–µ–Љ—Л–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Г –њ–Њ –њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О, –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–∞ –Є—Е –і–Є—Б–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –і–Њ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–љ–Є —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –і–Њ–µ—Е–∞—В—М —З–µ—А–µ–Ј –Ы—Г–≥—Г[93].
–Ю–Ї–Њ–ї–Њ 2 —З–∞—Б–Њ–≤ –љ–Њ—З–Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Є –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Ж–∞—А—М —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–≤–Њ–і—Г —В–µ–Ї—Б—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –Њ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ф—Г–Љ—Л[94].
–Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –і–љ—П 1 –Љ–∞—А—В–∞ –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ —Ж–∞—А—М –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї —В–∞–Ї: «–У–∞—В—З–Є–љ–∞ –Є –Ы—Г–≥–∞ —В–Њ–ґ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–љ—П—В—Л–Љ–Є. –°—В—Л–і –Є –њ–Њ–Ј–Њ—А! –Ф–Њ–µ—Е–∞—В—М –і–Њ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–µ–ї–∞ –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М. –Р –Љ—Л—Б–ї–Є –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П —В–∞–Љ! –Ъ–∞–Ї –±–µ–і–љ–Њ–є –Р–ї–Є–Ї—Б, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М, —В—П–≥–Њ—Б—В–љ–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞—В—М –≤—Б–µ —Н—В–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П! –Я–Њ–Љ–Њ–≥–Є –љ–∞–Љ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М!»[95]
«–†–Њ–і–Є–ї–∞ —Ж–∞—А–Є—Ж–∞ –≤ –љ–Њ—З—М –љ–µ —В–Њ —Б—Л–љ–∞, –љ–µ —В–Њ –і–Њ—З—М»
–Ґ–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М — –≤–µ–ґ–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–є. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –±—Л–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Ї–Њ—А–Њ–ї—М: –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В–Њ –≤–µ–ґ–ї–Є–≤, –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–µ–љ, —В–Њ—З–µ–љ. –Э–Њ –≤–Њ—В –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Н—В–Њ—В –Ї–Њ—А–Њ–ї—М –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ј–∞–њ–∞–Ј–і—Л–≤–∞–ї.
1 –Љ–∞—А—В–∞ 1917 –≥. –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –µ–Љ—Г —Б—В–Њ–Є–ї–Њ –Ї–Њ—А–Њ–љ—Л.
–Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –≤ —Б–∞–ї–Њ–љ–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ —Г–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –і–∞—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ, –≤ –Ф—Г–Љ–µ, –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї—Б—П «–њ–µ—А–≤—Л–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В».
–Ґ–Њ, –љ–∞ —З—В–Њ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —З–∞—Б—Г –љ–Њ—З–Є –љ–∞ 2 –Љ–∞—А—В–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Ж–∞—А—М, –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Њ —В–∞–Ї: «–ѓ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ј–≤–∞—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–µ—А–µ–і –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ, –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є–≤ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –Є–Ј –ї–Є—Ж, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—Й–Є—Е—Б—П –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ–Љ –≤—Б–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л»[96].
–Я—А–Є –≤—Б–µ–є –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Л, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –ї—Г—З—И–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Є —З–∞—Б—Л —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ «–њ–µ—А–≤—Л–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В» –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ: –±—Г–і–µ—В –ї–Є –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –њ–µ—А–µ–і –Ї–µ–Љ — —Н—В–Њ—В –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –і–∞–ґ–µ –љ–µ —Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ —В–µ —З–∞—Б—Л.
–Т—Л–Ї–Є–і—Л—И, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–∞ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–ґ–∞—Б–љ–µ–µ —В–Њ–≥–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–Њ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, —П–Ї–Њ–±—Л –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А–µ–Љ –°–∞–ї—В–∞–љ–Њ–Љ.
–Ф—Г–Љ–∞ –Є –°–Њ–≤–µ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Є –љ–∞ —Б–≤–µ—В –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є—Б—П –љ–Є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –љ–Є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ, —В–Њ –µ—Б—В—М –Њ–љ –љ–µ –±—Л–ї –≤–њ–Є—Б–∞–љ –љ–Є –≤ —В—Г, –љ–Є –≤ –і—А—Г–≥—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–ї—Б—П –Ы–µ–≤–Є–∞—Д–∞–љ-—Г—А–Њ–і–µ—Ж, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –Є –і–µ–≤—П—В–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤.
«–Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, — –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –њ–Њ—В–Њ–Љ –У—Г—З–Ї–Њ–≤, — –≤–Є—Б–µ–ї–Њ –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ, –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г –њ—Г—Б—В–Њ—В–∞, –≤–љ–Є–Ј—Г –±–µ–Ј–і–љ–∞. –°–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –∞–Ї—В–∞ –Ј–∞—Е–≤–∞—В–∞, —Б–∞–Љ–Њ–Ј–≤–∞–љ—Б—В–≤–∞»[97]. –Р –≤–µ–і—М —Н—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Ј–≤–∞–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г –Є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–Њ–≤, –Є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤.
–Я–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Ж–∞—А—М –Є–Ј—К—П–≤–Є–ї —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤—А—Г—З–Є—В—М –µ–Љ—Г –Њ–±—И–Є—А–љ—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М, –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є —Б—В—А–∞–љ—Г –Є–Ј –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞, –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –ї–Є—И–Є–ї—Б—П –і–∞–ґ–µ —В–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞.
–Х—Б–ї–Є –±—Л –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞, –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –±—Л —З–µ—А–µ–Ј –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–∞–ї–∞—В—Л — –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –і—Г–Љ—Г –Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞. –Э–Њ –і–µ–ї–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї «–Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –і–Њ–≤–µ—А–Є—П» —Г–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В —Б —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –≤–∞—А–Є–∞—Ж–Є—П–Љ–Є —Ж–Є—А–Ї—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤ «–њ–Њ–ї—Г—Ж–Є—А–Ї—Г–ї—М–љ—Л—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е».
–†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ, –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞ –±–ї–∞–љ–Ї–µ –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М. –°–њ–Є—Б–Њ–Ї, –љ–∞ —В—А–Є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є «—Ж–Є—А–Ї—Г–ї—М–љ—Л–є», —З–µ—А–µ–Ј –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–∞–ї–∞—В—Л –±—Л –љ–µ –њ—А–Њ—И–µ–ї. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –љ–µ –њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Ї —Ж–∞—А—О, –љ–∞—Е–Њ–і—П –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л, —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –°–µ–ї–µ —Б –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–∞–ї–∞—В–∞–Љ–Є, –љ–µ–њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ–Є. –•–Њ—В–µ–ї–Є –Њ–±–Њ–є—В–Є—Б—М –±–µ–Ј –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Є –±–µ–Ј —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ.
–°–Њ–±—Л—В–Є—П 28 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –Є 1 –Љ–∞—А—В–∞ —В–∞–Ї—Г—О –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є. –Т —Н—В–Є –і–љ–Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –≤–µ–ї –Њ—В—З–∞—П–љ–љ—Г—О –±–Њ—А—М–±—Г —Б –°–Њ–≤–µ—В–Њ–Љ –Ј–∞ –∞—А–Љ–Є—О. –С–Њ—А—М–±—Г –Њ–љ –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–ї. –У–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –°–Њ–≤–µ—В–∞, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ–ї–µ–µ. –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –ґ–µ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —Н—В–Њ–є —Б—Е–≤–∞—В–Ї–µ –Є –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј –љ–µ–µ —Б —А–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є–µ–є —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–∞, –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ —А–Њ–ї—М –ї–Є–і–µ—А–∞ –љ–Њ–≤–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є.
–Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ 1 –Љ–∞—А—В–∞ –Э.–Э. –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –њ—А–Є–љ–µ—Б –≤ –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В, –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –µ–Љ—Г –љ–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —В—А–Є—Г–Љ—Д–∞—В–Њ—А–Њ–Љ, «–∞ –ґ–∞–ї–Ї–Є–Љ –≤–Њ–Ј–љ–Є—Ж–µ–є, —В–µ—А—П—О—Й–Є–Љ –≤–Њ–ґ–ґ–Є»[98]. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В, —Б—В–∞–≤—И–Є–є —Г–ґ–µ –љ–µ–љ—Г–ґ–љ—Л–Љ, –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –Я.–Э. –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤—Г, —Г—Б–њ–µ–≤—И–µ–Љ—Г –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є—В—М –≤–Њ–ґ–ґ–Є.
–Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –і–Њ–≤–µ—А–Є—П, –љ–Њ –Ї «–њ–Њ–ї—Г—Ж–Є—А–Ї—Г–ї—М–љ—Л–Љ» –Ї—А—Г–≥–∞–Љ –љ–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї, —Е–Њ—В—П –Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї—Б—П —В—Г–і–∞. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞–ї –ї–Є–і–µ—А–Њ–Љ 1 –Љ–∞—А—В–∞, –љ–Њ –≤ —Б–њ–Є–љ—Г –µ–Љ—Г —Г–ґ–µ –і—Л—И–∞–ї –Р.–§. –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Є –µ–≥–Њ «–њ–Њ–ї—Г—Ж–Є—А–Ї—Г–ї—М–љ–∞—П» –≥—А—Г–њ–њ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤—Л–ґ–Є–і–∞–ї–∞ —Г–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Ї—Г –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤—Г –Є –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є—В—М —Н—Б—В–∞—Д–µ—В—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Г–њ–∞–і–µ—В.
–Т –љ–Њ—З—М –љ–∞ 2 –Љ–∞—А—В–∞ –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —Б–Њ—И–ї–Є—Б—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Є –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞–Љ–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞. –Ю–±–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ «–ї–µ–і –Є –њ–ї–∞–Љ–µ–љ—М».
–Ъ–∞–Ї –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –С.–Р. –≠–љ–≥–µ–ї—М–≥–∞—А–і—В, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–≤—И–Є–є –Т–Њ–µ–љ–љ—Г—О –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О –°–Њ–≤–µ—В–∞:
«–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –±–Њ—А—М–±–∞ —Б–Њ —Б—В–∞—А–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В—М—О –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–±–µ–і–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є <...> –≤ —А–µ—З–∞—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –°–Њ–≤–µ—В–∞ <...> –њ–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М –љ–Њ–≤—Л–µ –љ–Њ—В–Ї–Є, –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В <...> –Є –°–Њ–≤–µ—В –Ј–∞—Б–µ–і–∞–ї–Є –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞—Е –Є –Љ–∞–ї–Њ –Њ–±—Й–∞–ї–Є—Б—М –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є, –љ–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –Ї–∞–Ї –±—Л –µ–і–Є–љ—Л–є —Д—А–Њ–љ—В, –±–Њ—А—О—Й–Є–є—Б—П —Б–Њ —Б—В–∞—А–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В—М—О. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ–Є –Њ–±–Њ—Б–Њ–±–Є–ї–Є—Б—М –≤ –і–≤–∞ –≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ—Л—Е –ї–∞–≥–µ—А—П, –≥–Њ—В–Њ–≤—Л—Е –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ –±–Њ—А—М–±—Г –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є»[99].
–Т –њ–Њ–ї–љ–Њ—З—М 1 –Љ–∞—А—В–∞ –Є–Љ –±—Л–ї–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Г —Б–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –°—Г—В—М —Н—В–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Л –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞, –±–µ—А–µ—В –љ–∞ —Б–µ–±—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –°–Њ–≤–µ—В –ґ–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–Њ–Љ –і–∞–µ—В «–і–Њ–±—А–Њ» –љ–∞ –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ.
–Э–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Њ–і–Є–љ –њ—Г–љ–Ї—В –≤ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –°–Њ–≤–µ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М—Б—П.
–°–Њ–≤–µ—В —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П—Е, –љ–Њ —З–ї–µ–љ—Л –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–∞ –њ–Њ—З–≤–µ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є —Б –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М—Б—П –љ–µ —Г–і–∞—Б—В—Б—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ–Є –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї–Є —В–∞–Ї—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Г: –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–Ј–Њ–≤–µ—В –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В –±—Г–і—Г—Й—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Э–Њ –і–Њ —Н—В–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —И–∞–≥–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–і—А–µ—И–∞–ї–Є –±—Л –±—Г–і—Г—Й—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П[100].
–° —Н—В–Є–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤. –Ю–љ —П—А–Њ –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –Ј–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ–Є, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –ї–Є—И—М –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П.
–Т–Њ–Њ–±—Й–µ, –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В—Г –њ–Њ–ї–љ–Њ–≤–ї–∞—Б—В–љ—Л–є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є –±—Л–ї –љ–µ –љ—Г–ґ–µ–љ, –љ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї—Л –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, —И–∞–њ–Ї—Г –Ь–Њ–љ–Њ–Љ–∞—Е–∞, –њ–Њ–і —Б–µ–љ—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤—Б–µ–є –њ–Њ–ї–љ–Њ—В–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј —А—Г–Ї –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е —Е–Њ—В–µ–ї –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –≤–ї–∞—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г–ґ–µ –њ–Њ—З—В–Є –±—Л–ї–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ.
–Я—А–Є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ, –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–Љ –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ, —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є—З–љ—Л–Љ. –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є –ґ–µ –њ–Њ–Ї–∞ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї –Є, —З—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, «–Љ–Њ—В–∞–ї –љ–∞ —Г—Б». –Т —А–∞–Ј–≥–∞—А —Б–њ–Њ—А–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –Є –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—З—В–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ –њ—А–µ—В–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –ї–Є—И—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ–Њ–Љ—Г –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г, —З—В–Њ–±—Л –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–Љ.
«–Ф–Є–љ–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —А–µ–±—А–Њ–Љ»
–Я–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М 2 –Љ–∞—А—В–∞ –≤ 2.30 –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є—Б—М –і–≤–∞ —З–∞—Б–∞.
–Я–µ—А–≤–Њ–µ, —З—В–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є, –±—Л–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –љ–µ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –љ–∞ –≤—Б—В—А–µ—З—Г —Б —Ж–∞—А–µ–Љ. –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –Є—Б—В–Є–љ–љ—Г—О –њ—А–Є—З–Є–љ—Г «—Б –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О».
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї. –Ю–љ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –і–≤–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л.
–Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –≤—Л—Б–ї–∞–љ–љ—Л–µ —Б –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤–Ј–±—Г–љ—В–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Т—Л–ї–µ–Ј–ї–Є –≤ –Ы—Г–≥–µ –Є–Ј –≤–∞–≥–Њ–љ–Њ–≤, –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–Є —Б–µ–±—П –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –Ї –Ф—Г–Љ–µ, —Б—В–∞–ї–Є –Њ—В–љ–Є–Љ–∞—В—М –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є —А–µ—И–Є–ї–Є «–љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М, –і–∞–ґ–µ –ї–Є—В–µ—А–љ—Л–µ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞». –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —Г–≤–µ—А—П–ї, —З—В–Њ –њ—А–Є–љ—П–ї –Љ–µ—А—Л, —З—В–Њ–±—Л —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–µ–Ј–і –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є, –љ–Њ –Ј–∞ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –љ–µ —А—Г—З–∞–ї—Б—П. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ї—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –ї–Є—В–µ—А–љ—Л–µ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –Є–Ј –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞ –Є —З—В–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –±—Л –Э.–Т. –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤, –љ–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –≤ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А—Л –њ—Г—В–µ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.
–Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–і «–Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–≤–ї–µ—З—М –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П». –≠—В–Њ –±—Л–ї –љ–∞–Љ–µ–Ї –љ–∞ –њ–Њ–і–Ї–Њ–≤–µ—А–љ—Г—О –±–Њ—А—М–±—Г –≤–Њ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–µ. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —Г–≤–µ—А—П–ї, —З—В–Њ –±–µ–Ј –µ–≥–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П «–љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —А–∞–Ј–±—Г—И–µ–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ —Б—В—А–∞—Б—В–Є», —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –≤–µ—А—П—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–Љ—Г –Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—О—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–њ—А–∞–≤–і–∞.
–Х—Б–ї–Є –±—Л –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, —В–Њ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ –Ы—Г–≥–Є, –њ–µ—А–µ—И–µ–і—И–Є–є –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –±—Л –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М –ї–Є—В–µ—А–љ—Л–µ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ —З–µ—А–µ–Ј —Н—В—Г —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О. (–Я—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ –≤ —Б–ї–Њ–≤–∞—Е –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤—Г, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –і–Њ–≤–µ—А—П—В—М —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Њ –Ы—Г–≥–µ, –Є–±–Њ —Г–ґ–µ 1 –Љ–∞—А—В–∞ –Њ–љ –Є–Љ–µ–ї —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –Ы—Г–≥–∞ –Ј–∞–љ—П—В–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–Љ–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М —З–µ—А–µ–Ј –Ы—Г–≥—Г –ї–Є—В–µ—А–љ—Л–µ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞[101].)
–†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, —З—В–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Б—В–∞–≤–Є—В –µ–≥–Њ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–∞—А—Г–µ—В—Б—П, –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М —В–µ–Ї—Б—В –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л–Њ–љ –±—Л–ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ —Б –њ–Њ–Љ–µ—В–Њ–є «–Я—Б–Ї–Њ–≤». –Т –Њ—В–≤–µ—В –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є—Г—Б–ї—Л—И–∞–ї, —З—В–Њ –љ–Є —Ж–∞—А—М, –љ–Є –Њ–љ –љ–µ –Њ—В–і–∞—О—В —Б–µ–±–µ –Њ—В—З–µ—В–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ: «–Э–∞—Б—В–∞–ї–∞ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —Б—В—А–∞—И–љ–µ–є—И–Є—Е —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–є». –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –≤–Ј—П—В—М –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є, –љ–Њ —Н—В–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М. –Т —Б–Ї–Њ—А–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–љ —Б–∞–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є—П –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ –≤—Б–µ, —З—В–Њ —Г–Љ–µ—А–µ–љ–Њ –Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Њ –≤ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е. –Ю—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ. «–Ф–Є–љ–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —А–µ–±—А–Њ–Љ». –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –ґ–µ –≤–Є–і–µ –љ–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞? –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: «–У—А–Њ–Ј–љ–Њ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Б—Л–љ–∞ –њ—А–Є —А–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞».
–Ф–ї—П –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —Ж–∞—А–µ–Љ –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–≤—И–Є–Љ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ.
«–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –љ–∞–є—В–Є —В–∞–Ї–Њ–є –≤—Л—Е–Њ–і, — –Ј–∞—П–≤–Є–ї –Њ–љ, — –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–∞–ї –±—Л –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ–µ —Г–Љ–Є—А–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ». –Т–Њ–є—Б–Ї–∞, –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ—Л–µ —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П. –¶–∞—А—М –і–µ–ї–∞–µ—В –≤—Б–µ –і–ї—П —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П. –Ч–∞—В–µ–Љ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї —В–µ–Ї—Б—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞. –Ґ—Г—В –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ: «–ѓ —Б–∞–Љ –≤–Є—И—Г –љ–∞ –≤–Њ–ї–Њ—Б–Ї–µ, –Є –≤–ї–∞—Б—В—М —Г—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–∞–µ—В —Г –Љ–µ–љ—П –Є–Ј —А—Г–Ї». –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –њ—А–∞–≤–і–∞.
«–Р–љ–∞—А—Е–Є—П –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В —В–∞–Ї–Є—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤, —З—В–Њ —П –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–Њ—З—М—О –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є—В—М –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ»; —В–Њ –µ—Б—В—М –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —Е–Њ—В–µ–ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: —В–Њ, —З—В–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —А–µ—И–Є–ї –љ–∞–Љ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В—М, –Љ—Л —Г–ґ–µ —Б–∞–Љ–Є –≤–Ј—П–ї–Є –±–µ–Ј –µ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В «–Ј–∞–њ–Њ–Ј–і–∞–ї», «–≤—А–µ–Љ—П —Г–њ—Г—Й–µ–љ–Њ –Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ –љ–µ—В». –≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ: –µ—Б–ї–Є –±—Л —Ж–∞—А—М –і–∞–ї –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ
26 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П, —В–Њ –≤—Б–µ –±—Л –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –Њ–±–Њ—И–ї–Њ—Б—М. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –ґ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–ї–∞—Б—В—М —Б–∞–Љ–∞ –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –Ї –љ–∞–Љ –≤ —А—Г–Ї–Є, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Г–ґ–µ –Є –љ–µ –љ—Г–ґ–µ–љ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –Љ–Њ–ї–Є—В –С–Њ–≥–∞, —З—В–Њ–±—Л –і–∞–ї —Б–Є–ї «—Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П —Е–Њ—В—П –±—Л –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е —В–µ–њ–µ—А–µ—И–љ–µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ —Г–Љ–Њ–≤ <...> –љ–Њ –±–Њ—О—Б—М, –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Е—Г–ґ–µ».
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Б —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞. –Ю–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –љ–∞—Б–Є–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Њ–є—В–Є –±–µ—Б—Б–ї–µ–і–љ–Њ. «–Х—Б–ї–Є –∞–љ–∞—А—Е–Є—П –њ–µ—А–µ–Ї–Є–љ–µ—В—Б—П –≤ –∞—А–Љ–Є—О, — –њ—Г–≥–∞–ї –Њ–љ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, — –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–є—В–µ, —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В —В–Њ–≥–і–∞ —Б –†–Њ–і–Є–љ–Њ–є –љ–∞—И–µ–є?» –Т–µ–і—М –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–∞—П —Ж–µ–ї—М –Њ–і–љ–∞ — «–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ». –Я–µ—А–µ–Љ–µ–љ—Л –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—М «–љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ», –±–µ–Ј –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є–є.
–†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Њ —В–µ—Е, –Ї–Њ–Љ—Г –≤ —А—Г–Ї–Є —Б–Њ—Б–Ї–∞–ї—М–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –≤–ї–∞—Б—В—М –Њ—В –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –∞ –Њ–љ, –Є–і—П –љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ —Е–Њ—В–µ–ї —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М «–±–µ–Ј –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П», —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤–ї–∞—Б—В—М —Н—В—Г –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —А—Г–Ї–∞—Е, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –Љ–Є—А–Є—В—М—Б—П —Б «–∞–љ–∞—А—Е–Є–µ–є» –Є «—А–∞—Б—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ–Љ —Г–Љ–Њ–≤».
–†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞–ї –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ: «–њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–є –Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –±–µ–Ј–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е». –Ґ–Њ–≥–і–∞ «–≤—Б–µ —А–µ—И–Є—В—Б—П –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є». –Ш «–≤–Є—Б—П—Й–Є–є –љ–∞ –≤–Њ–ї–Њ—Б–Ї–µ», —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М «—Г—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–∞–ї–∞ –Є–Ј —А—Г–Ї», –Ј–∞—П–≤–Є–ї: «–Э–Є –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–Є–є, –љ–Є –љ–µ–љ—Г–ґ–љ—Л—Е –ґ–µ—А—В–≤ <...> —П <...> –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Й—Г».
–Э–∞–њ—А–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Л –Њ–±–≤–Є–љ—П–ї–Є –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П. –Ф–∞ –Є —Б–∞–Љ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –і–љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Г–Ї—А–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Н—В–Є–Љ «–њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–Љ»[102]. –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –і–∞–ї–µ–µ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –љ–µ —И–µ–ї –Є –Ї –Љ—Л—Б–ї–Є –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є –Њ—В–љ–µ—Б—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ.
–†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–њ—А–Њ—Б–Є–ї –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –ї–Є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–љ —Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї «–љ–µ—В», –Є –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї —Г–Ї–ї–Њ–љ—З–Є–≤–Њ: –≤—Б–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ї–µ—В—П—В —Б –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–Ї—А—Г–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –±—Л—Б—В—А–Њ—В–Њ–є. –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –Њ–љ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л —Б—Л–≥—А–∞—В—М –µ–Љ—Г –љ–∞ —А—Г–Ї—Г, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –±—Л —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –±–µ–Ј –µ–≥–Њ —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–Є.
–†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –±—Л–ї –њ—А–∞–≤ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М —Г—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–∞–ї–∞ –Є–Ј –µ–≥–Њ —А—Г–Ї. –Т —А—Г–Ї–Є –ґ–µ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –µ–≥–Њ –љ–µ –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є, –≤ —Н—В—Г –љ–Њ—З—М –≤–ї–∞—Б—В—М –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї–∞. –І–ї–µ–љ—Л –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞ –µ–µ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ–± –∞–љ–∞—А—Е–Є–Є –Є —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ —Г–Љ–Њ–≤ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ—З—В–Є —Г–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –≤ –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–∞—Е[103].
–†–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї—Б—П –≤ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ —И–µ—Б—В–Њ–≥–Њ —Г—В—А–∞. –£–ґ–µ –≤ 5.30 –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –≤ –°—В–∞–≤–Ї—Г –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞[104].
–Э–Њ –µ—Й–µ —А–∞–љ—М—И–µ, –≤ 5.25, –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Ж–∞—А—М —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –Њ–± –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–µ, –њ–Њ–Љ–µ—В–Є–≤ –µ–≥–Њ –Я—Б–Ї–Њ–≤–Њ–Љ[105].
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Г–ґ–µ –≤ 5.30 –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤—Г –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –≤ –°—В–∞–≤–Ї—Г, —З—В–Њ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –≤ 10 —З–∞—Б–Њ–≤ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Б –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –±—Л–ї–Њ –±—Л –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–є –љ–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –±–µ–Ј —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Ж–∞—А—П[106]. –Ш—В–∞–Ї, —А–µ—И–∞—В—М –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —Б–∞–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ —Г–Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ «–і–Є–љ–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —А–µ–±—А–Њ–Љ», –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 9.00 –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї —А–∞–Ј–±—Г–і–Є—В—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Є –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –µ–Љ—Г –Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Б –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, «–Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–≤ –≤—Б—П–Ї–Є–µ —Н—В–Є–Ї–µ—В—Л»[107].
–У–µ–љ–µ—А–∞–ї –Р.–°. –Ы—Г–Ї–Њ–Љ—Б–Ї–Є–є, –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–≤—И–Є–є —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–Т. –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤—Г, –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї, —З—В–Њ –≤—Л–±–Њ—А–∞ –љ–µ—В –Є –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В—М—Б—П. «–Э–∞–і–Њ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, — –Ј–∞—П–≤–Є–ї –Њ–љ, — —З—В–Њ –≤—Б—П —Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П —Б–µ–Љ—М—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Љ—П—В–µ–ґ–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, –Є–±–Њ –њ–Њ <...> –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ, –і–≤–Њ—А–µ—Ж –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –°–µ–ї–µ –Ј–∞–љ—П—В –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є. –Х—Б–ї–Є —Ж–∞—А—М –Њ—В–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —В–Њ, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і—Г—В –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–µ —Н–Ї—Б—Ж–µ—Б—Б—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Г–і—Г—В —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—В—М —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –і–µ—В—П–Љ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –љ–∞—З–љ–µ—В—Б—П –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞»[108]. –Ы—Г–Ї–Њ–Љ—Б–Ї–Є–є –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –Ј–љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї—Г—О —Б–Є–ї—Г –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П —Н—В–Њ—В –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В –Њ –ґ–µ–љ–µ –Є –і–µ—В—П—Е-–Ј–∞–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞—Е.
–Э–Њ –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ –љ–µ —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—А–Њ—В—М –≥–Њ—А—П—З–Ї—Г. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г–µ—В. –Э–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –±–Њ—П–ї—Б—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –Љ–∞—П—В–љ–Є–Ї –Ї–∞—З–љ–µ—В—Б—П –≤–ї–µ–≤–Њ, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –Њ–і–љ–Є–Љ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —А–∞–љ–µ–µ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ, —Г–ґ–µ –љ–µ –Њ—В–і–µ–ї–∞–µ—И—М—Б—П.
–Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ –љ–µ —Б—В–∞–ї –і–Њ–ґ–Є–і–∞—В—М—Б—П, –њ–Њ–Ї–∞ —Ж–∞—А—П —А–∞–Ј–±—Г–і—П—В –Є —В–Њ—В «–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—Б—П», –Є –≤ 8.52 –Њ–љ –љ–∞—З–∞–ї –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ.
«–ѓ –≥–Њ—В–Њ–≤ –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П»
–Т10 —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞—Е –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ —Б –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ. –У–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞ —Б—В–Њ–ї –њ–µ—А–µ–і —Ж–∞—А–µ–Љ –Ј–∞–њ–Є—Б—М —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –±—Л–ї —Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ. «–Х—Б–ї–Є –љ–∞–і–Њ, —З—В–Њ–±—Л —П –Њ—В–Њ—И–µ–ї –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –і–ї—П –±–ї–∞–≥–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —П –≥–Њ—В–Њ–≤ –љ–∞ —Н—В–Њ, — —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М. — –Э–Њ —П –Њ–њ–∞—Б–∞—О—Б—М, —З—В–Њ –љ–∞—А–Њ–і —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–є–Љ–µ—В».
–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї: —Б—В–∞—А–Њ–Њ–±—А—П–і—Ж—Л –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В—П—В, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В –Ї–ї—П—В–≤–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –і–∞–ї –≤ –і–µ–љ—М –Ї–Њ—А–Њ–љ–∞—Ж–Є–Є, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є –Њ–±–≤–Є–љ—П—В –µ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –±—А–Њ—Б–Є–ї —Д—А–Њ–љ—В. –¶–∞—А—М —А–∞—Б—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л–Є—Б–Ї–Є–≤–∞—П –Љ–∞–ї–µ–є—И—Г—О –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В—М—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–Њ–Љ –Њ–± –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–µ[109].
–Т —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є —Ж–Є—А–Ї—Г–ї—П—А–љ—Г—О —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞, —А–∞–Ј–Њ—Б–ї–∞–љ–љ—Г—О –≤—Б–µ–Љ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞–Љ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ—Б–µ–≤—Г –≤ 10.15[110].
–Ш–Ј–ї–Њ–ґ–Є–≤ —Б—Г—В—М —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ —В–∞–Ї –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ —Б–≤–Њ–є –≤—Л–≤–Њ–і: –≤ –≤–Њ–є–љ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ «–њ—А–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Б—Л–љ–∞ –њ—А–Є —А–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞». –Ю–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В, –µ–≥–Њ –љ–∞–і–Њ –њ—А–Є–љ—П—В—М —Б—А–Њ—З–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ «–Ї–∞–ґ–і–∞—П –Љ–Є–љ—Г—В–∞ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є–є –њ–Њ–≤—Л—Б–Є—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є—В—П–Ј–∞–љ–Є—П».
–Э–∞–і–Њ –Є–Љ–µ—В—М –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –∞—А–Љ–Є–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М –µ–µ –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞, –Њ–љ –ґ–µ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г–µ—В –Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є. –Э–∞–і–Њ —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М –∞—А–Љ–Є—О –Њ—В —А–∞–Ј–≤–∞–ї–∞, –Њ—В—Б—В–Њ—П—В—М –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —Б—Г–і—М–±—Г –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є. –†–∞–і–Є —Н—В–Є—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е —Ж–µ–ї–µ–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М «–і–Њ—А–Њ–≥—Г—О —Г—Б—В—Г–њ–Ї—Г», —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є –≤ –ґ–µ—А—В–≤—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞–Љ, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї—П—О—В —В–∞–Ї–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –≤—Б–µ–њ–Њ–і–і–∞–љ–љ–µ–є—И—Г—О –њ—А–Њ—Б—М–±—Г –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї «—Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є –Є —Ж–µ–ї–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ–Є», —З—В–Њ–±—Л —Б–њ–∞—Б—В–Є –∞—А–Љ–Є—О –Њ—В –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є–є –Є «–Є–Ј–Љ–µ–љ—Л –і–Њ–ї–≥—Г».
–Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В—К–µ–Ј–і–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Є–Ј –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤–∞ –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї—Б—П –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є, –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –µ–Љ—Г –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Є –≤ –Њ—З–µ–љ—М –Љ—П–≥–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –і–∞–≤–∞–ї –њ–Њ–љ—П—В—М, —З—В–Њ, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—П—В—Б—П —Б –љ–Є–Љ, —Н—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Є–Ј–Љ–µ–љ–∞ –і–Њ–ї–≥—Г.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј—Г—П —Н—В–Њ—В «–њ–ї–µ–±–Є—Б—Ж–Є—В» –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–Њ–≤, –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—О –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –ї—О–±–Њ–є —Ж–µ–љ–Њ–є —Г –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤—Л—Б—И–Є–є –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Є—В–µ—В. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Є—Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –љ–∞ –Њ–њ—А–Њ—Б –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–Њ–≤, –љ–Њ, –њ–Њ—Б—Л–ї–∞—П —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ—Г, —П—Б–љ–Њ –і–∞–≤–∞–ї –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, –Ї—В–Њ –±—Л–ї –≤ –∞—А–Љ–Є–Є —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В.
–І—В–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –і–µ–ї–∞—В—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –≤ —Н—В–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є? –Ю–љ —А–µ—И–Є–ї –і–Њ–ґ–і–∞—В—М—Б—П –Њ—В–≤–µ—В–Њ–≤ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–Њ–≤ –Є –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Є–і—Г—В –Є—Е –Њ—В–≤–µ—В—Л.
–Х—Б–ї–Є –≤–µ—А–Є—В—М –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И–Є–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–Љ –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —В–Њ –Є –Њ–љ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ —З–∞—Б–∞ –µ—Й–µ –љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї—Б—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ. –Э–Њ –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ—Г —В–Њ–ґ–µ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞.
–Т –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —В–∞–Ї –њ–µ—А–µ–і–∞–ї —Б—Г—В—М —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–Љ: «–Я–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ, —З—В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Є–Ј –Ф—Г–Љ—Л –±—Г–і—В–Њ –±–µ—Б—Б–Є–ї—М–љ–Њ —З—В–Њ-–ї–Є–±–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Б –љ–Є–Љ –±–Њ—А–µ—В—Б—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї-–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–∞—А—В–Є—П –≤ –ї–Є—Ж–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞. –Э—Г–ґ–љ–Њ –Љ–Њ–µ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ»[111].
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –≤ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Б –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–Љ –Њ–њ–µ—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –∞–±—Б—В—А–∞–Ї—В–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–љ—П—В–Є—П–Љ–Є «–∞–љ–∞—А—Е–Є—П», «—А–∞—Б—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ —Г–Љ–Њ–≤»[112] –Є –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –°–Њ–≤–µ—В –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є, –љ–∞–і–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є, —Г–ґ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–Є–є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –±–Њ—А—М–±–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –Є –°–Њ–≤–µ—В–Њ–Љ, –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–Њ–±—Л—В–Є—П —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В—М –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г –°–Њ–≤–µ—В—Г –Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –њ–Њ–±–µ–і—Г –≤ –±–Њ—А—М–±–µ –Ј–∞ –≤–ї–∞—Б—В—М. –Ш –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ —В–∞–Ї, —В–Њ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –њ—А–Њ—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ: –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Ј–∞ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –ґ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ—В–ї–Њ–ґ–Є–ї.
–Ш—В–Њ–≥–Њ–Љ —Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –≤—Б—В—А–µ—З–Є —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ —Ж–∞—А—П –љ–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –°—В–∞–≤–Ї–Є, –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ 1.58, –≤–µ—А–љ—Г—В—М –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–µ–Љ—Л–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Г —Б –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Є –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤[113].
–Т 12.26 —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г114. –Я–Њ–Ї–∞ –ґ–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –°—В–∞–≤–Ї–∞ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–∞ —Б –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞–Љ–Є –њ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–≤–Њ–і—Г, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –љ–Є—Е. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Є—Е —Г–≤–µ—А—П–ї–Є, —З—В–Њ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ —Г–ґ–µ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–љ, —З–µ–≥–Њ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ.
–Ш–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–∞ –°—В–∞–≤–Ї–Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –Є—Е –≤ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–љ–Є –±—Л –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–µ, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –љ–µ —Б–њ–µ—И–Є–ї–Є –і–∞–≤–∞—В—М –Њ—В–≤–µ—В, –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–≤ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–Њ–≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –°—В–∞–≤–Ї–∞ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–ї–∞ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П.
–Х—Й–µ –љ–Њ—З—М—О –≤ 0.25 –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ –Т.–Э. –Ъ–ї–µ–Љ–±–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –С–Њ–ї–і—Л—А–µ–≤—Г –њ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–≤–Њ–і—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ–≤–Њ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –°–µ–ї–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Г —Б –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –і–µ—В—М–Љ–Є, –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –Ф—Г–Љ—Г –Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞—В—М —В–µ—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є–љ—П—В—М —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–Є.
–С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б–∞–Љ–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї–∞ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ъ–Є—А–Є–ї–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–Љ, –Њ—Е—А–∞–љ—П–≤—И–Є–Љ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж, –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–ї –ї–Є—З–љ–Њ –њ—А–Є–±—Л—В—М –≤ –Ф—Г–Љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ[114].
–≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –љ–Є –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З—В–Њ –ґ–µ–љ–∞ –Є –і–µ—В–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –Ј–∞–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–Њ–≤–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –њ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–≤–Њ–і—Г –Р.–°. –Ы—Г–Ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Ѓ.–Э. –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤—Л–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 9 —З–∞—Б–Њ–≤ –Ы—Г- –Ї–Њ–Љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Б–Є–ї –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ «–љ–∞–і–Њ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М <...> –≤—Б—П —Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П —Б–µ–Љ—М—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Љ—П—В–µ–ґ–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, –Є–±–Њ, –њ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ, –і–≤–Њ—А–µ—Ж –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –°–µ–ї–µ –Ј–∞–љ—П—В –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є». –Х—Б–ї–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—Б—П –љ–∞ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ, «—В–Њ, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і—Г—В –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–µ —Н–Ї—Б—Ж–µ—Б—Б—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Г–і—Г—В —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—В—М —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –і–µ—В—П–Љ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –љ–∞—З–љ–µ—В—Б—П –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞, –Є –†–Њ—Б—Б–Є—П –њ–Њ–≥–Є–±–љ–µ—В –њ–Њ–і —Г–і–∞—А–Њ–Љ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –Є –њ–Њ–≥–Є–±–љ–µ—В –≤—Б—П –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—П»[115].
–≠—В–Њ –±—Л–ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–Њ–≥ —Б—В–∞—В—М –Є —А–µ—И–∞—О—Й–Є–Љ –і–ї—П —Ж–∞—А—П. –Э–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Є–Љ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ —В–Њ—А–Њ–њ–Є–ї—Б—П.
–Т 14.30 –Њ–љ –њ–Њ—Б–њ–µ—И–Є–ї —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М —Ж–∞—А—О –Њ—В–≤–µ—В—Л —В—А–µ—Е –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–Њ–≤, —Г—Б–њ–µ–≤—И–Є—Е –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤–Њ –Є–Љ—П –њ–Њ–±–µ–і—Л: –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞, –Р.–Р. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤–∞, –Р.–Х. –≠–≤–µ—А—В–∞. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ «—Г–Љ–Њ–ї—П–ї» –њ—А–Є–љ—П—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ «–±–µ–Ј–Њ—В–ї–∞–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ», –љ–Њ —Б–≤–Њ—О —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤–µ—А–љ–Њ–њ–Њ–і–і–∞–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д—А–∞–Ј–Њ–є: «–Ю–ґ–Є–і–∞—О –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–є», –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–∞ —Г —Ж–∞—А—П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –≥–Њ—А–µ—З–Є. –Ь–∞–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ –њ—А–µ–≤—Л—Б–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П, –љ–∞—З–∞–≤ –Њ–њ—А–Њ—Б –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–Њ–≤, –љ–µ –±—Г–і—Г—З–Є —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ –љ–∞ —Н—В–Њ –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ, –љ–Њ –Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї —В–µ–њ–µ—А—М —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–µ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ[116]. –Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —З–µ—А–µ–Ј 15— 20 –Љ–Є–љ—Г—В —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–∞ –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ.
«–У–Њ—В–Њ–≤ –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П»
–Ю–Ї–Њ–ї–Њ 15.00 –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г —Ж–∞—А—О –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–µ–Љ –≤ –і—Г—Е–µ –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞. –¶–∞—А—М –≤–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є–ї: «–Э–Њ —П –љ–µ –Ј–љ–∞—О, —Е–Њ—З–µ—В –ї–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –†–Њ—Б—Б–Є—П». –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї: «–Ч–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П —Б–µ–є—З–∞—Б –∞–љ–Ї–µ—В–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –љ–µ—Б—Г—В—Б—П —Б —В–∞–Ї–Њ–є –±—Л—Б—В—А–Њ—В–Њ–є, —З—В–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–Є–µ –≥—А–Њ–Ј–Є—В –љ–µ–њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–Љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є»[117].
–Т –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤—Л—Б–ї—Г—И–∞—В—М –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤ —И—В–∞–±–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –°.–°. –°–∞–≤–Є—З–∞ –Є –Ѓ.–Э. –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї, —З—В–Њ–±—Л —Ж–∞—А—М —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –≥–Њ–ї–Њ—Б –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –≤–µ–ї–Є –±–µ—Б–µ–і—Г —Б–Є–і—П –≤ —В–∞–±–∞—З–љ–Њ–Љ –і—Л–Љ—Г, –Ј–∞—В—П–≥–Є–≤–∞—П—Б—М –њ–∞–њ–Є—А–Њ—Б–∞–Љ–Є. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л –ґ–µ –≤ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —Ж–∞—А—П –Ї—Г—А–Є—В—М –љ–µ –Њ—Б–Љ–µ–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М, —Е–Њ—В—П –Є–Љ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–Њ. –°—В–Њ—П–ї–Є –љ–∞–≤—Л—В—П–ґ–Ї—Г, –љ–Њ –Ї–∞–Ї –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ.
–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї —Ж–∞—А—О –Є –Ј–∞–њ–Є—Б—М —Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ъ–ї–µ–Љ–±–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б –С–Њ–ї–і—Л—А–µ–≤—Л–Љ –Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –°–µ–ї–µ –Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ф—Г–Љ—Л, –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З–∞. –Ъ–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤, –і–ї—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П «—Н—В–Њ –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В»[118]. –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –Њ–љ –Є –њ—А–µ–і—А–µ—И–Є–ї –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И—Г—О —В–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П.
–Я–Њ—Б–ї–µ —В—П–≥–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є, –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–≤—И–Є—Б—М, –Њ–±—К—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Ж–∞—А—М –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П —Б –≤–ї–∞—Б—В—М—О, –∞ –ї–Є—И—М –Є—Б–Ї–∞–ї —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–≤ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –µ–µ –Є —Б–њ–∞—Б—В–Є —Б–≤–Њ—О —Б–µ–Љ—М—О.
–Ю—В–њ—Г—Б—В–Є–≤ –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б –µ–≥–Њ —Б–≤–Є—В–Њ–є, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г. –Т–µ–і—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ «–Њ–ґ–Є–і–∞–ї –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–є». –Ґ–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –≥–ї–∞—Б–Є–ї–∞: «–Э–∞—И—В–∞–≤–µ—А—Е. –°—В–∞–≤–Ї–∞. –Т–Њ –Є–Љ—П –±–ї–∞–≥–∞, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є—П –Є —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –≥–Њ—А—П—З–Њ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–є –†–Њ–і–Є–љ—Л —П –≥–Њ—В–Њ–≤ –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Љ–Њ–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞. –Я—А–Њ—И—Г –≤—Б–µ—Е —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –µ–Љ—Г –≤–µ—А–љ–Њ –Є –љ–µ–ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–љ–Њ. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є»[119].
–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, —Ж–∞—А—М —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П, –∞ –љ–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ—В—А–µ–Ї–∞–µ—В—Б—П. –Т —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є —А–∞—Б—З–µ—В: –≤—Л–Є–≥—А–∞—В—М –≤—А–µ–Љ—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ –і–Њ–ґ–і–∞—В—М—Б—П —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є—П, –∞ –і–∞–ї—М—И–µ –±—Г–і–µ—В –≤–Є–і–љ–Њ. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —Ж–∞—А—М –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П, —З—В–Њ –∞—А–Љ–Є—П –Љ—Л—Б–ї–Є—В —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –і—Г–Љ—Б–Ї–Є–µ –ї–Є–і–µ—А—Л –Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ.
–Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –ґ–µ –і—Г—Е–µ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –Є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П. –Т –љ–µ–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М: «–Э–µ—В —В–Њ–є –ґ–µ—А—В–≤—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —П –љ–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б –±—Л –≤–Њ –Є–Љ—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–∞ –Є –і–ї—П —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –Љ–∞—В—Г—И–Ї–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Я–Њ—Б–µ–Љ—Г —П –≥–Њ—В–Њ–≤ –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Љ–Њ–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –њ—А–Є –Љ–љ–µ –і–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–ї–µ—В–Є—П»[120].
–≠—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ «–і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ» –Љ–µ–љ—П–ї–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л. –§–Њ—А–Љ—Г–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Є–Ј–Њ–±—А–µ–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–∞: –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Є–є —Б—Л–љ-–Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є –Њ—В—Ж–µ, –∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Є –њ—А–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є, –Є, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —А–Њ–Ї–Є—А–Њ–≤–Ї—Г, –≤–ї–∞—Б—В—М –њ–Њ —Б—Г—В–Є –і–µ–ї–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —В–µ—Е –ґ–µ —А—Г–Ї–∞—Е. –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Н—В–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Ж–∞—А—М –≥–Њ—В–Њ–≤ –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б —В–µ–Ї—Б—В–Њ–Љ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л, –Њ–љ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ —А–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞. –Э–∞ –Ї–ї–Њ—З–Ї–µ –±—Г–Љ–∞–≥–Є –Њ–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї, –Ї–∞–Ї –љ—Г–ґ–љ–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —В–µ–Ї—Б—В.
–Т —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ: «–њ—А–Є —А–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–µ –±—А–∞—В–∞ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞»[121]. –≠—В–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –і–µ–ї–∞–ї–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –∞–±—Б—Г—А–і–љ–Њ–є. –Х—Б–ї–Є —Б—Л–љ-–Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є –Њ—В—Ж–µ, —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—О—Й–µ–Љ —Б–≤–Њ—О –≤–ї–∞—Б—В—М, —В–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М —А–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ —Д–Є–Ї—Ж–Є—О.
–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї. –°–Њ–Њ–±—Й–∞—П –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є «–њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є –ґ–µ—А—В–≤—Г», —Ж–∞—А—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –љ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –µ—Е–∞—В—М –Ї –њ–ї–µ–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ, –∞ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–≤–∞–ї—Б—П –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ –≤ –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤–µ –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ.
–Т 16.50 —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–µ–Ј–і —Б—В–Њ–Є—В –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ф–≤–Є–љ—Б–Ї–∞, –∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –і–Њ—А–Њ–≥ –Њ—В–і–∞–ї —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є –Њ–± –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –ї–Є—В–µ—А–љ—Л—Е –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–≤ –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є[122].
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П —Б —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞–Љ–Є –≤ —А—Г–Ї–∞—Е, –µ–Љ—Г –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Р.–Ш. –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Т.–Т. –®—Г–ї—М–≥–Є–љ—Л–Љ –µ–і–µ—В –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤[123].
–Ґ–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –∞–і—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–∞ –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—Б—В—Л –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–ї–Є
–Њ —Ж–µ–ї–Є –≤–Є–Ј–Є—В–∞, –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –µ–і–µ—В –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г, –љ–Њ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г–ї, —Б –Ї–µ–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Є –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –≤–µ—Б—В–Є—Б—М.
–Я—А–Є–µ–Ј–і –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Љ–µ–љ—П–ї —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є, –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї —Ж–∞—А—О –Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —А–µ—И–Є–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞—В—М –і–Њ –Є—Е –њ—А–Є–µ–Ј–і–∞, –∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г –љ–µ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞—В—М –≤–Њ–≤—Б–µ. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–µ—А–µ–і—Г–Љ–∞–ї –Є –≤–µ–ї–µ–ї –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–µ—А–љ—Г—В—М –Є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ. –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є —Г–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г —Г —Б–µ–±—П, –њ–Њ–Њ–±–µ—Й–∞–≤ –љ–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –µ–µ. –Ґ–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –µ–Љ—Г –±—Л—В–∞ –љ—Г–ґ–љ–∞ –і–ї—П –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –У—Г—З–Ї–Њ–≤—Л–Љ. –≠—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –≤ 15 —З–∞—Б–Њ–≤ 45 –Љ–Є–љ—Г—В[124].
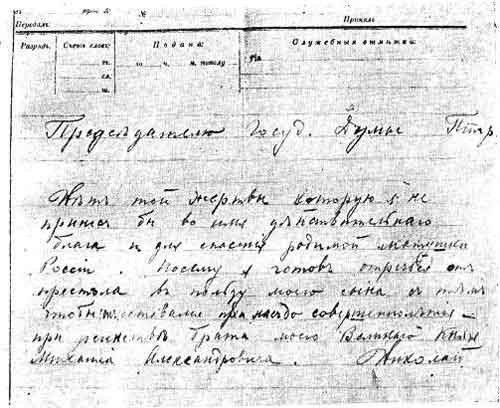
–§–∞–Ї—Б–Є–Љ–Є–ї–µ –љ–µ–Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є.
–Т 16.30 –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г: «–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М-–Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –≤ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –±–µ—Б–µ–і–µ —Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—К—О—В–∞–љ—В–Њ–Љ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–Љ <...> –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї, —З—В–Њ –љ–µ—В —В–Њ–є –ґ–µ—А—В–≤—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –µ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б –±—Л –і–ї—П –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Л»[125]. –Ю–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞. –≠—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Њ — «–Њ–ґ–Є–і–∞—О—Й–Є–є –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–є» –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В–∞ —Ж–∞—А—П –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї.
–Ґ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ —А–µ—И–Є–ї –њ–Њ–і–Ї–ї—О—З–Є—В—М –Љ–∞—В—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Г –Ь–∞—А–Є—О –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ—Г. –Ю–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–±—А–Є—Б–Њ–≤–∞—В—М –µ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М –Њ–±–Њ –≤—Б–µ–Љ, —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М[126].
–Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –±—Л—В –Є–ї–Є, –≤–µ—А–љ–µ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –±—Л—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ —Б—Л–љ–Њ–Љ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –Ь–∞—А–Є—О –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ—Г –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Ж–∞—А—П.
–Ю–њ–∞—Б–∞—П—Б—М –Ї–∞–Ї–Є—Е-–љ–Є–±—Г–і—М –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–є –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –≤–≤–Є–і—Г –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є, –°—В–∞–≤–Ї–∞ –≤ 17.18 –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –њ—А–Є–љ—П—В—М –Љ–µ—А—Л –і–ї—П «–Є–Ј–±–µ–ґ–∞–љ–Є—П —Н–Ї—Б—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤»[127].
–Т 18.00 –Є–Ј –Я—Б–Ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—М –°—В–∞–≤–Ї—Г: –Љ–Њ–ї, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ —Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –≤ –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤, –љ–Њ —Н—В–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –±—Л–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ –њ—А–Є–µ–Ј–і–µ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞[128].
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ —Б—В–∞–ї –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Б—Л–љ–∞ –њ—А–Є —А–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞. –Ю–љ –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Э.–Р. –С–∞–Ј–Є–ї–Є –Є –Р.–°. –Ы—Г–Ї–Њ–Љ- —Б–Ї–Њ–Љ—Г. (–Т 1963 –≥. –≤–і–Њ–≤–∞ –С–∞–Ј–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ –≤ –∞—А—Е–Є–≤ –У—Г–≤–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –≤ –°–®–Р —З–µ—А–љ–Њ–≤–Є–Ї–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞. –Ю–љ–Є-—В–Њ –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М –≤—Б–µ —Н—В–∞–њ—Л —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞–і –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–Њ–Љ –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є[129].)
–Т 19.40 –њ—А–Њ–µ–Ї—В –±—Л–ї —Г–ґ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤ –Є —В–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Л–Љ –њ–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д—Г –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤—Г –і–ї—П –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –љ–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є, –µ—Б–ї–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А «—Б–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –њ—А–Є–љ—П—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ».
–•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –ї–Є—И—М —В–µ–Ї—Б—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞, –±–µ–Ј –Њ–±—Л—З–љ–Њ–є –і–ї—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –њ—А–µ–∞–Љ–±—Г–ї—Л. –С–∞–Ј–Є–ї–Є –±—Л–ї –Њ–њ—Л—В–љ—Л–Љ —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ю–љ —П–≤–ї—П–ї—Б—П –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є–Є –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї, –∞ –≤ –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤–µ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є—О –°—В–∞–≤–Ї–Є.
–Я—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –С–∞–Ј–Є–ї–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –і–ї—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї—Г, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї, —З—В–Њ –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є —Б–ї—Г—З–∞—П –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В. –Э–Њ —З–ї–µ–љ—Л –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –Є —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е –Є–Љ–µ–µ—В –љ–∞ —Н—В–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ –њ—А–∞–≤, —З–µ–Љ –≤—Б–µ –њ—А–Њ—З–Є–µ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–Њ–љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ–µ—А–µ–є—В–Є –Ї —Б—В–∞—А—И–µ–Љ—Г —Б—Л–љ—Г —Ж–∞—А—П, —В–Њ –µ—Б—В—М –Ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—О. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤ –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–≤–µ–і–µ–љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П —Д—А–∞–Ј–∞: «–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ –Љ—Л –њ–µ—А–µ–і–∞–µ–Љ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ –љ–∞—И–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–Љ—Г —Б—Л–љ—Г –љ–∞—И–µ–Љ—Г».
–Э–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞. –°—Г—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ. –І—В–Њ–±—Л –Њ–±–ї–µ–≥—З–Є—В—М –љ–∞—А–Њ–і—Г. —В–µ—Б–љ–Њ–µ –µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Є —Б–њ–ї–Њ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ—Е —Б–Є–ї –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е, —Ж–∞—А—М –і–ї—П –њ–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞–і –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ –≤—А–∞–≥–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —Б—Л–љ—Г –Є –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї –µ–Љ—Г, —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Є —А–µ–≥–µ–љ—В—Г –Ь–Є—Е–∞–Є–ї—Г, «–њ—А–∞–≤–Є—В—М –і–µ–ї–∞–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Є –љ–µ–љ–∞—А—Г—И–Є–Љ–Њ–Љ –µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є —Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е, –љ–∞ —В–µ—Е –љ–∞—З–∞–ї–∞—Е, –Ї–Њ–Є –±—Г–і—Г—В –Є–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л»[130].
–≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ, —З—В–Њ —Ж–∞—А—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В—А–µ–Ї–∞–µ—В—Б—П, –љ–Њ –Є –і–∞–µ—В –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–µ –≤–≤–µ—Б—В–Є –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є—О –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞, —В–∞–Ї –Є –Њ—В —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є—П.
–Х—Б–ї–Є –±—Л –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ—А–Є–љ—П–ї —Н—В–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П, —В–Њ –њ—А–Є—Б–ї–∞–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В –µ—Й–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –±—Л —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ—Д–Њ—А–Љ–Є—В—М, –њ—А–Є–і–∞–≤ –µ–Љ—Г –≤–Є–і –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞. –Х—Б—В—М —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –°.–°. –°–∞–≤–Є—З–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–Љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —Ж–∞—А—П –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–ї—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —В–Њ–Љ, «–Ї–∞–Ї –Њ—Д–Њ—А–Љ–Є—В—М –і–µ—В–∞–ї–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –∞–Ї—В–Њ–Љ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П»[131].
–Т–Њ–њ—А–Њ—Б —Н—В–Њ—В –Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї –Т.–С. –§—А–µ–і–µ—А–Є–Ї—Б, –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Њ–є. –Х–Љ—Г –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є, —З—В–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—В–љ—Л, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –ї—Г—З—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –µ—Е–∞—В—М –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –°–µ–ї–Њ –Є —В–∞–Љ «–≤—Б–µ –Њ—Д–Њ—А–Љ–Є—В—М —Б–Њ —Б–≤–µ–і—Г—Й–Є–Љ–Є –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є».
–Т–∞–ґ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Є –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–є –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤, –Ј—П—В—М –§—А–µ–і–µ—А–Є–Ї—Б–∞, –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М. –Ю–љ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ –∞–Ї—В –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П.
–Э–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –љ–µ —Б–њ–µ—И–Є–ї –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї—П—В—М –∞–Ї—В. –¶–∞—А—М –≤—Л–ґ–Є–і–∞–ї.
–Э—Г–ґ–љ–∞ —Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є—П
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–Љ, –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є—Б—М –љ–Є—З–µ–Љ. –Э–∞–Љ–µ—В–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ —Д–Њ—А–Љ–µ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П.
–†–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Ј–∞–≤—В—А–∞ –≤ 15 —З–∞—Б–Њ–≤ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М—Б—П –≤–љ–Њ–≤—М –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М –њ—А–µ–љ–Є—П. –Э–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і —Н—В–Є–Љ –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –Р.–Ш. –У—Г—З–Ї–Њ–≤.
–Т –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ –µ–Љ—Г –Њ—В–≤–Њ–і–Є–ї—Б—П –њ–Њ—Б—В –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞. –Х–≥–Њ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Г—А–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–µ–љ–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞ –±–µ–Ј —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞–Ј–Љ–∞. –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –ґ–µ –±—Л–ї –Ї—А–∞–є–љ–µ –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤–љ–Њ–≤—М —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–µ–Љ–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М «–њ–Њ–і –Ї–Њ–ї–њ–∞–Ї–Њ–Љ» —Г –°–Њ–≤–µ—В–∞. –Э–∞ —В–∞–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤–Њ–є—В–Є –≤ «–њ–µ—А–≤—Л–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В» –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ—В —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —А—Г–Ї. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є —Б–Њ—А–≤–∞–ї –љ–∞–Љ–µ—В–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П[132]. –†–µ—И–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –і–Њ –Ј–∞–≤—В—А–∞.
–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Є–Ј –≤—Б–µ—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Њ—Б—В—А–µ–µ –≤—Б–µ—Е —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї –µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Ј–≤–∞–љ—З–µ—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –•–Њ—В—П –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Г—А–∞ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞, —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –Є –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ, –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М «–±–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–є –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–Є —Б–≤–µ—А—Е—Г –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б—В–Є–ґ–∞ –Є –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –Њ–њ–Њ—А—Л —Б–љ–Є–Ј—Г»[133]. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є вДЦ 1 –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –ї–µ–≥–Є—В–Є–Љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є.
–Т –љ–Њ–≤–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –Љ–µ—Б—В–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –Э–Њ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –љ–Є –≤ –Ї–Њ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М, —З—В–Њ–±—Л –љ–Њ–≤–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –љ–Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ —Ж–∞—А—П. –Э—Г–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В —Б—В–∞—А–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Э—Г–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–∞ –љ–∞ –ї–µ–≥–Є—В–Є–Љ–љ—Л–є —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є —В–Є—В—Г–ї.
–°–∞–Љ–Њ–µ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А—П, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –љ–Є –њ–Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ, –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –Є–Љ–µ–ї–Њ –≤—В–Њ—А–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –ї–Є—И–∞–ї—Б—П –≤–ї–∞—Б—В–Є –љ–µ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –±—Г–Љ–∞–ґ–Ї—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Ж–∞—А—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –±—Л —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М –њ–Њ–і –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–∞—Е —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Э—Г–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —В–∞–Ї–∞—П —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–∞ –±—Л –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В—Г –≤ —А–∞–љ–µ–µ –Ј–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–њ–Є—Б–Њ—З–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —В–≤–µ—А–і–Њ –≤—Б—В–∞—В—М –љ–∞ –љ–Њ–≥–Є.
–Ґ–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤–∞ —Б—В—А–Њ–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –±—Г–і–µ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Є –љ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–µ. –С–Њ–ї–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є—П, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Њ—В—А–µ–Ї–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞, —А–µ–≥–µ–љ—В–Њ–Љ –Њ–±—К—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ь–Є—Е–∞–Є–ї, –∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–µ—В—Б—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –і–Њ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Ф–љ–Њ, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї –њ–Њ–µ—Е–∞—В—М –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤, –Њ–љ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, —Г–ґ–µ –њ–µ—А–µ–Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ –Љ–Є–ї—О–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В.
–Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –°.–Ш. –®–Є–і–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –µ—Е–∞—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Ј–∞ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ. –Э–Њ –≤ –і–µ–ї–Њ –≤–Љ–µ—И–∞–ї—Б—П –Э.–°. –І—Е–µ–Є–і–Ј–µ. –Ю–љ –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–µ—Е–∞—В—М, –њ–Њ–Ї–∞ –µ–Љ—Г, –І—Е–µ–Є–і–Ј–µ, –љ–µ —Б—В–∞–љ–µ—В –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Ж–∞—А—О –љ–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М[134].
–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –±—Л–ї –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ —З–µ—А–љ–Њ–≤–Є–Ї –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є. –®–Є–і–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –µ–≥–Њ, –њ–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, —П–≤–ї—П–ї—Б—П –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤. –Т –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ—В —З–µ—А–љ–Њ–≤–Є–Ї, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –љ–∞ –±–ї–∞–љ–Ї–µ –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї –Т.–Т. –®—Г–ї—М–≥–Є–љ—Г[135].
–І—Е–µ–Є–і–Ј–µ –Ј–∞–±—А–∞–ї —Н—В–Њ—В —З–µ—А–љ–Њ–≤–Є–Ї —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –љ–Њ—З—М—О –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ –і–∞—Б—В —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –љ–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї—Г –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ —Б–∞–Љ –њ–Њ–µ–і–µ—В —Б –љ–Є–Љ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї, —З—В–Њ –°–Њ–≤–µ—В –Љ–Њ–ґ–µ—В –і–∞—В—М —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –љ–Њ –љ–Є –≤ –Ї–Њ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞—З—Г –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—О –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞.
–Э–Њ —Н—В–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –љ–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ—Л –і–ї—П –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ. –Ґ–Њ—В, –Ї—В–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –њ–µ—А–µ—И–∞–≥–љ—Г—В—М —З–µ—А–µ–Ј –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤–∞ –Є –љ–µ –ї–Є—И–Є—В—М—Б—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –°–Њ–≤–µ—В–∞, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Є–і—В–Є «–ї–µ–≤–µ–µ» –Љ–Є–ї—О–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Л. –°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ –≤ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –±—Л–ї–∞ –±—Л –њ–µ—А–µ–і–∞—З–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –Є–Ј —Б–µ–Љ—М–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Л –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –і—А—Г–≥—Г—О —Б–µ–Љ—М—О — –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–∞ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –і–∞–ґ–µ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤.
–Ч–∞ —Н—В–Є–Љ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤, –Ј–∞ –і–≤–µ—Б—В–Є –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Њ—В –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞. –І—В–Њ–±—Л –і–Њ–±—Л—В—М –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–є —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є —В–Є—В—Г–ї, –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–є, –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤ «—Б–Њ—В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є» –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї –Т.–Т. –®—Г–ї—М–≥–Є–љ, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–є —А–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є—О –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–∞.
–І—В–Њ–±—Л –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ—И–ї–∞ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ, –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —А–µ—И–Є–ї –≤—Л–µ—Е–∞—В—М –Є–Ј –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞ –њ–Њ–і –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞. (–Э.–Т. –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї: –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, –≤ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–є –≤ —И—В–∞–±–µ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ «–≤ 3 —З–∞—Б–∞ 35 –Љ–Є–љ—Г—В –≤—Л–µ—Е–∞–ї–Є –≤–Њ –Я—Б–Ї–Њ–≤»[136]. –Х—Б–ї–Є –≤—А–µ–Љ—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤–µ—А–љ–Њ, —В–Њ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В, —З—В–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –ї–Є–±–Њ –Є–Ј –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, –≥–і–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Њ–ґ–Є–і–∞—В—М –њ–Њ–і—К–µ–Ј–ґ–∞—О—Й–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –ї–Є–±–Њ –Є–Ј –У–∞—В—З–Є–љ—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ —Б–і–≤–Є–≥–∞–≤—И–µ–Љ—Г —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П, –≤–µ—А–Є—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П.) –Ю–± –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –°–Њ–≤–µ—В —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–Њ—З–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞ –Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –≤ –°–Њ–≤–µ—В–µ —Б—В–∞–ї–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П. –Т—Л–Є–≥—А–∞–≤ –±–Њ—А—М–±—Г –Ј–∞ –∞—А–Љ–Є—О, –°–Њ–≤–µ—В —Б—В–∞–ї —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ, –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М. –≠—В–Њ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –і–љ—П 2 –Љ–∞—А—В–∞.
«–Я–µ—А–≤–∞—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Є–љ–≤–µ—Б—В–Є—В—Г—А–∞» –Ы–µ–≤–Є–∞—Д–∞–љ–∞
–Т –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ–і—А—П–і —И–µ–ї –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ—Л–є –Љ–Є—В–Є–љ–≥.
–Ю–Ї–Њ–ї–Њ 15 —З–∞—Б–Њ–≤ –і–љ—П –Я.–Э. –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –ї–Є–і–µ—А –љ–Њ–≤–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —А–µ—И–Є–ї –≤—Л–є—В–Є –Ї —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П –Є —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–±—К—П–≤–Є—В—М –Њ–± –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞. «–≠—В–Њ –±—Л–ї –њ–µ—А–≤—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–Є–Њ–Ј–љ—Л–є –∞–Ї—В, — –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤, — –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–Њ–≤–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Є–љ–≤–µ—Б—В–Є—В—Г—А—Г»[137]. –Я–µ—А–≤—Л–є –±–ї–Є–љ –≤—Л—И–µ–ї –Ї–Њ–Љ–Њ–Љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –њ–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞: «–Ъ—В–Њ –≤–∞—Б –≤—Л–±—А–∞–ї?» –Т–Њ–њ—А–Њ—Б —Н—В–Њ—В –±—Л–ї –љ–µ –≤ –±—А–Њ–≤—М, –∞ –≤ –≥–ї–∞–Ј, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ, –њ–Њ —Б—Г—В–Є –і–µ–ї–∞, —З–ї–µ–љ—Л –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ-—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Ј–≤–∞–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б–∞–Љ–Є —Б–µ–±—П –≤—Л–±—А–∞–ї–Є. –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –љ–µ —А–∞—Б—В–µ—А—П–ї—Б—П –Є –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: «–Э–∞—Б –≤—Л–±—А–∞–ї–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П». –Ь–Є—В–Є–љ–≥—Г—О—Й–∞—П —В–Њ–ї–њ–∞ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї–∞—Б—М —И—Г–Љ–љ—Л–Љ–Є –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –∞–њ–ї–Њ–і–Є—Б–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є.
–Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї —В–∞–Ї: «–Т —В—Г –Љ–Є–љ—Г—В—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–і–∞—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П, –љ–∞—И–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї–∞—П –Ї—Г—З–Ї–∞ –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –љ–∞—А–Њ–і—Г —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ—И–ї—Л–Љ –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –Є —В–µ–љ–Є –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є».
–Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В –±—Л–ї –љ–µ—Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ «–Љ–Њ–≥—Г—З–∞—П –Ї—Г—З–Ї–∞» –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—Г—З–Ї–Њ–є –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –Њ–љ–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞ –≤–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –Є–Ј —В–Њ–ї–њ—Л —Б—В–∞–ї–Є —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞, –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї —Д–Є–∞—Б–Ї–Њ.
–Э–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: «–Р –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—П?» — –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ —Б—В–∞—А—Л–є –і–µ—Б–њ–Њ—В –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –Є–ї–Є –±—Г–і–µ—В –љ–Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ. –†–∞–Ј–і–∞–ї–Є—Б—М –∞–њ–ї–Њ–і–Є—Б–Љ–µ–љ—В—Л. –Ч–∞—В–µ–Љ –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Ј–∞—П–≤–Є–ї: «–Т–ї–∞—Б—В—М –њ–µ—А–µ–є–і–µ—В –Ї —А–µ–≥–µ–љ—В—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–љ—П–Ј—О –Ь–Є—Е–∞–Є–ї—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З—Г». –Э–∞ —Н—В–Њ –Ј–∞–ї –Њ—В—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї —В–∞–Ї: «–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –љ–µ–≥–Њ–і—Г—О—Й–Є–µ –Ї—А–Є–Ї–Є». –Я–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б—Л: «–Ф–∞ –Ј–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–µ—В —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞», «–Ф–Њ–ї–Њ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—О». –†–∞–Ј–і–∞–ї–Є—Б—М –ґ–Є–і–Ї–Є–µ –∞–њ–ї–Њ–і–Є—Б–Љ–µ–љ—В—Л, –Ј–∞–≥–ї—Г—И–µ–љ–љ—Л–µ –љ–Њ–≤—Л–Љ –≤–Ј—А—Л–≤–Њ–Љ –љ–µ–≥–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. «–Э–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –±—Г–і–µ—В –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є», — –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М –Ї—А–Є–Ї–Є: «–≠—В–Њ —Б—В–∞—А–∞—П –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—П»[138].
–Я–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є —Б–≤–Њ—О –ї–Є–љ–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Њ–љ —В–∞–Ї —П—А–Њ—Б—В–љ–Њ –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤, –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–∞ —А–µ–Ј–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ. –Я–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ —П–≤–Њ—З–љ—Л–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–∞—Й–Є—В—М —Н—В–Њ—В –≤–∞–ґ–љ—Л–є –њ—Г–љ–Ї—В –љ–µ —Г–і–∞–ї–∞—Б—М. –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤—Г, –Ј–∞–њ—Г—Б—В–Є–≤—И–µ–Љ—Г —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ–±–љ—Л–є —И–∞—А, –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б—А–Њ—З–љ–Њ —А–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П.
–Т–љ–∞—З–∞–ї–µ –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М, —З—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–њ–Њ—А–Є—В—М, –љ–∞–і–Њ —Б—А–∞–Ј—Г —А–µ—И–Є—В—М, –Є–љ–∞—З–µ –≤—Б–њ—Л—Е–љ–µ—В –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞. –Э–Њ —В—Г—В –ґ–µ –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ—В –љ–∞ 180 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –Є –Ј–∞—П–≤–Є—В—М: «–Т –љ–∞—И–µ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –≤—Л –љ–∞–є–і–µ—В–µ –њ—Г–љ–Ї—В, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ–є–і–µ—В –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –Є –≤–Њ–Ј—А–Њ–і–Є—В—Б—П –њ—А–Њ—З–љ—Л–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї, –Љ—Л –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–Љ –Ї –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ —Б–Њ–Ј—Л–≤–∞ –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П».
–•–Њ—В—П —А–µ—З—М –і–ї—П –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –±—Л —В—А–Є—Г–Љ—Д–∞–ї—М–љ–Њ: –µ–≥–Њ —Б—В–∞–ї–Є –Ї–∞—З–∞—В—М –Є –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е –≤—Л–љ–µ—Б–ї–Є –Є–Ј –Ј–∞–ї–∞, –Њ–љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–µ–є—И–Є–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Б—З–µ—В. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —Н—В–Њ–є –Љ–Є–љ—Г—В—Л –µ–≥–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М –Ї–∞–Ї –ї–Є–і–µ—А–∞ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —В–∞—П—В—М.
–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –≤ —Н—В–Є –Љ–Є–љ—Г—В—Л –Њ–љ –њ—А–Њ—И–µ–ї —Н–Ї–≤–∞—В–Њ—А —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –µ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В—Г –ї–Є–і–µ—А–∞ –±—Л–ї –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ –љ–µ–њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–Љ—Л–є —Г—Й–µ—А–±. –Ґ–Њ—В, –Ї—В–Њ —Е–Њ—В–µ–ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Ї—Г –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –ї–Є–і–µ—А—Г, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Е–Њ—А–Њ—И—Г—О —В–Њ—З–Ї—Г –Њ–њ–Њ—А—Л.
–Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М «–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П», –њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г—П —А–µ—З—М –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤–∞, –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —А–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Є –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –µ–≥–Њ –ї–Є—З–љ—Л–Љ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ.
–Т —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ –љ–Њ–Љ–µ—А–µ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–∞ –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї–∞ «–†–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–Њ –Є –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ». –Т –љ–µ–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М: –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В–љ–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ, –±—Л–ї–Њ –±—Л –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –ї—Г—З—И–µ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ «—А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –Є –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–ї —Н—В—Г —В–Њ—З–Ї—Г –Ј—А–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї —З–Є—Б—В–Њ –ї–Є—З–љ–Њ–µ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ»[139]. –Т —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—О «–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є–є» –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Э.–Э. –°—Г—Е–∞–љ–Њ–≤ –Є –Ѓ.–Ь. –°—В–µ–Ї–ї–Њ–≤, —З–ї–µ–љ—Л –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –≤ –љ–Њ—З–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞—Е —Б –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –Њ–± –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є[140].
–Ґ–Њ—В, –Ї—В–Њ –≤–Њ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ —Е–Њ—В–µ–ї –Ј–∞–љ—П—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤–∞ –Ї–∞–Ї –ї–Є–і–µ—А–∞, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Є–Љ–µ—В—М –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ –љ–∞–і–Њ «–њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Є –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М». –Ш –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Є –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є —Н—В–Њ –≤ —В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М, —Б–∞–Љ—Л–є «–њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ—Л–є» –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞–ї «—А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–Љ» —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–і–µ–ї—О. –Ш –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є, –њ–Њ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞—П —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Њ–± –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–µ.
–Р –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —Б –®—Г–ї—М–≥–Є–љ—Л–Љ –≤—Л–µ—Е–∞–ї–Є –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤. –•–Њ—В—П –ї–Њ–Ї–Њ–Љ–Њ—В–Є–≤ –і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П –≤ —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –Є—Е –њ–Њ–µ–Ј–і —И–µ–ї –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї, «–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є».
–Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Љ—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ —В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї —Б–≤–Њ—О —Б—В–∞–≤—И—Г—О –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є —А–µ—З—М. –Я–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї, –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –±—Л–ї–Є —Г–ґ–µ –≤ –њ—Г—В–Є. –Э–Њ –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –Њ–љ–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ—Л–Љ–Є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞–Љ–Є –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П—Е —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є –Є–Ј –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞.
«–Ь—Л –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞»
«–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Л–љ—П –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –Є—Б—В–µ—А–Є–Ї–µ. –£ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ 39 — –Ї–Њ—А—М», — —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–ї–Њ—А–∞–і—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞–ї–Є –љ–Њ–≤–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ «–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤» 2 –Љ–∞—А—В–∞[141].
–Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Г –±–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М –±—Л–ї–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞. –Э–Њ –µ–≥–Њ –Љ–∞—В—М –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ–∞ –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –±–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Є—Б—В–µ—А–Є–Ї–µ. –Ю–љ–∞ –Є—Б–Ї–∞–ї–∞ –њ—Г—В–Є —Б–≤—П–Ј–∞—В—М—Б—П —Б –Љ—Г–ґ–µ–Љ.
–Т–љ–∞—З–∞–ї–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Л–љ—П —Е–Њ—В–µ–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –∞—Н—А–Њ–њ–ї–∞–љ, –љ–Њ –њ–Њ–≥–Њ–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–∞, –і–∞ –Є –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ—Г–ґ–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–є.
–Ґ–Њ–≥–і–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –Є –≤–µ–ї–µ–ї–∞ –Ї–∞–Ј–∞–Ї—Г –Ј–∞—И–Є—В—М –µ–≥–Њ –њ–Њ–і –ї–∞–Љ–њ–∞—Б–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤ –Є —Г–≤–Є–і–µ—В—М—Б—П —Б –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–Љ.
«–Т—Б–µ –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, — –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Р–ї–Є–Ї—Б, — –Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Б –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ–Њ–є –±—Л—Б—В—А–Њ—В–Њ–є. –Э–Њ —П —В–≤–µ—А–і–Њ –≤–µ—А—О –Є –љ–Є—З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–±–ї–µ—В —Н—В–Њ–є –≤–µ—А—Л — –≤—Б–µ –±—Г–і–µ—В —Е–Њ—А–Њ—И–Њ», — –њ—Л—В–∞–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М –Љ—Г–ґ–∞. «–ѓ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Е–Њ—В—П—В –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М —В–µ–±—П —Г–≤–Є–і–µ—В—М—Б—П —Б–Њ –Љ–љ–Њ—О, –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ —В—Л –љ–µ –њ–Њ–і–њ–Є—И–µ—И—М –Ї–∞–Ї—Г—О-–љ–Є–±—Г–і—М –±—Г–Љ–∞–≥—Г, –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є—О –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М —Г–ґ–∞—Б –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–Њ–і–µ. –Р —В—Л –Њ–і–Є–љ, –љ–µ –Є–Љ–µ—П –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –њ–Њ–є–Љ–∞–љ–љ—Л–є –Ї–∞–Ї –Љ—Л—И—М –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—О, —З—В–Њ —В—Л –Љ–Њ–ґ–µ—И—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М?.. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —В—Л –њ–Њ–Ї–∞–ґ–µ—И—М—Б—П –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –Є —Б–Њ–±–µ—А–µ—И—М –Є—Е –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–µ–±—П? –Х—Б–ї–Є –Њ–љ–Є —В–µ–±—П –њ—А–Є–љ—Г–і—П—В –Ї —Г—Б—В—Г–њ–Ї–∞–Љ, —В–Њ –љ–Є –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —В—Л –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ –Є—Е –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –і–Њ–±—Л—В—Л –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ». –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ–∞ –Љ—Л—Б–ї–Є–ї–∞ –ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ –Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є. «–Ф–≤–∞ —В–µ—З–µ–љ–Є—П — –Ф—Г–Љ–∞ –Є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П — –і–≤–µ –Ј–Љ–µ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –Ї–∞–Ї —П –љ–∞–і–µ—О—Б—М, –Њ—В–≥—А—Л–Ј—Г—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л. –≠—В–Њ —Б–њ–∞—Б–ї–Њ –±—Л –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ. –ѓ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О, —З—В–Њ –С–Њ–≥ —З—В–Њ- –љ–Є–±—Г–і—М —Б–і–µ–ї–∞–µ—В <...> —П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞—В—М, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Г–і—М —Б–∞–Љ–Є–Љ —Б–Њ–±–Њ–є. –Х—Б–ї–Є –њ—А–Є–љ—Г–і—П—В –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є—В—М—Б—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, —В–Њ –С–Њ–≥ –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—М—Б—П –Њ—В –љ–Є—Е»[142].
–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –Р–ї–Є–Ї—Б —В—А–µ–Ј–≤–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї–∞ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О, –±—Л–ї–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ—Б–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ–∞ –Є –љ–∞–Љ–µ—З–∞–ї–∞ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤—Л—Е–Њ–і –Є–Ј —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П: –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞—В—М –≤—Б–µ, —З—В–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–≤—П—В, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –њ–µ—А–µ–і –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є. –Я—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤–Њ –Ф—Г–Љ—Л –Є –°–Њ–≤–µ—В–∞ –і–∞—Б—В —И–∞–љ—Б –≤–µ—А–љ—Г—В—М —Г–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М. –Ѓ—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Є–Љ–µ—В—М —Б–Є–ї—Л, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М –љ–µ –њ–Њ –і–Њ–±—А–Њ–є –≤–Њ–ї–µ, –∞ –њ–Њ –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Є—О.
–•–Њ—В—П –Ї–∞–Ј–∞–Ї –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ —Б–≤—П–Ј–∞—В—М—Б—П —Б –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –Є —Ж–∞—А—М –љ–µ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –Љ—Л—Б–ї–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–±–Њ–ґ–∞–µ–Љ–Њ–є –ґ–µ–љ—Л, –љ–Њ –Ї–∞–Ї –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Р–ї–Є–Ї—Б –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М: «–Ь—Л –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, –љ–∞–Љ –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ —Б–ї–Њ–≤».
–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –њ—А–∞–≤–∞. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є II –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є–ї, –љ–Њ –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ.
–Ъ–∞–Ї –Љ—Л—И—М –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–µ
–Я–Њ—Б–ї–µ —А–µ—З–Є –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ, –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–Є–≤—И–µ–є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞, –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –њ–Њ—Б–њ–µ—И–Є–ї –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г.
–Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є—В—М –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–Љ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞, –Є–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ –Є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–љ–Њ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П. –Т—Л–±–Њ—А –њ–∞–ї –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ 25-–≥–Њ –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ы.–У. –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤–∞, –≥–µ—А–Њ—П –≤–Њ–є–љ—Л.
–Э–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ 18.55 –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –љ–∞ –Є–Љ—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞. –Т –љ–µ–є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї: –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –і–ї—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞, –±—Л–ї «–њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ» –≤–Ј—П—В—М –≤–ї–∞—Б—В—М –≤ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є –≤–≤–Є–і—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б—В–∞—А–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –љ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Љ–µ—А –і–ї—П —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є—П –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–∞. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤–ї–∞—Б—В—М –±—Г–і–µ—В –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–∞ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –У.–Х. –Ы—М–≤–Њ–≤–∞.
«–Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г, –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–µ (—В. –µ. –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ. —–Ь.–°.), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ –ї–Є—Ж –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є, –Є –≤—Б–µ —Б–ї–Њ–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Њ–≤—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М». –Ф–ї—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П «–њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞» –Є —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л «–Њ—В –∞–љ–∞—А—Е–Є–Є» –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Б—А–Њ—З–љ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤–∞ –љ–∞ –њ–Њ—Б—В –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–Љ[143].
–Т 17'55 –≤ –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤ –њ—А–Є—И–ї–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Р–≤–µ—А—М—П–љ–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —А–∞–Ј—К—П—Б–љ—П–ї–∞ –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –і–µ–ї –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –Є –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ–±–љ–∞–ґ–∞–ї–∞ –њ–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ—В–љ—Г—О –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ.
–Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞, –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –і–µ–ї–∞–µ—В –≤—Б–µ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Є—Б—П—Й–µ–µ, —З—В–Њ–±—Л «—Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Њ—В –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ї—А–∞–є–љ–µ –ї–µ–≤–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–є –њ–∞—А—В–Є–Є» –Є –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М –Є—Е —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ, –љ–Њ —Н—В–Є —Г—Б–Є–ї–Є—П «—А–∞–Ј–±–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ–Њ–є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–Њ–є –°–Њ–≤–µ—В–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤. –•–Њ—В—П –Љ–µ–ґ–і—Г –°–Њ–≤–µ—В–Њ–Љ –Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е, –љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ –љ–µ–љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ. –†–∞–Ј—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ —Б—А–µ–і–Є –≤–Њ–є—Б–Ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В—Б—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г-—В–Њ –Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤–∞ –і–ї—П —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞ “–Њ—В –∞–љ–∞—А—Е–Є–Є –Є —В–µ—А—А–Њ—А–∞”, –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л “–і–∞—В—М –Њ–њ–Њ—А—Г –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В—Г, —Б–њ–∞—Б–∞—О—Й–µ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б—В—А–Њ–є”»[144].
–Э–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤–∞ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –±—Л —Б–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ —Б —Н—В–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –°—Г—Б–∞–љ–Є–љ–Њ. –Т—Б—В—А–µ—В–Є–≤—И–Є—Б—М —Б –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ–Њ–є –≤ –љ–Њ—З—М –љ–∞ 2 –Љ–∞—А—В–∞, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ—В–≤–µ–ї —Б–≤–Њ–є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ –≤ –Т—Л—А–Є—Ж—Г. –Ч–∞—В–µ–Љ –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П, –≥–і–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М 67-–є –њ–Њ–ї–Ї, –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–µ—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –і–Њ–µ—Е–∞—В—М –і–Њ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–µ–ї–∞.
–Ґ—Г—В –µ–≥–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤ —В—Г–њ–Є–Ї –њ–Њ–і –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥–Њ–Љ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—М –њ—Г—В—М –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г –њ–Њ–µ–Ј–і—Г. –Я—А–Њ–ґ–і–∞–≤ 6 —З–∞—Б–Њ–≤ –Є –њ–Њ–љ—П–≤, —З—В–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—О—В —З—М–Є-—В–Њ –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞—В—М—Б—П. –Э–Њ –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є –њ—А–Є–≥—А–Њ–Ј–Є–ї, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і –±—Г–і–µ—В –Њ–±—Б—В—А–µ–ї—П–љ. –Ґ–∞–Ї –±–µ—Б—Б–ї–∞–≤–љ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П —Н–њ–Њ–њ–µ—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞. –С—Л–ї–∞ –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –Є—А–Њ–љ–Є—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–є –Њ—В–і–∞—В—М –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–∞ —Ж–∞—А—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї —Д–Є–∞—Б–Ї–Њ –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –°—Г—Б–∞–љ–Є–љ–Њ[145].
–Т 18.55 —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ—Б–ї–∞–љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Л–Љ –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤[146]. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ –њ—А–Њ—Б–Є–ї —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞—В—М –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤.
–Т 20.15 –њ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–≤–Њ–і—Г –Є–Ј –°—В–∞–≤–Ї–Є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –Ї –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В—Г –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤—Г —Г—Б–Ї–Њ—А–Є—В—М –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤–∞[147]. –≠—В–Њ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ «—Б—А–µ–і–Є —А–∞–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є–і–µ—В —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–∞—П, –љ–µ–±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ–∞—П –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤. –Э–Њ–≤–∞—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–∞ –њ–Њ–≤–µ–і–µ—В –Ї –∞–љ–∞—А—Е–Є–Є –Є —В–µ—А—А–Њ—А—Г –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ».
–Т 20.20 —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О.
–Т 21.00 –њ–Њ—Б–ї–µ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤–∞ —Ж–∞—А—М –љ–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ —А–µ–Ј–Њ–ї—О—Ж–Є—О: «–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М».
–Т 21.20 –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г, –∞ –≤ 21.40 –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є — –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ[148].
–Т–ї–∞—Б—В—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ї–∞–Ї –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є —В–∞—П–ї–∞ –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –Ј–∞–Љ–µ–љ—Г –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞ –Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤—Л–Љ, —Ж–∞—А—М –Ї–∞–Ї –±—Л —А–∞—Б–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–µ—А–Њ–≥–∞—В–Є–≤–∞ –≤—Л–±–Њ—А–∞ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–Љ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –µ–Љ—Г —Г–ґ–µ –љ–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В, –∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –љ–Њ–≤–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є.
–Т 20.20 –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є, –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–є –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ[149]. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Љ—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –±—Л–ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О. –Ш—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Љ–Њ–ї—З–∞—В.
2 –Љ–∞—А—В–∞ —Ж–∞—А—М –±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞–ї —Б –ї–µ–є–±-—Е–Є—А—Г—А–≥–Њ–Љ –°.–Я. –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Л–Љ –Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П. –Ґ–Њ—З–љ–Њ –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М —Н—В–∞ –±–µ—Б–µ–і–∞. –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і –Њ–±–µ–і–Њ–Љ, —В. –µ. –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 9 —З–∞—Б–Њ–≤ –≤–µ—З–µ—А–∞[150].
–Ю–±—Л—З–љ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –њ—А–Є–і–∞—О—В —А–µ—И–∞—О—Й–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ. –Ю–љ –±—Г–і—В–Њ –±—Л –њ–Њ–±—Г–і–Є–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –±—А–∞—В–∞. –¶–∞—А—М —П–Ї–Њ–±—Л —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ —Ж–µ—Б–∞—А–µ–≤–Є—З –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї–µ–љ, –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —А–µ—И–Є–ї –љ–µ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П —Б —Б—Л–љ–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –ґ–µ –Њ–љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –њ—А–Є –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–µ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ –µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤—П—В, —В–Њ —А–µ—И–Є–ї –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –±—А–∞—В—Г.
–Ф—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –±—Л–ї –Њ—Б–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ –Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П —Б—Л–љ–∞, –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤ –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М –µ–Љ—Г –≤ —Н—В–Є —З–∞—Б—Л. –•–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–Њ–љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –µ—Й–µ –Я–∞–≤–ї–Њ–Љ I –≤ 1797 –≥.
–¶–∞—А—О –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—В—А–µ–Ї–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Ї–Њ–≥–Њ –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –Њ—В–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ (—Е–Њ—В—П —В–∞–Ї–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є –Є –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї—Б—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ), –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ–µ—А–µ–є—В–Є –Ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—О.
–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Ж–∞—А—М, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –Њ–±–і—Г–Љ—Л–≤–∞–ї —В–∞–Ї–Њ–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –Ї —Б—Л–љ—Г –љ–µ –ї–Є—И–∞–ї –±—Л –µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ, —В. –µ. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Э–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –≤ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –Њ—В–Њ—Б–ї–∞—В—М –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ
15 —З–∞—Б–Њ–≤, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –≥–Њ—В–Њ–≤ –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Б—Л–љ–∞ «—Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –њ—А–Є –Љ–љ–µ –і–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–ї–µ—В–Є—П».
–Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–Њ—В–Є–≤–∞—Ж–Є–Є. –Ю–і–љ–Є—Е –Њ—В—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —З—Г–≤—Б—В–≤ –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–Є—В—М —В–∞–Ї–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –љ–µ —А–∞–Ј–ї—Г—З–∞—В—М—Б—П —Б –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ –њ–Њ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Є —Б—В–∞–ї –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Л–Љ.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Є–±–µ–≥–љ—Г—В—М –Ї —Н—В–Њ–є —Г–ї–Њ–≤–Ї–µ, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –≤–ї–∞—Б—В—М –≤ —А—Г–Ї–∞—Е, –љ–µ –њ–Њ–љ–∞–і–Њ–±–Є–ї–Њ—Б—М. –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Є –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ –Ї 19 —З–∞—Б–∞–Љ, –љ–Њ –Њ–љ–Є –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 9 —З–∞—Б–Њ–≤ –≤–µ—З–µ—А–∞, –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є—Б—М –≤ –Ы—Г–≥–µ.
«–Х—Б—В—М –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і –Ы—Г–≥–∞»
–Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј –≤–∞–≥–Њ–љ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤ —Ж–∞—А—О —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Њ–± –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞, –≤ —И—В–∞–±–µ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –њ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–≤–Њ–і—Г –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Ъ–∞—А–∞- –Љ—Л—И–µ–≤—Л–Љ –Є –С–∞—А–Љ–Є–љ—Л–Љ. –Ъ–∞—А–∞–Љ—Л—И–µ–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –Я—Б–Ї–Њ–≤, –С–∞—А–Љ–Є–љ — –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤.
«–Ъ–∞—А–∞–Љ—Л—И–µ–≤. –Ш–Љ–µ—О —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –≤—Л–µ—Е–∞—В—М, –љ–Њ —Г–ґ–µ —А–∞–Ј –љ–∞—Б —В–∞–Ї –Њ–±–Љ–∞–љ—Г–ї–Є: –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –і–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є–Є —Б –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–ї–µ–љ –Ф—Г–Љ—Л –Ы–µ–±–µ–і–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Є–і–Є—В –≤ –Ы—Г–≥–µ. –°–µ–є—З–∞—Б –љ–∞–≤–µ–і–µ–Љ —Б–њ—А–∞–≤–Ї—Г.
–С–∞—А–Љ–Є–љ. –Р –Њ –ї–Є—В–µ—А–љ—Л—Е –њ–Њ–µ–Ј–і–∞—Е –≤—Л –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В–µ?
–Ъ–∞—А–∞–Љ—Л—И–µ–≤. –Ф–µ—Б—П—В—М –Љ–Є–љ—Г—В [–љ–∞–Ј–∞–і] –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј –ї–Є—В–µ—А–∞ –Р –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ—Б–µ–≤. (—В. –µ. –Є–Ј –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –≤—Л—И–µ–ї –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є. — –Ь.–°.). –Т—В–Њ—А–Њ–є —Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–µ–Ј–і –Є–Ј –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞ –≤—Л—И–µ–ї –≤ 2.47. –Ю–ґ–Є–і–∞–µ—В—Б—П —Г –љ–∞—Б –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–µ–Љ—М—О –Є –≤–Њ—Б–µ–Љ—М—О, —Б –љ–Є–Љ –µ–і–µ—В –У—Г—З–Ї–Њ–≤».
–Ф–∞–ї–µ–µ –Ъ–∞—А–∞–Љ—Л—И–µ–≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ—Л–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Г 67-–є –њ–Њ–ї–Ї –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –ї–Њ—П–ї—М–љ—Л–Љ. –Х–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М «–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ–≥–Њ –±—Л—В—М –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞ –њ—А–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–µ —З–µ—А–µ–Ј –Ы—Г–≥—Г, –≥–і–µ 68-–є –њ–Њ–ї–Ї —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П –Ї –Ы—Г–ґ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ—Г». –Э–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –С–∞—А–Љ–Є–љ–∞, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П —Н—И–µ–ї–Њ–љ—Л, –љ–µ –і–Њ—И–µ–і—И–Є–µ –і–Њ –Ы—Г–≥–Є, –Ъ–∞—А–∞–Љ—Л—И–µ–≤ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ 68-–є –њ–Њ–ї–Ї –Є –±–∞—В–∞—А–µ—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Љ–µ–ґ–і—Г –Ы—Г–≥–Њ–є –Є –Я—Б–Ї–Њ–≤–Њ–Љ.
«–С–∞—А–Љ–Є–љ. –Р –Ї–∞–Ї –ґ–µ –≤—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ 68-–є –њ–Њ–ї–Ї —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П –Ї –Ы—Г–ґ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ—Г?
–Ъ–∞—А–∞–Љ—Л—И–µ–≤. –°–µ–є—З–∞—Б –Њ–±—К—П—Б–љ—О, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Ь–µ–љ—П –Ј–Њ–≤–µ—В –њ–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Г –Є–Ј –Ы—Г–≥–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤. –°–Є—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—О –Є –≤–µ—А–љ—Г—Б—М –Ї –≤–∞–Љ.
–С–∞—А–Љ–Є–љ. –Ц–і—Г.
–Ъ–∞—А–∞–Љ—Л—И–µ–≤. –°–Є—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –Є–Ј –Ы—Г–≥–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Њ–њ–∞–Ј–і—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ —З–∞—Б. –С–∞—В–∞—А–µ—О –Є —В—А–µ—В–Є–є —Н—И–µ–ї–Њ–љ 68-–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ —Г–ґ–µ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є –Є–Ј –°–µ—А–µ–±—А—П–љ–Ї–Є –Є –Я–ї—П—Б—Б—Л –Ї –љ–∞–Љ –љ–∞ –Я—Б–Ї–Њ–≤, –∞ –і–≤–∞ —Н—И–µ–ї–Њ–љ–∞, –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –Ы—Г–≥–µ —А–∞–Ј–і–∞—З–µ–є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –±—Г–і—Г—В –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —В–Њ–ґ–µ –љ–∞ –Я—Б–Ї–Њ–≤.
–С–∞—А–Љ–Є–љ. –Ю–њ—П—В—М –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, –Ї—В–Њ –ґ–µ –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –Ї –Ы—Г–ґ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ—Г –Є –Ї–Њ–Љ—Г –Є –Ї—В–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В –Њ—А—Г–ґ–Є–µ?
–Ъ–∞—А–∞–Љ—Л—И–µ–≤. –Ы—Г–ґ—Б–Ї–Є–є –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤—И–Є–є –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–≤—Г—Е —Н—И–µ–ї–Њ–љ–Њ–≤ 68-–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Њ–±–µ–Ј–Њ—А—Г–ґ–Є–ї –Є—Е, –∞ —В—А–µ—В–Є–є —Н—И–µ–ї–Њ–љ –і–Њ –Ы—Г–≥–Є –љ–µ –і–Њ—И–µ–ї. –Т–Њ—В –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –і–≤—Г—Е –њ–µ—А–≤—Л—Е —Н—И–µ–ї–Њ–љ–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ.
–С–∞—А–Љ–Є–љ. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –љ–Є–Ї—В–Њ –Є –љ–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г?
–Ъ–∞—А–∞–Љ—Л—И–µ–≤. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –Њ–±–µ—Й–∞–ї–Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–Є —Н—И–µ–ї–Њ–љ–Њ–≤ –Є–Ј –Ы—Г–≥–Є –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤. –Я–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Г —Б—В–µ—Б–љ—П—О—В—Б—П.
–С–∞—А–Љ–Є–љ. –Ґ–∞–Ї —Б–Ї–∞–ґ–Є—В–µ –ґ–µ —Б–µ–є—З–∞—Б, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–Ј–љ–∞–µ—В–µ, –Њ–± –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –ї–Є—В–µ—А–љ—Л—Е.
–Ъ–∞—А–∞–Љ—Л—И–µ–≤. –•–Њ—А–Њ—И–Њ. –ѓ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–µ–і–µ—В –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤ —Б —Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Љ, –≤—Б–µ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–Є—В—Б—П, –Є —П –і–Њ–ї–Њ–ґ—Г»[151].
–Ш—В–∞–Ї, –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П 68-–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –≤ –Ы—Г–≥–µ, –≥–і–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А –Р.–Р. –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤, –љ–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і–µ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Њ–љ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –≤ –Ы—Г–≥—Г, –≥–і–µ —А–∞–љ–µ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–∞—Б—М –і–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є—П –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞.
–°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤, –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –њ—Г—В—М –љ–∞ –Я—Б–Ї–Њ–≤, –Љ–Њ–≥ –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М —В—Г–і–∞ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ —Б –®—Г–ї—М–≥–Є–љ—Л–Љ, –Ї–∞–Ї –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є —В—Г–і–∞ —А–∞–љ–µ–µ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –Є—Е –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞ –ї–Є—И—М –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є —Ж–µ–ї–Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Є –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤–∞ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–ї–Є –±—Л.
–Р.–§. –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≤ —А–∞–љ–љ–µ–є —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–Є- –ї—О–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —А–µ—З–Є –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ —А–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–∞. –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ –≤ —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ–µ–Ї—В, –љ–Њ –Ј–∞–≤–µ—А–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ—В—А–µ–±—Г–µ—В –Њ—В –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –Њ—В –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Є–ї–Є –њ—А–Є–≥—А–Њ–Ј–Є—В —Б–≤–Њ–µ–є –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–Њ–є.
–Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ —В–Њ–≥–і–∞ —А–µ—И–Є–ї –њ–Њ—Б–ї–∞—В—М –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є—О. –Ф–µ–ї–µ–≥–∞—В—Л, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤—Л–µ—Е–∞–ї–Є –≤ 16 —З–∞—Б–Њ–≤[152]. –Ф—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П, —Н—В–Њ—В –≤–∞–ґ–љ—Л–є —Н–њ–Є–Ј–Њ–і, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–ї –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –њ—А–Њ—П—Б–љ—П–µ—В –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П. –Ю–љ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ–Њ–љ—П—В—М, —З—В–Њ –Ј–∞ –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є—О –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Є –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ, –Њ —З–µ–Љ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ъ–∞—А–∞–Љ—Л—И–µ–≤ –Є –С–∞—А–Љ–Є–љ, –Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –≤ –Ы—Г–≥–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤, –Є –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ–µ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Є–µ –ї—О–і–Є[153].
–Я–Њ–µ–Ј–і –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞ –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤ —Б –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –і–≤–∞-—В—А–Є —З–∞—Б–∞. –Ю–љ–Є –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –У–∞—В—З–Є–љ–µ, –≥–і–µ –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В —Б –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ. –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М—Б—П –њ–Њ –њ—Г—В–Є. –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М —Б—В—А–µ–ї–Ї—Г –≤ –У–∞—В—З–Є–љ–µ[154].
«–Т –Ы—Г–≥–µ –љ–∞—Б –Њ–њ—П—В—М –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є, — —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В—Г –≥–∞–Ј–µ—В—Л «–£—В—А–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є» 5 –Љ–∞—А—В–∞ (–Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –±—Л–ї–Њ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Њ –і–≤–∞ –і–љ—П —Б–њ—Г—Б—В—П), — –Є–±–Њ —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —В–Њ–ї–њ—Л –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Є –љ–∞—А–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –Р.–Ш. –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤»[155].
–Э–Њ –љ–µ –Љ–Є—В–Є–љ–≥–Њ–≤–∞—В—М –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ы—Г–≥–µ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ. –Ш–Ј –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞ –Њ–љ–Є –≤—Л–µ—Е–∞–ї–Є –≤–і–≤–Њ–µ–Љ, –Є—Е —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–∞ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞-–ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞. –Т –Я—Б–Ї–Њ–≤ –ґ–µ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є —Г–ґ–µ –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б–Њ–ї–і–∞—В —Б –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є –±–∞–љ—В–∞–Љ–Є.
–Э–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б–∞–Љ–Њ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ, —З—В–Њ –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–Є—Е –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ «–і–µ–ї–µ–≥–∞—В—Л» . –Э–∞ –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ —Н—В–Є –і–µ–ї–µ–≥–∞—В—Л —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –ї–Є—Б—В–Њ–≤–Ї–Є –Є –Љ–Є—В–Є–љ–≥–Њ–≤–∞–ї–Є —Б –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–є. –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –і–µ–ї–µ–≥–∞—В—Л –°–Њ–≤–µ—В–∞. –Ч–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є–Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤—Г, —З—В–Њ —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞–Љ–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ–µ-—Б–∞–ї–Њ–љ–µ –±—Л–ї–Є –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј «–і–µ–њ—Г—В–∞—В—Л», –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є—Б—М —Б –У—Г—З–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ—Л–Љ[156].
–Т—А—П–і –ї–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є–Ї, –і–∞ –Є –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ —В–Њ–љ–Ї–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Н—В–Є –ї—О–і–Є. –Э–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–µ–ї–µ–≥–∞—В–Њ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –љ–µ —П–≤–ї—П–ї—Б—П, –≤ —Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–µ–Ј–і–µ, –њ—А–Є–±—Л–≤—И–µ–Љ –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —Б–∞–Љ–Њ –Ј–∞ —Б–µ–±—П. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Љ –њ–Њ —И–Њ—Б—Б–µ –ґ–µ –Є–Ј –Ы—Г–≥–Є –љ–∞ –Я—Б–Ї–Њ–≤ –і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є. «–Ф–µ–њ—Г—В–∞—В—Л» –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Є —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Є —Б–≤–µ–ґ–Є–є –љ–Њ–Љ–µ—А «–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є–є».
–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є
–Ґ–∞–Ї «–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П» 2 –Љ–∞—А—В–∞ 1917 –≥. –Њ–Ї—А–µ—Б—В–Є–ї–Є –µ—Й–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–∞. –Т —Б—В–∞—В—М–µ «–Ь–Њ–ґ–µ—В –ї–Є –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—П –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е».»–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М: «–Х—Б–ї–Є –≤–ї–∞—Б—В—М –≤—А—Г—З–µ–љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е—Г, —Е–Њ—В—П –±—Л –Є –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г, –Є –µ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤—Г, —В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–Ї—Г—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –љ–∞—А–Њ–і–∞ <...> –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ—А–Є –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—О—В—Б—П –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–Є –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Њ–њ—П—В—М –Ї –≤–ї–∞—Б—В–Є –ї–Є—Ж, –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ—Г». –Т—Л–≤–Њ–і —Б—В–∞—В—М–Є –≥–ї–∞—Б–Є–ї: –њ–Њ–±–µ–і–Є–≤—И–µ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г –љ—Г–ґ–љ–∞ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞[157].
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤, –љ–∞ –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–µ –Є—Е —Г–ґ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Р.–Р. –Ь–Њ—А–і–≤–Є–љ–Њ–≤. –Ю–љ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ—А–Њ–≤–µ–ї –њ—А–Є–µ—Е–∞–≤—И–Є—Е –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–µ–Ј–і. –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –≤–∞–≥–Њ–љ–µ, –Є —Е–Њ—В—П –Њ–љ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є–µ—Е–∞–≤—И–Є—Е –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ—В–≤–µ–ї–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є–ї –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤—Г –≤ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –≤–∞–≥–Њ–љ, –њ–Њ—Б–ї–∞–љ—Ж—Л –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є —Б —Ж–∞—А–µ–Љ —Б –≥–ї–∞–Ј—Г –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї—Б—П —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А, —В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Т–∞–ґ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–є—В–Є –Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—О –Ј–∞–њ—А–Њ—Б—В–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —А—П–і–µ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Њ–≤, –љ–µ –Љ–Њ–≥. –≠—В–Є–Ї–µ—В –µ—Й–µ —Б–Њ–±–ї—О–і–∞–ї—Б—П, –Є —П–≤–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –∞—Г–і–Є–µ–љ—Ж–Є—О –Ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ—Б–µ–≤ –Љ–Њ–≥ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ —В—Г–і–∞ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї–Є.
–Ъ–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е, —Г–≤–Є–і–µ–≤, —З—В–Њ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –Ї —Ж–∞—А—О, –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: «“–Э—Г —З—В–Њ –ґ–µ <...> —Г –љ–∞—Б –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —В–∞–є–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–њ—Л—В–∞—В—М—Б—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б–≤–µ—А—Е—Г –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –≤—Б—В—А–µ—З–Є <...>
–Ґ–µ–њ–µ—А—М –ґ–µ –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–µ–Љ –Ј–і–µ—Б—М, –њ–Њ–Ї–∞ –Ј–∞ –љ–∞–Љ–Є –њ—А–Є—И–ї—О—В”. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Љ—Л, –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О —В–µ–њ–µ—А—М —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –њ—А–Њ–є—В–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ»[158].
–Ч–∞—В–Њ –®—Г–ї—М–≥–Є–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ. 5 –Љ–∞—А—В–∞ –Њ–љ –і–∞–ї –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –≥–∞–Ј–µ—В–µ «–£—В—А–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є», –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–≤ –≤–µ—А—Б–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б—В–∞–ї–∞ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є[159]. –Т –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1917 –≥. –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –і–∞–≤–∞–ї —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П –І—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ–є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–∞–і–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞[160]. –Ч–∞—В–µ–Љ –≤ —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П[161]. –Т –љ–Є—Е –Њ–љ —Г—З–µ–ї –≤—Б–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–і –У—Г—З–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –Є –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П —Б–љ—П—В—М –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —Е–Њ–і–µ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—П –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є.
–Т 1936 –≥. –≤ –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В–µ «–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є» –±—Л–ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і —Б–Љ–µ—А—В—М—О –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є –Э.–Р. –С–∞–Ј–Є–ї–Є, —Б—В–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –µ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В—Л[162].
–Э–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В —В–µ–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–і—Г—В –љ–µ –Њ—В –љ–Є—Е –Є –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—О.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –≤—Л—И–ї–Є –Є–Ј –≤–∞–≥–Њ–љ–∞ —Ж–∞—А—П, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Ѓ.–Э. –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤ 3 –Љ–∞—А—В–∞ –≤ 1.00 –њ–Њ—Б–ї–∞–ї –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —И—В–∞–±–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ь.–Т. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г: «–Х–≥–Њ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ—Л —Г–Ї–∞–Ј—Л –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г –°–µ–љ–∞—В—Г –Њ –±—Л—В–Є–Є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ –Ї–љ—П–Ј—О –У.–Х. –Ы—М–≤–Њ–≤—Г –Є –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ <...> –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–љ—П–Ј—О –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З—Г. –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Є–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –Ј–∞—В–µ–Љ (–Ї—Г—А—Б–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–∞. — –Ь.–°.) –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞—В—М –∞–Ї—В –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ <...> –Ь–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –Є —Г–Ї–∞–Ј—Л –њ–µ—А–µ–і–∞—О—В—Б—П –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ»[163].
–Т 2.57 –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї —В–µ–Ї—Б—В —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤–∞ –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–љ—П–Ј—О –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З—Г[164], –∞ –≤ 3.19 –љ–∞—З–∞–ї —А–∞—Б—Б—Л–ї–Ї—Г –µ–µ –≤—Б–µ–Љ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞–Љ[165]. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–ї, —З—В–Њ –њ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є –њ–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д—Г –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–Њ—Б–ї–∞–љ –њ–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д—Г –њ–Њ –∞—А–Љ–Є—П–Љ –Є –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ.
4 –Љ–∞—А—В–∞ «–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П» –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б–µ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–Ї «–Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞». –Ф–∞–ї–µ–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ: «–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є II –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї –Ї–љ—П–Ј—П –Ы—М–≤–Њ–≤–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–Љ-–њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–Њ–Љ. –Ґ–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤–∞».
–Ч–∞—В–µ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Њ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –≤—Б–µ–Љ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞–Љ, –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —И–ї–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є —Ж–∞—А—П –Є –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї—Б—П —В–µ–Ї—Б—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞, –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д—Г. –Ґ–µ–Ї—Б—В —Н—В–Њ—В –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–і–∞–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –Р.–Ш. –Э–µ–њ–µ–љ–Є–љ—Л–Љ[166].
–°—В–Њ–ї—М —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є «–Љ–∞—А—И—А—Г—В» –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –Є–Ј –Я—Б–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і –≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—О «–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є–є» –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Г–і–Є–≤–ї—П—В—М.
–Ъ–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –≤ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Б –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, 3 –Љ–∞—А—В–∞ –≤ 8.45 –Њ–± —Г–Ї–∞–Ј–∞—Е –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П—Е –Ы—М–≤–Њ–≤–∞ –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –У—Г—З–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ—Л–Љ «—Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—З–µ—А–∞ –Њ—З–µ–љ—М —И–Є—А–Њ–Ї–Њ <...> –і–∞–ґ–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г»[167], –∞ –≤–Њ—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—В—М –љ–µ —Б–њ–µ—И–Є–ї–Є.
–С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤—Л–є–і—П –Є–Ј –≤–∞–≥–Њ–љ–∞-—Б–∞–ї–Њ–љ–∞, –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –њ–Њ—Б–ї–∞–ї–Є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Г –Р–≤–µ—А—М—П–љ–Њ–≤—Г (–Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –±–ї–∞–љ–Ї–µ –љ–µ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В—М –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –і–∞–µ—В—Б—П –Ы—М–≤–Њ–≤—Г, –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В—Б—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З. «–Ь–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г–µ—В (–Ї—Г—А—Б–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–∞. — –Ь.–°.) –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ»[168].
–Ш—В–∞–Ї, –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ —Г–Ї–∞–Ј –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Ы—М–≤–Њ–≤–∞ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ (–Ј–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –±—Л–≤—И–µ–µ –≤ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–Є –і–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є), –њ–Њ–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–є 14 —З–∞—Б–∞–Љ–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М –Ј–∞ —З–∞—Б –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї –≤ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є «–њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞», –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В
–Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є, –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є —П–Ї–Њ–±—Л –≤ 15 —З–∞—Б–Њ–≤.
–•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–љ–Њ–Љ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О, –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –®—Г–ї—М–≥–Є–љ—Л–Љ –њ–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Є–Ј –Я—Б–Ї–Њ–≤–∞, –Њ–љ –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –љ–µ –Њ–±–Љ–Њ–ї–≤–Є–ї—Б—П –Њ–± —Г–Ї–∞–Ј–µ –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Ы—М–≤–Њ–≤–∞.
–≠—В–Њ –Є –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Ы—М–≤–Њ–≤–∞ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б–∞–Љ –њ–Њ —Б–µ–±–µ, –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ, —З–∞—Б —Б–њ—Г—Б—В—П, –Њ—В—А–µ–Ї—Б—П. –Э–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї-—В–Њ, –±—Г–і—Г—З–Є –µ—Й–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–љ—Л–Љ. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–Є –ї–µ–≥–Є—В–Є–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є—В—Г–ї–∞ –і–ї—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В—М—О, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ, —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ —Б–µ–±—П —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–≤—И–µ–є, –Є –±—Л–ї –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞.
–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Ы—М–≤–Њ–≤–∞ –≥–ї–∞–≤–Њ–є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б—В–∞–ї –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ –њ—А–µ—В–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –І—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ–є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1917 –≥.
–У—Г—З–Ї–Њ–≤ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ –і–∞—В—М —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М. –І–ї–µ–љ—Л –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –≤—Б–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Є —Г–Ј–љ–∞—В—М, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ы—М–≤–Њ–≤ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞, –Ї—В–Њ –і–∞–≤–∞–ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П –У—Г—З–Ї–Њ–≤—Г —Б—В–∞–≤–Є—В—М —Н—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –њ–µ—А–µ–і –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ, –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –Є–ї–Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ? –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —О–ї–Є–ї. –Ю–љ, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –µ—Й–µ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ, –Є –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П —Б–Ї—А—Л—В—М —Д–∞–Ї—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ –љ–Њ—З–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞—Е —Б –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –≤ –љ–Њ—З—М –љ–∞ 2 –Љ–∞—А—В–∞, —Е–Њ—В—П —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –і–Њ–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е — –Э.–Ф. –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤ — –≤ —Н—В–Є—Е –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞—Е —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Є –±—Л–ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Њ—Б–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ, –Њ —З–µ–Љ —В–∞–Љ —И–ї–∞ —А–µ—З—М.
–У—Г—З–Ї–Њ–≤ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ –ї–Є—Ж–Њ, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П. –Ы–Є—Ж–Њ —Н—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ «–і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М—Б—П —Б —В–µ–Љ–Є, –Ї–Њ–≥–Њ –Њ–љ–Њ –ґ–µ–ї–∞–µ—В –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є—В—М, –∞ —В–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–Њ–≥–Њ, —Б –Ї–µ–Љ –Њ–љ–Є —Е–Њ—В—П—В –Є–і—В–Є –Є –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ». –Э–∞ —Н—В–Њ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–ї –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В.
–°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤ —В–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞, –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є—П –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–∞ —В–∞–Ї: –µ—Б–ї–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—Б—П –љ–∞ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ, «–Њ–љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є—В –њ—А–µ–Љ—М–µ—А-–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞, –Є —Г–ґ–µ —Н—В–Њ—В –њ—А–µ–Љ—М–µ—А –њ–Њ–і–±–µ—А–µ—В –≤–µ—Б—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤. –Э–Њ –≤ –љ–Њ—З—М —Б–Њ 2-–≥–Њ –љ–∞ 3-–µ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –Є–љ–Њ–µ. –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А –Є –≤–µ—Б—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –±—Л–ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ –љ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–Љ, –Њ—В—А–µ–Ї—И–Є–Љ—Б—П –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞, –∞ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ».
«–Э–µ—В, –Є–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ, — –≥–Њ—А—П—З–Є–ї—Б—П –У—Г—З–Ї–Њ–≤, — <...> –Љ—Л –њ–Њ–і–∞–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—О, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤ –µ–Љ—Г –ї–Є—Ж–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є—В—М –Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ–Љ <...> –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Ї–љ—П–Ј—М –Ы—М–≤–Њ–≤ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–Љ, —П —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї, –∞ –љ–µ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ».
–Ґ–Њ–≥–і–∞ –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –ї–Є –±—Л–ї–Њ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В—Г, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–≤—И–µ–Љ—Г –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Ы—М–≤–Њ–≤–∞, –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –µ–≥–Њ, –Є–ї–Є –ґ–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ?
–У—Г—З–Ї–Њ–≤ –≤ –Њ—В–≤–µ—В –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ы—М–≤–Њ–≤–∞ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О: «—П –і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ —В–Њ—В –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В, —В–Њ—В –Ї—А—Г–ґ–Њ–Ї –ї–Є—Ж, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї –≤–Њ–є—В–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –і–Њ–ґ–і–µ—В—Б—П –Љ–Њ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Є —В–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П –≤–µ–Ј—Г».
–Э–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї-—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ. «–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–µ—Й–µ–є –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ, — —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М, — —З—В–Њ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї –Ї–љ[—П–Ј—П] –Ы—М–≤–Њ–≤–∞ –≤–љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —А–µ—И–µ–љ–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П?» –У—Г—З–Ї–Њ–≤—Г –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М, –Ї–∞–Ї: «–°–њ—А–Њ—Б–Є—В–µ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В».
«–ѓ —Е–Њ—З—Г –Ј–љ–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –≤—Л –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ, —П –≤–∞—Б —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О, –Ї–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П», — –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤. –У—Г—З–Ї–Њ–≤—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–ї –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Ы—М–≤–Њ–≤–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є. –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤ —Е–Њ—В–µ–ї –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–љ–∞—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ (–≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –Њ–љ —Е–Њ—В–µ–ї —Г—П—Б–љ–Є—В—М, –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї–∞ –ї–Є —Н—В–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –љ–∞ –Є—Б—Е–Њ–і —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –Є –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –≤ –љ–Њ—З—М –љ–∞ 3 –Љ–∞—А—В–∞).
–У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ 10 —З–∞—Б–Њ–≤, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–∞, —В–Њ—З–љ–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ: –≥–і–µ-—В–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–µ—Б—П—В—М—О –≤–µ—З–µ—А–∞ –Є —З–∞—Б–Њ–Љ –љ–Њ—З–Є. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: «–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Т—Л –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М, <...> –Т–∞–Љ –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Г–Ј–љ–∞—В—М, –Ї–µ–Љ –Т—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л, –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –Є–ї–Є –Ї–љ[—П–Ј–µ–Љ] –Ы—М–≤–Њ–≤—Л–Љ?»
–У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П, –µ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –Є –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ. –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Н—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ: «–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ –Т—Л –Є–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є —Г–±–µ–і–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ –Т—Л –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –љ–µ –Ї–љ[—П–Ј–µ–Љ] –Ы—М–≤–Њ–≤—Л–Љ, –∞ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ. –Т—Л –±—Л–ї–Є –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –љ–µ –њ–Њ —В–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Т—Л —Г–µ—Е–∞–ї–Є, –Є –≥–і–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞, –∞ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–µ—В —Б–Њ—Б—В–∞–≤?»
–Э–∞ —Н—В–Њ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –і–∞–≤–∞–ї —В—Г–Љ–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ —Б –љ–Є–Љ —А–∞–љ—М—И–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Њ—В –љ–µ–≥–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ. –Ъ–∞–Ї –љ–Є –Ј–∞–њ–Є—А–∞–ї—Б—П –У—Г—З–Ї–Њ–≤, –µ–Љ—Г –≤—Б–µ –ґ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ —Г—В—А–Њ–Љ 2 –Љ–∞—А—В–∞ –Њ–љ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Є –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Л—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –Є –Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.
–Я–Њ—В–Њ–Љ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є: «–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞—И–µ–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Ї–љ—П–Ј—П –Ы—М–≤–Њ–≤–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ — –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –∞–Ї—В–∞ –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є –Є–ї–Є –і–Њ —В–Њ–≥–Њ?» –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: «–Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ». –Х–≥–Њ —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є: «–Э–Њ —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М —Б–Ї—А–µ–њ–Є–ї?» –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П. «–Ч–љ–∞—З–Є—В, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М —Г–ґ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї –±—Л—В—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–Љ?» — «–Т –µ–≥–Њ –≤–ї–∞—Б—В–Є –µ—Й–µ –±—Л–ї –∞–Ї—В», — —В—Й–µ—В–љ–Њ –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В—М—Б—П –У—Г—З–Ї–Њ–≤[169].
–Э–Њ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –ї–≥–∞–ї. –Ь—Л –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є —Н—В–Њ—В –і–ї–Є–љ–љ—Л–є –і–Є–∞–ї–Њ–≥. –Ш–Ј –љ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –≤–Є–і–љ–Њ, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–µ—А–Є—В—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є. –Э–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ.
–°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ы—М–≤–Њ–≤–∞, –∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –±—Л–ї –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є.
–Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ–Љ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞—В—М —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є—В—М –і–Є–∞–ї–Њ–≥, —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ —Б–њ–Є—Б–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –Ы—М–≤–Њ–≤—Л–Љ. –Э–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–Є —Б—В—А–Њ–Є–ї—Б—П —В–∞–Ї–Њ–є –і–Є–∞–ї–Њ–≥, –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М —В–∞–Ї–Є–Љ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –µ–≥–Њ —А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї–Є –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –≥–∞–Ј–µ—В–љ–Њ–Љ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П—Е.
–Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞-–У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–љ–Њ–Љ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–є —И–Є—А–Њ–Ї—Г—О –Њ–≥–ї–∞—Б–Ї—Г –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –µ–µ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –і–µ–ї–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П–ї–Њ —В–∞–Ї.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ—Ж—Л –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤, –Њ–љ–Є —Б—А–∞–Ј—Г –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ —Б–∞–ї–Њ–љ-–≤–∞–≥–Њ–љ —Ж–∞—А—П. –Ґ–∞–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –§—А–µ–і–µ—А–Є–Ї—Б –Є –µ—Й–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї. –Я–Њ—В–Њ–Љ —П–≤–Є–ї—Б—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є. «–Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П (–Є–Љ–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ «–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П». — –Ь.–°.), –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ—И–µ–ї –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є, –Є, –Є–Ј–≤–Є–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –њ–µ—А–µ–і –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–Љ (–≤–Є–і–Є–Љ–Њ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —П–≤–Є–ї—Б—П –±–µ–Ј –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П. — –Ь.–°.), –њ–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б –љ–∞–Љ–Є».
–У—Г—З–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б –і–ї–Є–љ–љ—Г—О —А–µ—З—М, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –Є–Ј —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Њ –±—Л –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П —Б –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ —А–µ–≥–µ–љ—В–∞ — –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞.
–Я—А–Є —Н—В–Є—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—Е –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є —И–µ–њ–љ—Г–ї –®—Г–ї—М–≥–Є–љ—Г –љ–∞ —Г—Е–Њ: «–≠—В–Њ —Г–ґ–µ –і–µ–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–µ». –Ч–∞—В–µ–Љ —Ж–∞—А—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–љ —Г–ґ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ.
–Ф–Њ 3 —З–∞—Б–Њ–≤ –і–љ—П –Њ–љ –±—Л–ї –≥–Њ—В–Њ–≤ –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Б—Л–љ–∞, –љ–Њ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ —А–∞—Б—Б—В–∞—В—М—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б—Л–љ–Њ–Љ –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ, –Є —А–µ—И–Є–ї –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –±—А–∞—В–∞.
–Я—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—Б—В–∞–ї–Њ –і–µ–ї–µ–≥–∞—В–Њ–≤ –≤—А–∞—Б–њ–ї–Њ—Е. –Ю–љ–Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є —З–µ—В–≤–µ—А—В—М —З–∞—Б–∞, —З—В–Њ–±—Л –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–∞–µ–і–Є–љ–µ. –¶–∞—А—М —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–∞ –љ–µ –њ–Њ–љ–∞–і–Њ–±–Є–ї–Њ—Б—М.
«–Э–µ –њ–Њ–Љ–љ—О —Г–ґ, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А —Б–љ–Њ–≤–∞ –Ј–∞–≤—П–Ј–∞–ї—Б—П, –Є –Љ—Л –Њ—З–µ–љ—М —Б–Ї–Њ—А–Њ —Б–і–∞–ї–Є —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О». –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –њ—А–Є–љ—П–ї –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –Ї —Б–µ—А–і—Ж—Г —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –Њ—В—Ж–∞ –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –≤ –ї–Є—Ж–µ —Ж–∞—А—П «–њ—А–Њ–Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–Њ —Б–ї–∞–±–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ».
–®—Г–ї—М–≥–Є–љ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї—Б—П —В–µ–Љ–Є –ґ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞–Љ–Є —Б–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П: –µ—Б–ї–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Њ—В–ї—Г—З–∞—В –Њ—В –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞, –Њ–љ –≤–Њ–Ј–љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–Є—В —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —А–∞–Ј–ї—Г—З–Є–ї –µ–≥–Њ —Б –љ–Є–Љ–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –®—Г–ї—М–≥–Є–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Љ–Њ–љ–∞—А—Е –њ—А–Є—Б—П–≥–љ—Г–ї –љ–∞ –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —А–µ–≥–µ–љ—В –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Ј–∞ –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —Ж–∞—А—П. –Э–Њ –њ—А–Є –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ —Н—В–Њ –љ–µ—Г–і–Њ–±—Б—В–≤–Њ —Г—Б—В—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П.
«–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, — –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –®—Г–ї—М–≥–Є–љ, — –Љ—Л –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –љ–∞ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞». –Я–Њ—В–Њ–Љ –і–µ–ї–µ–≥–∞—В—Л –Ј–∞–≤–µ—А–Є–ї–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ –≤—Л–Ј–Њ–≤–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В —Б—В—А–∞–љ—Г.
–Ч–∞—В–µ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –≤—Л—И–µ–ї, –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ 23.15 –Є –њ—А–Є–љ–µ—Б —Б —Б–Њ–±–Њ–є –∞–Ї—В –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П. –Я—А–Њ—З–Є—В–∞–≤ —В–µ–Ї—Б—В, –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ –Њ –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–Є –±—А–∞—В—Г –њ—А–∞–≤–Є—В—М —Б—В—А–∞–љ–Њ–є –≤ –µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є —Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е –≤—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Д—А–∞–Ј—Г: «–њ—А–Є–љ–µ—Б—П –≤ —В–Њ–Љ –≤—Б–µ–љ–∞—А–Њ–і–љ—Г—О –њ—А–Є—Б—П–≥—Г». –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї, –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–≤ —Б–ї–Њ–≤–Њ «–≤—Б–µ–љ–∞—А–Њ–і–љ—Г—О» –љ–∞ «–љ–µ–љ–∞—А—Г—И–Є–Љ—Г—О».
«–Р–Ї—В –±—Л–ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ –љ–∞ –і–≤—Г—Е –Є–ї–Є —В—А–µ—Е –ї–Є—Б—В–Њ—З–Ї–∞—Е –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞—В–∞ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–Є—И—Г—Й–µ–є –Љ–∞—И–Є–љ–Ї–Є. –Э–∞ –Ј–∞–≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ –ї–Є—Б—В–µ —Б—В–Њ—П–ї–Њ —Б–ї–µ–≤–∞ —Б–ї–Њ–≤–Њ: “–°—В–∞–≤–Ї–∞”, –∞ —Б–њ—А–∞–≤–∞ “–Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —И—В–∞–±–∞”. –Я–Њ–і–њ–Є—Б—М –±—Л–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ».
–Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –і–µ–ї–µ–≥–∞—В—Л –Њ–і–Њ–±—А–Є–ї–Є –∞–Ї—В, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ «–Њ–±–Љ–µ–љ —А—Г–Ї–Њ–њ–Њ–ґ–∞—В–Є–є» (–Ї–∞–Ї —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ! — –Ь.–°.), –љ–Њ, «–Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Н—В–Њ–≥–Њ –Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ». –¶–∞—А—М –±—Л–ї «—Б–Ї–Њ—А–µ–µ –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–µ–љ, —З–µ–Љ —Е–Њ–ї–Њ–і–µ–љ». (–Ґ—А—Г–і–љ–Њ –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В—М, —З—В–Њ —Н—В–∞ –ґ–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П —А—Г–Ї–∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞ –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї: «–Ъ—А—Г–≥–Њ–Љ –Є–Ј–Љ–µ–љ–∞ –Є —В—А—Г—Б–Њ—Б—В—М, –Є –Њ–±–Љ–∞–љ». — –Ь.–°.)
«–Ъ–∞–Ї–∞—П –Ј–ї–Њ–±–∞ —Г —Н—В–Є—Е –і–≤—Г—Е –ї—О–і–µ–є»
–° –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–Љ –±—Л–ї–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤–≤–Є–і—Г «–±—Г—А–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞» –±—Г–і–µ—В –і–≤–∞ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞ –∞–Ї—В–∞, –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—А—Г—З–љ–Њ. –Я–µ—А–≤—Л–є —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А –љ–∞ –ї–Є—Б—В–Њ—З–Ї–∞—Е –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞—В–∞ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —Г –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т—В–Њ—А–Њ–є —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А –љ–∞ –ї–Є—Б—В–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞—В–∞, —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –љ–∞ –њ–Є—И—Г—Й–µ–є –Љ–∞—И–Є–љ–Ї–µ, –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ –Є —Б–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–є –§—А–µ–і–µ—А–Є–Ї—Б–Њ–Љ, –і–µ–њ—Г—В–∞—В—Л –≤–Ј—П–ї–Є —Б —Б–Њ–±–Њ–є, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї—Г –≤ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є. –Я–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–і–µ —Н—В–Њ—В —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є –≤ –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–µ —А—Г–Ї–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї—Б—П «–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є»[170].
–Ґ–∞ –ґ–µ –≤–µ—А—Б–Є—П, –љ–Њ –≤ «–Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ», —Б –Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –®—Г–ї—М–≥–Є–љ—Л–Љ –≤ 1925 –≥. –≤ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ «–Ф–љ–Є»[171]. –Ъ–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ —Н—В–Њ–є —Г–ґ–µ —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ.
–Т –Љ–∞—А—В–µ 1917 –≥. –®—Г–ї—М–≥–Є–љ —Г–≤–µ—А—П–ї, —З—В–Њ «–љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–∞ –≤—Б–µ–Љ–Є»[172]. –Т —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –ґ–µ –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –±–µ—Б–њ–∞—А–і–Њ–љ–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —И–µ–ї –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –µ–≥–Њ –Љ—Г—З–Є–ї–∞ –Љ—Л—Б–ї—М: «–Ш –љ–µ–ї—М–Ј—П –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В—М? –Э–µ—В, –љ–µ–ї—М–Ј—П. –Ґ–∞–Ї –љ–∞–і–Њ. –Э–µ—В –≤—Л—Е–Њ–і–∞.» –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ, –®—Г–ї—М–≥–Є–љ «–њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ —Б —Н—В–Њ–є –Љ–Є–љ—Г—В—Л –ґ–Є–Ј–љ—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –≤ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ —И–Є–њ–Њ–≤, –≤–Њ–љ–Ј–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л—Е, –≤—Л—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Н—В–Є–Љ –ї–Њ—Б–Ї—Г—В–Ї–Њ–Љ –±—Г–Љ–∞–≥–Є» –Є –њ—А–Њ—З–Є–µ –њ–µ—А–ї—Л –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –ґ–µ –і—Г—Е–µ[173].
–Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В —Н—В–Њ—В –њ–∞—Б—Б–∞–ґ, –µ—Б–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—М –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1917 –≥. –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З, –≤—Б—В—А–µ—В–Є–≤ –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞ –Є –Ь.–Ш. –Ґ–µ—А–µ—Й–µ–љ–Ї–Њ (–±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞), –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ: «–Ъ–∞–Ї–∞—П –Ј–ї–Њ–±–∞ —Г —Н—В–Є—Е –і–≤—Г—Е –ї—О–і–µ–є, –Ї –љ–µ–є, –Ї –љ–µ–Љ—Г (—В. –µ. –Ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–µ. — –Ь.–°.), –Є –Њ–љ–Є —Н—В–Њ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ —Б–Ї—А—Л–≤–∞—О—В, –Є –Њ–±–∞ –≤ –Њ–і–Є–љ –≥–Њ–ї–Њ—Б –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Ж–∞—А–µ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞»[174].
–Э–µ–ї–µ–њ–Њ—Б—В—М —Н—В–Є—Е –њ—Б–µ–≤–і–Њ–Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–ї–Є—П–љ–Є–є (–≤—А–Њ–і–µ «–њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ <.> –ґ–Є–Ј–љ—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –≤ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є») —И–Њ–Ї–Є—А—Г–µ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–љ–∞–µ—И—М, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —Н—В–Њ–є –Љ–Є–љ—Г—В—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є —Ж–∞—А—П —Б—В–∞–ї–∞ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—В—М —А–µ–∞–ї—М–љ–∞—П –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М: –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± –∞—А–µ—Б—В–µ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Э.–Р. –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–∞.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –µ—Й–µ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —Г–ґ–µ –Њ—В—А–µ–Ї—И–Є–є—Б—П —Ж–∞—А—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Ы—М–≤–Њ–≤–∞ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–µ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ, –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –ї–Њ–Љ–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–њ–Є–є –≤ –њ–µ—А–≤—Л—Е —З–Є—Б–ї–∞—Е –Љ–∞—А—В–∞ 1917 –≥., –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —З–Є—В–∞—В—М —Г –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞ –±–µ–Ј –Є—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Г–ї—Л–±–Ї–Є:
«–ѓ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О, –±—Л–ї–Њ –ї–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –њ—А–Є –љ–∞—Б, –Є–ї–Є –ґ–µ –љ–∞–Љ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ <...>.
–Э–Њ —П —П—Б–љ–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –њ—А–Є –љ–∞—Б —Г–Ї–∞–Ј –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г –°–µ–љ–∞—В—Г –Њ
–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ <...>.
–≠—В–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –њ–Є—Б–∞–ї —Г –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–∞ –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї:
— –Ъ–Њ–≥–Њ –≤—Л –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ?.
–Ь—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є:
— –Ъ–љ—П–Ј—П –Ы—М–≤–Њ–≤–∞.
–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є–µ–є, — —П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М:
— –Р—Е, –Ы—М–≤–Њ–≤? –•–Њ—А–Њ—И–Њ — –Ы—М–≤–Њ–≤–∞.
–Ю–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Є –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї»[175].
–Ґ—Г–ґ–µ –≤–µ—А—Б–Є—О –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї –Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –≤ –І—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ–є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є. –° –®—Г–ї—М–≥–Є–љ—Л–Љ –Њ–љ —А–∞—Б—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–µ—В–∞–ї—П—Е. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –У—Г—З–Ї–Њ–≤—Г, –≤ —Б–∞–ї–Њ–љ–µ-–≤–∞–≥–Њ–љ–µ –Њ–љ–Є –Ј–∞—Б—В–∞–ї–Є –§—А–µ–і–µ—А–Є–Ї—Б–∞ –Є –Э–∞—А—Л—И–Ї–Є–љ–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є—И–µ–ї –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є.
–Т—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ, –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞—П –љ–∞ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П, –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї: «–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—О –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М –њ—А–Є —Н—В–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Б—Л–љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –њ—А–Є –љ–µ–Љ –Є –њ—А–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є». –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А —Б –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–∞–Љ–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ, –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –ґ–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –і—Г–±–ї–Є–Ї–∞—В –±–µ–Ј –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П[176]. (–£ –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, –і–µ–ї–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П–ї–Њ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В.)
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П—Е –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–∞ —А–µ—З—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б –њ–µ—А–µ–і –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ. –°—Г—В—М —Н—В–Њ–є —А–µ—З–Є —Б–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г.
–У—Г—З–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є—О –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї, —З—В–Њ–±—Л –і–∞—В—М —Ж–∞—А—О —Б–Њ–≤–µ—В—Л, –Ї–∞–Ї –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є —Б—В—А–∞–љ—Г –Є–Ј «—В—П–ґ–µ–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П». –Т—Б—П–Ї–∞—П –±–Њ—А—М–±–∞ —Б –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –Њ—Е–≤–∞—В–Є–≤—И–Є–Љ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і, –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–∞ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–∞—П —З–∞—Б—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–µ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—О. –≠—В–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –њ—А–Є–Љ–µ—А —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–∞, –њ–µ—А–µ—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ф—Г–Љ—Л. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –і–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П —Б –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ —А–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–∞[177].
–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤–µ—А—Б–Є–Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞-–У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М «–Я—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ы»[178].
–Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, —Н—В–Њ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї. –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –љ–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П, –љ–Є –і–∞—В—Л, –љ–Є–Ї–µ–Љ –љ–µ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ. –≠—В–Њ—В –∞–њ–Њ–Ї—А–Є—Д –Є–Ј–ї–∞–≥–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, «–≤ –ї–Є—Ж–∞—Е» –ї–Њ–ґ–љ—Г—О –≤–µ—А—Б–Є—О –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞-–У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞. –Ґ–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є «–њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї» –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –≤ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ —А–µ—З—М –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Є –≤ –љ–µ–є –µ—Б—В—М –Њ–і–љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ: –і–µ–ї–µ–≥–∞—В—Л –њ—А–Њ—Б—П—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ї—А–∞–є–љ–Є–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л, –ї–Њ–Ј—Г–љ–≥–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Є –Њ–±–µ—Й–∞–≤—И–Є–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ –і–∞—В—М –Ј–µ–Љ–ї—О, —Б—З–Є—В–∞–ї–Є —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Ф—Г–Љ—Л –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є–Ј-–Ј–∞ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Е–Њ—В–µ–ї–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–∞–Ї –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В—М «–Ї—А–∞–є–љ–Є–Љ» —Б–Љ–µ—Б—В–Є «—Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е», —В. –µ. –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є—П —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –≤–Є–і–µ–ї–Є, –±—Л–ї–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–∞ –і–ї—П –°—В–∞–≤–Ї–Є. –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, —Н—В–Њ—В –∞–њ–Њ–Ї—А–Є—Д –±—Л–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Є—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е. (–Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –°—В–∞–≤–Ї–Є –С–∞–Ј–∞—А–µ–≤—Б–Ї–Є–є –≤ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Б –Х.–Ш. –Ь–∞—А—В—Л–љ–Њ–≤—Л–Љ, –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–љ–Є–≥–Є «–¶–∞—А—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В–µ», –њ–Њ—Б–ї–µ 1922 –≥. —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ «–њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї» —Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –≤ –і–µ–ї–∞—Е –µ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П[179].)
–І—В–Њ –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ –Њ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–µ
–Я–Њ–і 2-–Љ –Љ–∞—А—В–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ: «–Ш–Ј —Б—В–∞–≤–Ї–Є –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞. –Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Є–Ј –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞ –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —П –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –Є –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–є –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В. –Т —З–∞—Б –љ–Њ—З–Є —Г–µ—Е–∞–ї –Є–Ј –Я—Б–Ї–Њ–≤–∞ —Б —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В–Њ–≥–Њ»[180]. –Х—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Н—В–Њ–є –Ј–∞–њ–Є—Б–Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Г—Б–Њ–Љ–љ–Є—В—М—Б—П, –њ–Њ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї –ї–Є —Ж–∞—А—М –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В. –Э–Њ –Є–Ј –Ј–∞–њ–Є—Б–Є —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ–њ—А–µ–ї–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В, –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –Є –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–є. 3 –Љ–∞—А—В–∞ –≤ 0.28 –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А —И—В–∞–±–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Т.–У. –С–Њ–ї–і—Л—А–µ–≤ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –њ–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д—Г –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А—Г –°—В–∞–≤–Ї–Є –Р.–°. –Ы—Г–Ї–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г: «–Ь–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ. –Я–µ—А–µ–і–∞—З–∞ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ–∞ —Б–љ—П—В–Є–µ–Љ –і—Г–±–ї–Є–Ї–∞—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–Љ –±—Г–і–µ—В –≤—А—Г—З–µ–љ –і–µ–њ—Г—В–∞—В—Г –У—Г—З–Ї–Њ–≤—Г, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–∞ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–∞»[181].
–Ч–љ–∞—З–Є—В, «–і—Г–±–ї–Є–Ї–∞—В» –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї.
–Т1 —З–∞—Б –љ–Њ—З–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Є–Ј –Я—Б–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –°—В–∞–≤–Ї—Г, –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ —Г–µ—Е–∞–ї–Є –Є–Ј –Я—Б–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і –≤ 3 —З–∞—Б–∞ –љ–Њ—З–Є. –Э–µ —А–∞–љ–µ–µ 3. 19, –∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Є–Ј –°—В–∞–≤–Ї–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М —В–µ–Ї—Б—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –≤ «–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П—Е»[182]. –І—В–Њ –ґ–µ –і–µ–ї–∞–ї–Є –і–µ–њ—Г—В–∞—В—Л —Б –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ —В—А–µ—Е? –Т –І—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ–є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ —Г–µ—Е–∞–ї, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В.
–Т 1975 –≥. –Ј–∞ –≥–Њ–і –і–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є –і–µ–≤—П–љ–Њ—Б—В–Њ—Б–µ–Љ–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ —Г–±–µ–ґ–і–∞–ї –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Ь.–Ъ. –Ъ–∞—Б–≤–Є–љ–Њ–≤–∞, –∞–≤—В–Њ—А–∞ –Ї–љ–Є–≥–Є «–Ф–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —В—А–Є —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є –≤–љ–Є–Ј», —З—В–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї —В–µ–Ї—Б—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞, –њ—А–Є–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Л–є –Є–Љ –Є–Ј –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞. –Ь–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В —Н—В–Њ—В –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–њ–µ—З–∞—В–∞–љ —В—Г—В –ґ–µ —А–µ–Љ–Є–љ–≥—В–Њ–љ–Є—Б—В–Њ–Љ («–†–µ–Љ–Є–љ–≥—В–Њ–љ» — –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Є—И—Г—Й–µ–є –Љ–∞—И–Є–љ–Ї–Є. — –Ь.–°.) –°–∞–≤–µ–ї—М–µ–≤—Л–Љ[183]. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ—Л–Љ –љ–∞ –±–ї–∞–љ–Ї–µ –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞[184], –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В —Б —В–µ–Љ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ 4 –Љ–∞—А—В–∞ –≤ «–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П—Е». –Ф–∞ –Є –њ–µ—А–µ–њ–µ—З–∞—В—Л–≤–∞–ї –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В
–Р.–Ъ. –Ы–Њ–≥–Є–љ–Њ–≤[185]. –Ь—Л —Г–ґ–µ –≤–Є–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ —В–µ–Ї—Б—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞, –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–є –Э.–Р. –С–∞–Ј–Є–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Р.–°. –Ы—Г–Ї–Њ–Љ—Б–Ї–Є–Љ –Є –Њ—В—А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Ь.–Т. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Л–Љ, –±—Л–ї –њ—А–Є—Б–ї–∞–љ –Є–Ј –°—В–∞–≤–Ї–Є –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –і–µ—Б—П—В–Њ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ (—Н—В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞–Љ–∞–ї—З–Є–≤–∞–ї –†—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–љ–Њ–Љ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –Є –≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–љ—П–Ј—О –Р–љ–і—А–µ—О –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З—Г). –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В —В–µ–Ї—Б—В –Є –±—Л–ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г —В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є –≤ –°—В–∞–≤–Ї—Г, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞–Љ –Є –≤ –њ–µ—З–∞—В—М.
–Т –њ—А–Њ–µ–Ї—В–µ, –њ—А–Є—Б–ї–∞–љ–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М:
«–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ –Љ—Л –њ–µ—А–µ–і–∞–µ–Љ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ –љ–∞—И–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–Љ—Г —Б—Л–љ—Г –љ–∞—И–µ–Љ—Г <.> –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—О –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З—Г –Є –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П–µ–Љ –µ–≥–Њ –љ–∞ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –љ–∞ –±—А–∞—В–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –і–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–ї–µ—В–Є—П —Б—Л–љ–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ. –Ч–∞–њ–Њ–≤–µ–і—Г–µ–Љ —Б—Л–љ—Г –љ–∞—И–µ–Љ—Г, –∞ —А–∞–≤–љ–Њ –Є –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–ї–µ—В–Є—П –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—О –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –њ—А–∞–≤–Є—В—М –і–µ–ї–∞–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Є –љ–µ–љ–∞—А—Г—И–Є–Љ–Њ–Љ –µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є —Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е, –љ–∞ —В–µ—Е –љ–∞—З–∞–ї–∞—Е, –Ї–Њ–Є –±—Г–і—Г—В —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л».
–Т –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —В–µ–Ї—Б—В–µ —Н—В–Њ—В –њ–∞—Б—Б–∞–ґ –±—Л–ї –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є:
«–Э–µ –ґ–µ–ї–∞—П —А–∞—Б—Б—В–∞—В—М—Б—П —Б –ї—О–±–Є–Љ—Л–Љ —Б—Л–љ–Њ–Љ –љ–∞—И–Є–Љ, –Љ—Л –њ–µ—А–µ–і–∞–µ–Љ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ –љ–∞—И–µ –±—А–∞—В—Г –љ–∞—И–µ–Љ—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–љ—П–Ј—О –Ь–Є—Е–∞–Є–ї—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З—Г –Є –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П–µ–Љ –µ–≥–Њ –љ–∞ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ч–∞–њ–Њ–≤–µ–і—Г–µ–Љ –±—А–∞—В—Г –љ–∞—И–µ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В—М –і–µ–ї–∞–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Є –љ–µ–љ–∞—А—Г—И–Є–Љ–Њ–Љ –µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є —Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е –љ–∞ —В–µ—Е –љ–∞—З–∞–ї–∞—Е, –Ї–Њ–Є –±—Г–і—Г—В –Є–Љ–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л, –њ—А–Є–љ–µ—Б—П –≤ —В–Њ–Љ –љ–µ–љ–∞—А—Г—И–Є–Љ—Г—О –њ—А–Є—Б—П–≥—Г»[186].
–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –Є–Ј –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ —Г–і–∞–ї–Є–ї–Є, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Р.–Р. –Ь–Њ—А–і–≤–Є–љ–Њ–≤ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Ъ.–Р. –Э–∞—А—Л—И–Ї–Є–љ–∞, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є–Є, –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–ї–Є –≤ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–є –≤–∞–≥–Њ–љ —Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є[187]. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ. –£–і–∞–ї–µ–љ–Є–µ –Є–Ј —В–µ–Ї—Б—В–∞ —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –љ–∞ –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ: —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Є—Е —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–∞ —Н—В–Є–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В. –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –љ–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—О, –∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї—Г, —З—В–Њ –≤–Њ–њ–Є—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–ї–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–Њ–љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П. –Т —В–µ–Ї—Б—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–≤–µ–і–µ–љ–∞ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–∞: –љ–Њ–≤—Л–є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є –љ–µ—А—Г—И–Є–Љ—Г—О –њ—А–Є—Б—П–≥—Г –љ–∞ –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Г–і–µ—В –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–∞.
–°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л —Д–Њ—В–Њ–Ї–Њ–њ–Є–Є –і–≤—Г—Е —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ —Б –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М—О –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Є–Љ, –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ—Л –љ–∞ –њ–Є—И—Г—Й–µ–є –Љ–∞—И–Є–љ–Ї–µ –љ–∞ –ї–Є—Б—В–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞—В–∞. –Э–∞ –Њ–±–Њ–Є—Е —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞—Е –≤ –ї–µ–≤–Њ–Љ —Г–≥–ї—Г –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ «–°—В–∞–≤–Ї–∞». –Ч–∞—В–µ–Љ –њ–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–∞–≥–ї–∞–≤–Є—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ: «–Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —И—В–∞–±–∞». –Я–Њ—Б–ї–µ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–Љ —Г–≥–ї—Г –љ–∞ –Љ–∞—И–Є–љ–Ї–µ –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–Њ: «–≥. –Я—Б–Ї–Њ–≤ –Ь–∞—А—В–∞ —З–∞—Б –Љ–Є–љ 1917 –≥». –Т –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –љ–Є–ґ–љ–µ–Љ —Г–≥–ї—Г –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П. –Т –ї–µ–≤–Њ–Љ –љ–Є–ґ–љ–µ–Љ —Г–≥–ї—Г –њ–Њ–і –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –і–∞—В—Л –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —Б–Ї—А–µ–њ–∞ —З–µ—А–љ–Є–ї–∞–Љ–Є: «–Ь–Є–љ–Є—Б—В—А –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—К—О—В–∞–љ—В –§—А–µ–і–µ—А–Є–Ї—Б». –Ю–±–∞ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ, –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ, –≤–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –≤—А–µ–Љ—П: «2-–≥–Њ –Љ–∞—А—В–∞ 15 —З–∞—Б. –Љ–Є–љ. 1917 –≥.»[188]. –Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –ґ–µ, –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ —З–µ—А–љ–Є–ї–∞–Љ–Є, –≤—А–µ–Љ—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ –Є–љ–Њ–µ: «2-–≥–Њ –Љ–∞—А—В–∞ 15 —З–∞—Б. 5 –Љ–Є–љ. 1917 –≥.»[189]. –Э–Є –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Н—В–Є—Е —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤ –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –≤–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ —Д—А–∞–Ј—Л: «–Я—А–Є–љ–µ—Б—П –≤ —В–Њ–Љ –љ–µ–љ–∞—А—Г—И–Є–Љ—Г—О –њ—А–Є—Б—П–≥—Г». –Э–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–љ—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—В–Њ–Ї —Ж–∞—А—П –љ–∞ —Н—В–Є—Е —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞—Е –љ–µ—В.
–Ю—З–µ–љ—М —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –®—Г–ї—М–≥–Є–љ—Г, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –і–≤–∞ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞: —З–µ—А–љ–Њ–≤–Њ–є –љ–∞ –і–≤—Г—Е-—В—А–µ—Е —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ—Л—Е –±–ї–∞–љ–Ї–∞—Е –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞—В–∞ —Б –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Є —З–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–є, –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–љ—Л–є –љ–∞ –ї–Є—Б—В–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞—В–∞ —Б –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–љ–Њ–є –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М—О –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –Ј–∞–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–є –§—А–µ–і–µ—А–Є–Ї—Б–Њ–Љ, –Є –±–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Є—Е –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Њ–Ї.
–Ґ–Њ –ґ–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї –Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –®—Г–ї—М–≥–Є–љ —Г–≤–µ—А—П–ї, —З—В–Њ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Є –і—Г–±–ї–Є–Ї–∞—В, —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А –ґ–µ —Б –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ. –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–µ: –≤ —И—В–∞–±–µ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –і—Г–±–ї–Є–Ї–∞—В, –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –ґ–µ –≤–Ј—П–ї–Є —Б —Б–Њ–±–Њ–є –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–є —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А —Б –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П.
–Я–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–µ –і–≤–∞ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞: –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–є —Б –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–∞–Љ–Є –Є «–і—Г–±–ї–Є–Ї–∞—В», –∞ —В—А–Є: –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї —Б –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–∞–Љ–Є –Є –і–≤–∞ –і—Г–±–ї–Є–Ї–∞—В–∞, –њ—А–Є—З–µ–Љ —Б —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –ґ–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞ —Б –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–∞–Љ–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ, –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Њ–њ–µ—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ–њ–Є—П–Љ–Є –і–≤—Г—Е –і—Г–±–ї–Є–Ї–∞—В–Њ–≤.
–°–Ї–∞–ґ–µ–Љ —Б—А–∞–Ј—Г, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П—В –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ. –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–µ, –љ–µ —Б—Д–∞–±—А–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –ї–Є –Њ–љ–Є. –Т –І—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ–є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є, —З–µ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М, —З—В–Њ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Њ –Ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —И—В–∞–±–∞? –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: «–Э–µ—В, –∞–Ї—В –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –±—Л–ї –±–µ–Ј—Л–Љ—П–љ–љ—Л–Љ». «–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –≤—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–∞ —А—Г–Ї–Є –±–µ–Ј –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П?» –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї: «–С–µ–Ј –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П»[190].
–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–µ–ї–Њ –і–Њ—И–ї–Њ –і–Њ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –≤ –∞—А–Љ–Є—П—Е —Д—А–Њ–љ—В–∞ –∞–Ї—В–∞ –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ 4-–Љ —З–∞—Б—Г –љ–Њ—З–Є 3 –Љ–∞—А—В–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї —В–µ–Ї—Б—В –≤ –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤, –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –°—В–∞–≤–Ї—Г —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤ —В–µ–Ї—Б—В –∞–Ї—В–∞ –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є «—Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ, –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—П –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞».
–Ш–Ј –°—В–∞–≤–Ї–Є –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є: –∞–Ї—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є «—В–µ–Ї—Б—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ –њ–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д—Г –Њ—В –≤–∞—Б. –Э—Г–ґ–љ–Њ –ї–Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—В—М? –Ш–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є —В–∞–Љ –љ–µ—В»[191]. –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤ –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–≤–∞–ї, –љ—Г–ґ–µ–љ –ї–Є –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–Ї –Є –Ї–∞–Ї–Њ–є? –Х–Љ—Г –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –≤–µ—А–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–є –Є–Љ —В–µ–Ї—Б—В — —Н—В–Њ –Є –µ—Б—В—М –∞–Ї—В –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є.
–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –ґ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≥–∞–Ј–µ—В. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, «–£—В—А–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є» –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–Њ —В–µ–Ї—Б—В —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є —Б —И–∞–њ–Ї–Њ–є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–є –і–ї—П –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞: «–С–Њ–ґ—М–µ–є –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М—О, –Љ—Л, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Т—В–Њ—А–Њ–є.», –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –Љ–Њ–≥ –±—Л –љ–µ –Є–Љ–µ—В—М —В–Є—В—Г–ї–∞[192].
–Ю—В–≤–µ—В –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—О –І—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ–є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Ї—А–∞–є–љ–µ –≤–∞–ґ–µ–љ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ –і–∞–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—В—М —Д–∞–±—А–Є–Ї–∞—Ж–Є—О –∞–Ї—В–∞ –У—Г—З–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ—Л–Љ.
–Х—Б–ї–Є –∞–Ї—В –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –±—Л–ї «–±–µ–Ј—Л–Љ—П–љ–љ—Л–Љ» (—З—В–Њ, –Ї—Б—В–∞—В–Є —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ —Г–ґ–µ –љ–Њ–љ—Б–µ–љ—Б, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ –Ј–∞–≥–ї–∞–≤–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В, –љ–µ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ –љ–Є –Ї—В–Њ –Њ—В—А–µ–Ї–∞–µ—В—Б—П, –љ–Є –Њ—В —З–µ–≥–Њ –Њ—В—А–µ–Ї–∞–µ—В—Б—П –Є –љ–Є –њ–µ—А–µ–і –Ї–µ–Љ!), —В–Њ –і—Г–±–ї–Є–Ї–∞—В (–Є–ї–Є –і—Г–±–ї–Є–Ї–∞—В—Л) –±—Л–ї –±—Л —В–Њ–ґ–µ –±–µ–Ј—Л–Љ—П–љ–љ—Л–Љ. –Х—Б–ї–Є –ґ–µ –і—Г–±–ї–Є–Ї–∞—В—Л —Б–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї «–∞–Ї—В –±—Л–ї –Ј–∞—И–Є—Д—А–Њ–≤–∞–љ», —В–Њ –≤ –і—Г–±–ї–Є–Ї–∞—В–∞—Е –±—Л–ї –±—Л —И–Є—Д—А, –∞ –љ–µ —А–∞—Б—И–Є—Д—А–Њ–≤–Ї–∞.
–Х—Б–ї–Є –ґ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М, —З—В–Њ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ—Г–і–∞—З–љ–Њ –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П –Є –Є–Љ–µ–ї –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ –±–µ–Ј—Л–Љ—П–љ–љ–Њ–Љ—Г —В–µ–Ї—Б—В—Г, –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ, –њ—А–Є–і–∞–ї–Є –≤–Є–і —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –і–ї—П –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –њ–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д—Г, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ, –і–Њ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –µ–µ –Ј–∞—И–Є—Д—А–Њ–≤–∞–ї–Є, —Б–љ—П–ї–Є —Б –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Ї–Њ–њ–Є—О, –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М —Ж–∞—А—П, —В–Њ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–Њ–љ—Ж—Л –љ–µ —Б—Е–Њ–і—П—В—Б—П —Б –Ї–Њ–љ—Ж–∞–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ —Н—В–Њ –і—Г–±–ї–Є–Ї–∞—В, –µ—Б–ї–Є —В–µ–Ї—Б—В –Ї–Њ–њ–Є–Є –Є –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–∞ –љ–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞—О—В?
–Э–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ «–∞–Ї—В—Г –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П» –њ—А–Є–і–∞–љ–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –љ–µ—Г–і–∞—З–љ–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л. –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, —З—В–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б–ї–∞—В—М –∞–Ї—В –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—О –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ[193], –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –∞–і—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—О. –Ю–љ–∞ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–∞ –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–≤—И–∞—П—Б—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г.
–Р –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є II –њ–Њ-–Є–љ–Њ–Љ—Г –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї—П–ї —Б–≤–Њ–Є —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л. –≠—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–Є–і–љ–Њ –Є–Ј —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—А—Г—З–љ–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г 15 –Є 16 —З–∞—Б–∞–Љ–Є 2 –Љ–∞—А—В–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г.
–Т–љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ–љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, –Ї–Њ–Љ—Г –∞–і—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ — –Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –≤–Є–і–љ–Њ –љ–∞ —Д–∞–Ї—Б–Є–Љ–Є–ї–µ: «–Я—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—О –У–Њ—Б—Г–і. –Ф—Г–Љ—Л –Я—В–≥—А», —В. –µ. «–Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і»[194].
–°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–∞ —В–∞–Ї: «–Э–∞—И—В–∞–≤–µ—А—Е. –°—В–∞–≤–Ї–∞». «–Э–∞- —И—В–∞–≤–µ—А—Е» — —Н—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ «–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —И—В–∞–±–∞ –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ». –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–ї–Њ–≤–∞: «–°—В–∞–≤–Ї–∞. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —И—В–∞–±–∞», –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–Ї–Њ–њ–Є—П—Е, –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –ї—О–і—М–Љ–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—В–љ—Л–Љ–Є, –Є–±–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ «–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —И—В–∞–±–∞» —Ж–∞—А—М –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л –љ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї.
–Ф–∞–ї–µ–µ –±–µ–Ј–≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –і–∞—В–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—В—Б—Л–ї–∞–ї –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤ –Є–Ј —И—В–∞–±–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞, –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї: «–Я—Б–Ї–Њ–≤. –І–Є—Б–ї–Њ, –Љ–µ—Б—П—Ж. –І–∞—Б. –Ь–Є–љ—Г—В–∞». –Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –љ–Њ–Љ–µ—А —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, «1244 –С.»[195]. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М.
–Э–µ—В—А—Г–і–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–Ї–Њ–њ–Є—П—Е –љ–µ—В –љ–Њ–Љ–µ—А–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –±—Л –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –Ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–Ї–µ. –Ф–∞ –Є —Б–∞–Љ–∞ –і–∞—В–∞ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ: «2-–≥–Њ –Ь–∞—А—В–∞ 15 —З–∞—Б 5 –Љ–Є–љ 1917 –≥.» –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –≥–Њ–і –≤ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞—Е –љ–µ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї—Б—П, –∞ –µ—Б–ї–Є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї—Б—П, —В–Њ —Ж–Є—Д—А—Л –≥–Њ–і–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –і–љ—П –Љ–µ—Б—П—Ж–∞, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, «2-–≥–Њ –Љ–∞—А—В–∞ 1917 –≥.», –∞ –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Э–∞ —Д–Њ—В–Њ–Ї–Њ–њ–Є–Є –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –≤–Є–і–љ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–µ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ: «15 —З–∞—Б. 5 –Љ–Є–љ. 1917 –≥.» –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б–∞–Љ–Њ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –і–∞—В–Њ–є –±—Л–ї–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–Ї–∞ —В–µ–Ї—Б—В–∞.
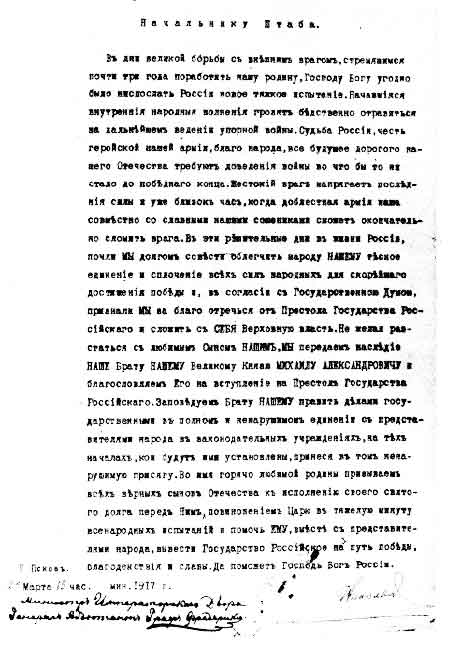
–Ф–Њ 24 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1929 –≥. –∞–Ї—В –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П (–Ї–∞–Ї–Њ–є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤, –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ) —Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –≤ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ –С–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–і–µ—Б—М —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞—З–∞–ї–∞ —А–∞—Б–Ї—А—Г—З–Є–≤–∞—В—М «–∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ».
–Ю–і–љ–Њ –Є–Ј –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —В–∞–є–љ–Њ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –∞–Ї—В –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П. –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ї–Њ–љ–≤–µ—А—В–µ —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О «–У.–Х. –°—В–∞—А–Є—Ж–Ї–Є–є» (–°—В–∞—А–Є—Ж–Ї–Є–є — –±—А–∞—В –ґ–µ–љ—Л –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞ –Т.–Ш. –Т–µ—А–љ–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б—Л–љ —Б–µ–љ–∞—В–Њ—А–∞ –Є —З–ї–µ–љ–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Х.–Я. –°—В–∞—А–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ) –Є –±—Л–ї –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ –≤ –Њ–њ–Є—Б–Є –њ–Њ–і –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—Й–Є–Љ –љ–µ–њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–Љ «607».
–°–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Є –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞, —Б—Б—Л–ї–∞—П—Б—М –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞—Е. –Э–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є, —Б—В—А–µ–Љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤–Њ —З—В–Њ –±—Л —В–Њ –љ–Є —Б—В–∞–ї–Њ «—Г—В–Њ–њ–Є—В—М» –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї–Є –љ–∞ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞. –≠—В—Г —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ–љ–Є –≤–Є–і–µ–ї–Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –Є–Љ–µ–ї –њ–Њ–і—З–Є—Б—В–Ї—Г. –ѓ.–°. –Р–≥—А–∞–љ–Њ–≤ –њ—А—П–Љ–Њ –Ј–∞—П–≤–Є–ї: «–Ф–∞—В–∞ –љ–∞ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II, –њ–Њ–і—З–Є—Б—В–Ї–∞»[196]. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–і—З–Є—Б—В–Ї–Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Т.–Т. –°—В—Г–њ–Є–љ–∞.
–Т –Љ–∞—А—В–µ 1917 –≥. –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї «–°–Њ–ї–љ—Ж–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є», –њ–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В–∞ –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –°—В—Г–њ–Є–љ–∞ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П. (–Я–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ –°—В–∞–≤–Ї–Є –≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ 2 –Љ–∞—А—В–∞ –≤ 23 —З–∞—Б–∞ –°—В—Г–њ–Є–љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —И—В–∞–±–µ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞. –Ю–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Б–≤—П–Ј—М —Б –Э.–Ш. –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ –≤ –Т—Л—А–Є—Ж—Г, –љ–Њ —Н—В–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ[197].)
–Т —Б–≤–Њ–µ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–µ –°—В—Г–њ–Є–љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –≤–µ—А—Б–Є—О, –љ–Њ –≤ –µ–≥–Њ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –µ—Б—В—М –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Є–≥–і–µ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—Й–Є–µ—Б—П.
–Т 23 —З–∞—Б–∞ –°—В—Г–њ–Є–љ–∞ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –Є–Ј —И—В–∞–±–∞ –љ–∞ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї. –Ш–Ј –≤–∞–≥–Њ–љ–∞ —Ж–∞—А—П –≤—Л–љ–µ—Б–ї–Є «—Г–ґ–µ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є —З–µ—А–љ–Њ–≤–Є–Ї –∞–Ї—В–∞, — —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї, — –Є –≤—А—Г—З–Є–ї–Є –Љ–љ–µ –і–ї—П –Ј–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞. –Т –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Љ–Њ–µ–Љ, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –С–Њ–ї–і—Л—А–µ–≤–∞, –∞–і—К—О—В–∞–љ—В–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞ –Я–Њ–ї–Ј–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Т–Є—И–љ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –≤—Л—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –њ–Є—Б–∞—А—П –Ы–Њ–≥–Є–љ–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –∞–Ї—В –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –Є –±—Л–ї –њ—А–Њ–і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–љ».
–Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤ –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї –°—В—Г–њ–Є–љ—Г –Њ—В–≤–µ–Ј—В–Є «–Њ–±–∞ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ –њ–Њ–µ–Ј–і –і–ї—П –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–Љ 2-–≥–Њ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞ –Є –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—Б–Є–≥–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–±–Њ–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –§—А–µ–і–µ—А–Є–Ї—Б–Њ–Љ». –Ъ–Њ–≥–і–∞ –°—В—Г–њ–Є–љ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є–Ј —И—В–∞–±–∞, –≥–і–µ –њ–µ—А–µ–њ–µ—З–∞—В—Л–≤–∞–ї—Б—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В, –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ–µ —Ж–∞—А—П –Њ–љ –Ј–∞—Б—В–∞–ї –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–∞ –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤–∞, –Э–∞—А—Л—И–Ї–Є–љ–∞, –§—А–µ–і–µ—А–Є–Ї—Б–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Ь–µ–і–Є–Њ–Ї—А–Є—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Я—Б–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Ъ–Є—А–њ–Є—З–µ–љ–Ї–Њ. –Э–∞—А—Л—И–Ї–Є–љ –≤–Ј—П–ї —Г –°—В—Г–њ–Є–љ–∞ –љ–µ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –µ—Й–µ —Ж–∞—А–µ–Љ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А –Є –≤—Л—И–µ–ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є –≤–∞–≥–Њ–љ.
–Т–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–≤—И–Є—Б—М –Њ—В—В—Г–і–∞ —Б —Г–ґ–µ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–Љ –∞–Ї—В–Њ–Љ, –Э–∞—А—Л—И–Ї–Є–љ –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї –°—В—Г–њ–Є–љ—Г –і–∞—В—М –Њ–±–∞ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞ –§—А–µ–і–µ—А–Є–Ї—Б—Г –і–ї—П —Б–Ї—А–µ–њ—Л. «–§—А–µ–і–µ—А–Є–Ї—Б –љ–µ—А–≤–љ–Є—З–∞–ї. –Ю–љ —Б—В–∞–ї —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –і–ї—П –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—Б–Є–≥–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Љ–∞–ї–Њ –Љ–µ—Б—В–∞. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —А–µ–Ј–Є–љ–Ї–Њ–є —Б—В–µ—А–µ—В—М —Б–ї–Њ–≤–Њ “–Я—Б–Ї–Њ–≤” –Є –≤–љ–Њ–≤—М –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤—Л—И–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –§—А–µ–і–µ—А–Є–Ї—Б –Є –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї –Њ–±–∞ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞».
–Ч–∞—В–µ–Љ –°—В—Г–њ–Є–љ –Њ—В–љ–µ—Б –Њ–±–∞ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞ –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ –Ї –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ. –Ю—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї –∞–Ї—В–∞ —Б –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–њ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ, –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ —И—В–∞–±–µ –≤ «–Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є», –і—А—Г–≥–Њ–є –ґ–µ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А –±—Л–ї –Њ—В–і–∞–љ –і–µ–њ—Г—В–∞—В–∞–Љ[198].
–Т —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ –љ–Њ–Љ–µ—А–µ «–°–Њ–ї–љ—Ж–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є» –±—Л–ї –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –њ–Є—Б–∞—А—П –Р.–Ъ. –Ы–Њ–≥–Є–љ–Њ–≤–∞ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Т–Є—И–љ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Б —В—А–µ—Е —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ—Л—Е –±–ї–∞–љ–Ї–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–і–Є–Ї—В–Њ–≤—Л–≤–∞–ї –µ–Љ—Г —В–µ–Ї—Б—В –∞–Ї—В–∞. –Ы–Њ–≥–Є–љ–Њ–≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–є –Њ—И–Є–±–Ї–Є «–Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і—З–Є—Б—В–Њ–Ї —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М»[199].
–Я—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П « –°–Њ–ї–љ—Ж–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є» –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–≤–µ—П—В—М —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П, –±—Г–і—В–Њ –≤ –і–µ–ї–µ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –µ—Б—В—М –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –љ–µ—П—Б–љ–Њ—Б—В–Є.
–£—Б—В–∞–Љ–Є –ґ–Є–≤—Л—Е, —Е–Њ—В—П –Є –≤—В–Њ—А–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ—Л—Е, –љ–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л—Е «—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е» —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞ –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М: –љ–Є—З–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—В. –Я–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Є–Ї –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П —Б–Њ —Б–ї–µ–і–∞–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞–і –љ–Є–Љ —Ж–∞—А—П (–Ї–∞–Ї –Є –њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Г–±–µ–і–Є—В—М –≤—Б–µ—Е –®—Г–ї—М–≥–Є–љ) –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ –≤ —И—В–∞–±–µ, –і—Г–±–ї–Є–Ї–∞—В —Е–Њ—В—П –Є –Є–Љ–µ–ї –њ–Њ–і—З–Є—Б—В–Ї–Є, –љ–Њ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –≤—Л–Ј–≤–∞–љ—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–Љ–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є.
–Ш—В–∞–Ї, –њ–Њ–і—З–Є—Б—В–Ї–Є –±—Л–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞–љ—Л –≤ —В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –і–∞—В–∞. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –°—В—Г–њ–Є–љ –љ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –µ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤–љ–Њ–≤—М –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М —Б–ї–Њ–≤–Њ «–Я—Б–Ї–Њ–≤». –Т–µ–і—М –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ —И—В–∞–±, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ. –Э–∞ —Д–Њ—В–Њ–Ї–Њ–њ–Є—П—Е –њ–Њ–і—З–Є—Б—В–Њ–Ї –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ, –љ–Њ –Ј–∞—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М, —З—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ «–Я—Б–Ї–Њ–≤» –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–Њ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ–Ї–µ, —Б –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є–Љ —И—А–Є—Д—В–Њ–Љ, —З–µ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —В–µ–Ї—Б—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞.
–£–ґ–µ —Б–∞–Љ —Д–∞–Ї—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і—З–Є—Б—В–Њ–Ї –Є –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є —Б —Д–Њ—А–Љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ —П—А–Ї–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ–є –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М —Б —В–µ–Љ–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є.
–Ъ–∞–Ї –ґ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ –љ–µ—Б—Г—А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В–Є? –°–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–Є –Њ–і–љ—Г–і–∞—В—Г,–∞–њ–Њ—В–Њ–Љ–њ–µ—А–µ–і—Г–Љ–∞–ї–Є,–њ–Њ–і—З–Є—Б—В–Є–ї–Є–Є–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –і—А—Г–≥—Г—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±–Њ–ї–µ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–∞ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ. –Т–µ–і—М –≤—А–µ–Љ—П «15 —З–∞—Б–Њ–≤» —П—Б–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ, —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ, –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є—П –њ–Њ—Б–ї–∞–љ—Ж–µ–≤ –Є–Ј –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞. –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –ї—Г—З—И–µ –њ–Њ–Љ–µ—В–Є—В—М –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –∞–Ї—В–∞ —Н—В–Є–Љ —З–∞—Б–Њ–Љ, –њ—А–Є—И–ї–Њ –љ–µ —Б—А–∞–Ј—Г –Є –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ —Б—В–Њ—П–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Г–Љ–∞–≥–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–∞.
–Э–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ. –Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —Е–Њ—В—П –Є –Љ–∞–ї–Њ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ —В–Њ—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Є –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і, –±—Л–ї –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ –Є–Љ–Є —Б–∞–Љ–Є–Љ–Є. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є, –Ї–∞–Ї —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В –Є–Ј –µ–≥–Њ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–∞, –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –Є–Љ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –Є –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–є —В–µ–Ї—Б—В. –Э–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Є–і–µ —А–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–≥ —Н—В–Њ—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –Њ–±—А–µ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г?
–Я–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞, –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –±—Л—В—М –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ[200], –Ј–∞—В–µ–Љ –Ї –љ–µ–Љ—Г –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є—В—М –њ–µ—З–∞—В—М –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А —О—Б—В–Є—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї –≤ –°–µ–љ–∞—В –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ «–њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –Є –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–є» –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ–Є–Љ —Ж–∞—А–µ–Љ —В–µ–Ї—Б—В –љ–µ –≥–Њ–і–Є—В—Б—П. (–Я—А–∞–≤–і–∞, 2 –Љ–∞—А—В–∞ –і–љ–µ–Љ –њ–Њ—А—В—Д–µ–ї—М –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ —О—Б—В–Є—Ж–Є–Є –±—Л–ї –≤—А—Г—З–µ–љ –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –≤ —Б–њ–Є—Б–Њ—З–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞, –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–≤ –љ–∞–Љ–µ—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —А–∞–љ–µ–µ –Т.–Р. –Ь–∞–Ї–ї–∞–Ї–Њ–≤–∞. –Ш —Н—В–Њ –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ! –Э–Њ –і–∞–ґ–µ –і–ї—П «—Б–≤–Њ–µ–≥–Њ» –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ —О—Б—В–Є—Ж–Є–Є –љ–µ–±–µ–ї–Њ–≤–Њ–є —В–µ–Ї—Б—В –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–≥ –±—Л —Б—В–∞—В—М –љ–µ—А–∞–Ј—А–µ—И–Є–Љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є: –≤–µ–і—М –Ї—А–Њ–Љ–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ —О—Б—В–Є—Ж–Є–Є –µ—Й–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Є —Б–µ–љ–∞—В–Њ—А—Л, —З–µ—А–µ–Ј —А—Г–Ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Њ–є—В–Є —Н—В–Њ—В –∞–Ї—В.)
–Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є —А–µ—И–Є–ї–Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –±–µ–ї–Њ–≤–Њ–є —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А —Б–∞–Љ–Є. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є, –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ —Г–µ—Е–∞—В—М –≤ –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤ –Є—Е —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є —З–µ—А–љ–Њ–≤–Є–Ї —Б –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–≤–∞ —З–Є—Б—В—Л—Е –ї–Є—Б—В–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞—В–∞ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М—О –Є —Б–Ї—А–µ–њ–Њ–є –§—А–µ–і–µ—А–Є–Ї—Б–∞.
–Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –≥—А–Њ–Љ–Њ–Ј–і–Ї–∞—П «—И–∞–њ–Ї–∞» –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –≤–µ—Б—М —В–µ–Ї—Б—В –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –ї–Є—Б—В–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –µ–Љ—Г –њ—А–Є–і–∞–ї–Є —Д–Њ—А–Љ—Г —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —И—В–∞–±–∞. (–Р –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Є–Љ, –љ–µ –±–µ–Ј —Г–Љ—Л—Б–ї–∞, —З—В–Њ —В–µ–Ї—Б—В –љ–∞–і–Њ –њ—А–Њ—В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–∞–≤–љ–Њ –ґ–і–µ—В –Њ—В–≤–µ—В–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ—О —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г.) –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—Б—В—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —В–∞–Ї –љ–µ–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–Є—В—М —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г —Б —В–µ–Ї—Б—В–Њ–Љ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–∞ –љ–µ–є –љ–µ–ї–µ–њ–Њ–µ –Є –і–ї—П —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Є –і–ї—П –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –≤—А–µ–Љ—П: «2 –Љ–∞—А—В–∞ 15 —З–∞—Б. 5 –Љ–Є–љ. 1917 –≥.».
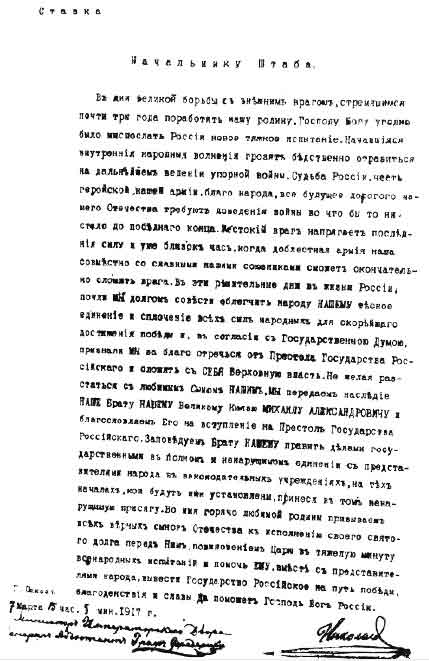
–Т—Б–µ —Н—В–Є –Љ–∞—Е–Є–љ–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Б–∞–Љ–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є –Њ–њ–µ—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ–њ–Є—П–Љ–Є: –љ–∞ –љ–Є—Е –љ–µ –≤—Б–µ –≤–Є–і–љ–Њ. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –њ–Њ–і—З–Є—Б—В–Ї–Є-—В–Њ –љ–µ —Г–≤–Є–і–Є—И—М.
–Э–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б. –Х—Б–ї–Є «—Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є» –∞–Ї—В–∞ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Б –µ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–Њ–є, –љ–µ –Њ—В–љ–µ—Б–ї–Є—Б—М –ї–Є –Њ–љ–Є —Б —В–Њ–є –ґ–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ–є –Ї —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —В–µ–Ї—Б—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –Є–Љ? –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –љ–µ –≤–љ–µ—Б–ї–Є –ї–Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –≤ —В–µ–Ї—Б—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞?
–І—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Є «–∞—А–≥–Њ–љ–∞–≤—В—Л»?
–®—Г–ї—М–≥–Є–љ –Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Г –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ «–љ–µ –ґ–µ–ї–∞—П —А–∞—Б—Б—В–∞—В—М—Б—П —Б –ї—О–±–Є–Љ—Л–Љ —Б—Л–љ–Њ–Љ <.> –њ–µ—А–µ–і–∞–µ–Љ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ –±—А–∞—В—Г»[201] –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–∞–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Э.–Р. –С–∞–Ј–Є–ї–Є, —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–≤—И–Є–є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є–µ–є –°—В–∞–≤–Ї–Є –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ, —Г–ґ–µ –≤ —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є, —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ–љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–Љ, –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: «–Я–Њ–Ї–∞ (–Ї—Г—А—Б–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–∞. — –Ь.–°.) –Љ–Њ–≥—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ» –Є –љ–∞—З–∞–ї –Є–Ј–ї–∞–≥–∞—В—М –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –≤–µ—А—Б–Є—О[202]. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –≤–Њ—В —З—В–Њ –≥–ї–∞—Б–Є–ї–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞, –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г: «–Я—А–Њ—Б–Є–Љ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—О –Ф—Г–Љ—Л –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ: “–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –і–∞–ї —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ (–Ї—Г—А—Б–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–∞. — –Ь.–°.) –љ–∞ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –≤–µ–ї. –Ї–љ. –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ <.> —Б –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є –њ—А–Є—Б—П–≥—Г –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є <.> —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В–µ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –і–µ–ї –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ”»[203].
–У—Г—З–Ї–Њ–≤—Г –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ—Г –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–є—В–Є —В–∞–Ї—Г—О —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г–Ј–∞–Ї–Њ–љ–Є–ї–∞ –±—Л –њ–µ—А–µ–і–∞—З—Г –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ —А—Г–Ї–Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Э–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л —Е–Њ—В–µ–ї –≤–њ–Є—Б–∞—В—М —Н—В–Њ—В «–њ–µ—А–≤—Л–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В» –≤ —А–∞–Љ–Ї–Є –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–Є, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є — –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –°–Њ–≤–µ—В–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –і–Њ–±–Є–≤–∞–ї—Б—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –і–Њ —Б–Њ–Ј—Л–≤–∞ –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П —Д–Њ—А–Љ–∞ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ –њ—А–µ–і—А–µ—И–∞–ї–∞—Б—М.
«–Э–∞—И–µ—О —Ж–µ–ї—М—О –±—Л–ї–Њ, — –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї—Б—П –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—О –І—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ–є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –ї–µ—В–Њ–Љ 1917 –≥., — –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Є –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є—О, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤—Б–µ —Д–∞–Ї—В–Њ—А—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –±—Л –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Г—О –Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–Є–ї—Г –Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є—Б—М –±—Л –љ–∞ —Н—В—Г –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є—О»[204]. –Т—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Є–Љ–µ–ї–Њ —В–Њ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–µ–і –≤–Њ—Ж–∞—А–µ–љ–Є–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П, —З—В–Њ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –±—Л–ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ –і–∞—В—М –њ—А–Є—Б—П–≥—Г –њ—А–∞–≤–Є—В—М –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —В–µ–Љ–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Г–і—Г—В —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л, –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Є–є –ґ–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є —В–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Є—Б—П–≥–Є –і–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥.
–У—Г—З–Ї–Њ–≤—Г –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є—О —Ж–∞—А—П –љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –У.–Х. –Ы—М–≤–Њ–≤—Л–Љ, –Є –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Б–њ–Є—Б–Њ—З–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ. –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –љ–Є–Ї–Њ–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –і–µ–ї–Є—В—М—Б—П —Б–≤–Њ–µ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В—М—О —Б –љ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Ж–∞—А–µ–Љ. –Ъ—В–Њ —Б—В–∞–љ–µ—В —Н—В–Є–Љ —З–Є—Б—В–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—А—И–µ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ –≤–∞–ґ–љ–Њ. –Э–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–Њ–≤—Л–є —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ –Є –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—В—А–µ–Ї—Б—П –Њ—В —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –њ–µ—А–µ–і–∞–≤ –µ–µ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г. –° —Н—В–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –±—Л–ї –њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–є. –Т–Њ—Ж–∞—А–µ–љ–Є–µ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±–µ–Ј–≤–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞, –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ –і–ї—П «—Г–Ї–Њ—А–µ–љ–µ–љ–Є—П» –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –і–∞–ґ–µ –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —Н—В–∞ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ —П–≤–љ–Њ –њ—А–Њ—Й–µ –Є –і–∞–≤–∞–ї–∞ –≤—Л–Є–≥—А—Л—И –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є; –∞ –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ—Ж–∞—А–µ–љ–Є–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Њ –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Г –і–ї—П –±–µ–Ј–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Д–Њ—А–Љ—Л –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П: –µ—Б–ї–Є –±—Л –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Г—Б—В—Г–њ–Є—В—М –°–Њ–≤–µ—В—Г, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Є–Љ–µ–ї –њ—А–∞–≤–Њ –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞, –∞ –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є — –љ–µ—В.
–Ф–µ–њ—Г—В–∞—В—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –љ–∞ —А—Г–Ї–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–Њ–Љ, –љ–Є–Ї–Њ–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –∞–Ї—В–Њ–Љ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –љ–µ —П–≤–ї—П–ї—Б—П. –Я–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ –Њ–љ–Є –љ–µ —Б—В–∞–ї–Є –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–∞ «–Љ–µ–ї–Њ—З–Є», –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П, —З—В–Њ –љ–µ —Н—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —З–µ—А–љ–Њ–≤–Њ–є —В–µ–Ї—Б—В —Б –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ, –љ–∞ —З—В–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–ї—Б—П –њ–Њ–є—В–Є —Ж–∞—А—М, –Є –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л —Н—В–Є–Љ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М—Б—П. –Ъ–∞–Ї –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ, –љ–Њ –∞–Ї—В–∞ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л –±—Л—В—М –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ—Б–њ–Њ—А–µ–љ —О—А–Є—Б—В–∞–Љ–Є, –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞ –Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М. –Ш —Н—В–Њ—В –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–є —Д–∞–Ї—В –љ–µ–ї—М–Ј—П «—Б–њ–Є—Б–∞—В—М» –љ–∞ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Э–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Њ–Љ –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є —Г–Љ—Л—Б–µ–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П: –Њ–љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —В–∞–Ї–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є –°–Њ–≤–µ—В «–Њ—В–≥—А—Л–Ј—Г—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л») –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Њ–±—К—П–≤–Є—В—М –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П –њ–Њ—В–Њ–Љ –Р.–Р. –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Д–Њ—А–Љ—Л –∞–Ї—В–∞ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П: «–Я—А–Є —Б–ї—Г—З–∞–µ —Н—В–Њ — –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–≤–Њ–і»[205]. –Ш –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ, –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–≤ –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–≤ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Њ—В–Ї—А—Л–≤ —Б–µ–±–µ –њ—Г—В—М –љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –љ–µ –≤ –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–µ, –≥–і–µ —В–Њ–Љ–Є–ї–∞—Б—М –ґ–µ–љ–∞ —Б –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –і–µ—В—М–Љ–Є, –∞ –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –≤ –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤, –≤ –°—В–∞–≤–Ї—Г, –і–∞–ґ–µ –љ–µ –і–Њ–ґ–і–∞–≤—И–Є—Б—М, –њ–Њ–Ї–∞ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –±—Г–і–µ—В –њ–µ—А–µ–і–∞–љ –њ–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д—Г. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —Ж–∞—А—М –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Л–Ј–Њ–≤–µ—В –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е –≤–µ—А–љ–Њ–њ–Њ–і–і–∞–љ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ, –њ–Њ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞—П —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ «—Д–Є–ї—М–Ї–Є–љ—Г –≥—А–∞–Љ–Њ—В—Г», –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–љ–µ—Б—В–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ. –Я–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –љ–µ –і–∞—Б—В –ї–µ–≤—Л–Љ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞–Љ –Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤–µ—А—Е –љ–∞–і —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В –Є–Љ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—О.
«–Т–Є–ї—П—О—Й–µ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ»
–Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –≤ —Б–∞–ї–Њ–љ–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ —А–µ—И–∞–ї–∞—Б—М —Б—Г–і—М–±–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–Њ–љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П, –≤ –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —В—А–Њ–љ–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б —Н—В–Њ—В —В–µ—Б–љ–µ–є—И–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –±—Л–ї —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –Њ —Б—Г–і—М–±–µ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Ю–Ї–Њ–ї–Њ 20 —З–∞—Б–Њ–≤ 2 –Љ–∞—А—В–∞ 1917 –≥. —З–ї–µ–љ—Л –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞ –°–Њ–≤–µ—В–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М –≤–љ–Њ–≤—М, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞. –Ч–∞ —Б—Г—В–Ї–Є, –њ—А–Њ—В–µ–Ї—И–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–µ—А–≤–∞–љ—Л, —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞—Б—М. –°–Њ–≤–µ—В –≤—Л–Є–≥—А–∞–ї –±–Њ—А—М–±—Г –Ј–∞ –∞—А–Љ–Є—О –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–µ–є, —З–µ–Љ –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ. –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –ґ–µ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –Ј–∞ –Є—Б—В–µ–Ї—И–Є–µ 24 —З–∞—Б–∞ —Б–≤–Њ–Є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —Б–і–∞–ї. –†–µ—З—М –Я.–Э. –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї –Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ —В—А–Њ–љ–∞ –Ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—О –њ—А–Є —А–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞, –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –њ—А–µ–ґ–і–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Њ–љ–∞ —Б—Л–≥—А–∞–ї–∞ —А–Њ–ї—М –њ—А–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–љ—П, —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є –ї–∞–Ї–Љ—Г—Б–Њ–≤–Њ–є –±—Г–Љ–∞–ґ–Ї–Є, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —З–µ—В–Ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М —Б–Є–ї—Г –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є –Њ–±–µ–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ –Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.
–†–µ—З—М –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤–∞ –Њ–±–Њ—Б—В—А–Є–ї–∞ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –µ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –Є –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Г –≤—Б–µ—Е –љ–∞ —Г—Б—В–∞—Е, —Б—В–∞–≤ —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ. –°—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є —Б–≤–Њ—О –ї–Є–љ–Є—О –≤ –Њ–±—Е–Њ–і –°–Њ–≤–µ—В–∞ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П—В–Њ —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В –Є–ї–Є, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –Ї–∞–Ї –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О. –Ш —Н—В–Њ –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В –°–Њ–≤–µ—В–∞ —А–µ–Ј–Ї–Њ —Г—Б–Є–ї–Є–ї—Б—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–∞. –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ—Г–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–Є –°–Њ–≤–µ—В–∞. –С–µ–Ј –љ–µ–µ –Њ–љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ —Г—В–≤–µ—А–і–Є—В—М—Б—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —З–ї–µ–љ—Л –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ —Б–њ–µ—И–Є–ї–Є –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤–∞ –Є –њ—А–Є–љ—П—В—М —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –і–Њ —Б–Њ–Ј—Л–≤–∞ –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —Д–Њ—А–Љ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ.
–°–≥–Њ–≤–Њ—А —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П
–°–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П, —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–≤—И–∞—П—Б—П –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ—З—М 3 –Љ–∞—А—В–∞, —Н—В–Њ–Љ—Г –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞. –§–Њ—А–Љ—Г–ї–∞ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ, –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–∞, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –љ–Є –њ–Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ –Р.–§. –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –µ–≥–Њ –Љ–∞—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л. –Ш–љ–∞—З–µ –Є –±—Л—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ: –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ- –љ–∞–њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –±—Л —З–µ—А–µ–Ј –Ы—Г–≥—Г, –≥–і–µ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ—Г—В—М –љ–∞ –Я—Б–Ї–Њ–≤ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А. –Э–Њ –љ–∞–і–Њ –Є–Љ–µ—В—М –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ «–∞—А–≥–Њ–љ–∞–≤—В—Л» –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Є –Ы—Г–≥—Г, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –≤ –љ–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ, —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –Є –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л—И–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Њ. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Э.–Э. –°—Г—Е–∞–љ–Њ–≤–∞, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ —Б –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ «–Є—Б–њ–Њ—А—В–Є–ї –Є–≥—А—Г –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–∞–Љ»[206]. –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –ґ–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ «—Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ —Г–і–∞—А–Њ–Љ, –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–∞–Љ–Є–Љ —Ж–∞—А–µ–Љ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –≤ —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ–Њ–і –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ»[207]. –° —Н—В–Є–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л—И–Њ –±—Л —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П, –µ—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Љ–µ—В—М –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ «–Є—Б–њ–Њ—А—В–Є–ї –Є–≥—А—Г» –Є –љ–∞–љ–µ—Б «—В—П–ґ–µ–ї—Л–є —Г–і–∞—А» –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ, –Ї—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї –µ–≥–Њ –Ї —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г —А–µ—И–µ–љ–Є—О. –Т—Б–µ –Ј–∞–Ї—Г–ї–Є—Б–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Г–ґ–µ 2 –Љ–∞—А—В–∞ –Њ–±—К—П–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Б–µ–±—П —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–Љ –Є «–Ј–∞–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є», –≤—Б–µ —Б–Ї—А—Л—В—Л–µ –∞–Ї—Ж–Є–Є –Љ–∞—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –Љ–∞–ї–µ–є—И–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є –≤ —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–ї—М–Ј—Г, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є—В—М —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г —А—Г—Б–ї—Г.
–Ъ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –Є –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —А–µ—И–∞—В—М –ґ–Є–≤–Њ—В—А–µ–њ–µ—Й—Г—Й–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–Є, –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В –≥—А—Г–њ–њ—Л –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М: «–Э–∞ –≤—Б–µ—Е —Г–ї–Є—Ж–∞—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–ї—Л—И–∞—В—М –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Њ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В —Г–ґ–µ –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –Є –љ–∞—А–Њ–і, –≤ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞—А–Њ–і—Г –≤–≤–µ—Б—В–Є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Б—В—А–Њ–є –Є —Б–Њ–Ј–≤–∞—В—М –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Л –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В, —З—В–Њ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —П—Б–љ–Њ –Є —В–Њ—З–љ–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–Є –і–∞—В—М –љ–∞—А–Њ–і—Г —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј–±—А–∞—В—М —Д–Њ—А–Љ—Г –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П»[208].
–Т –љ–Њ—З—М –љ–∞ –Ј –Љ–∞—А—В–∞ –±—Л—И –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б[209]. –Т –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є–Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —Г—В—А–Њ–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –љ–∞—З–љ–µ—В –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –Ї —Б–Њ–Ј—Л–≤—Г –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В —Д–Њ—А–Љ—Г –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є—О —Б—В—А–∞–љ—Л[210].
–≠—В–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ: –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Ї–Њ–≥–Њ –±—Л –љ–Є –Њ—В—А–µ–Ї—Б—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є, –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–∞ –≤–Њ–є–і–µ—В –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ —Б –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–Њ–Љ. –°–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–Є —Е–Њ—В—П –±—Л –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, –і–Њ —Б–Њ–Ј—Л–≤–∞ –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –±—Л —Б—А—Л–≤ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ. –Р –±–µ–Ј —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В —Б–њ–Є—Б–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л —Г—В–≤–µ—А–і–Є—В—М—Б—П.
«–Ф–Њ–ї–Њ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—О»
–Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–Ї—Б—В –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–і–∞–љ –њ–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д—Г –љ–∞ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї, –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В —А–∞—Б—И–Є—Д—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –њ—А–Є—Б–ї–∞—В—М –Є–Ј –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –њ—Г—В–µ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Љ–∞—И–Є–љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ї –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї—Г –њ–Њ–і–Ї–∞—В–Є–ї–Є –і–≤–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П —Б –і–≤—Г–Љ—П –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є –Є 15 —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ–Є. –Ґ–µ, –Ї—В–Њ —Г—Б–њ–µ–ї —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М –≤ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Є —А–∞—Б—И–Є—Д—А–Њ–≤–∞—В—М —В–µ–Ї—Б—В –µ–µ, –±—Л–ї–Є –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ—Л –Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж –Ї –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г. –Ґ–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—Б—В—Л –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П. –Ю–љ–Є –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —В–µ–Ї—Б—В –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ. –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–±—А–∞–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г —Б–µ–±–µ[211].
–Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ѓ.–Т. –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤, «–≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ—В –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј–Њ–≤» –Є «–Ј–∞–њ–∞—Б–љ–Њ–є —А—П–і–Њ–≤–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є», –Ї–∞–Ї –Њ–љ —Б–µ–±—П —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–ї —Н—В–Њ—В –љ–Њ—З–љ–Њ–є –∞—А–µ—Б—В —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞. –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤, «–∞–≤–∞–љ—В—О—А–Є—Б—В –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М—О –±–Њ–ґ—М–µ–є», –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї –Ї –Љ–∞—Б–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ –Ї—А—Г–≥–∞–Љ –Є –±—Л–ї –њ—А–∞–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є –Р.–Р. –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–∞ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ–Њ –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤—Г –њ—Г—В–µ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П. –Ч–∞–≤–µ–і—Г—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ-—В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А —Б—Л–≥—А–∞–ї –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –љ–Є–Ј–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П. –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –Љ–∞—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –Т –љ–Є—Е –≤—Б–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ —Б –љ–Њ–≥ –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –Э–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П —Н—В–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –і–∞—О—В –њ–Њ–љ—П—В—М, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –∞–≤—В–Њ—А –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П —Б–Ї—А—Л—В—М, –∞ —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤ –ї–Њ–ґ–љ–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ. –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤ –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞—В—Г—И–µ–≤—Л–≤–∞–ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б—В—А–µ–Љ—П—Б—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є—Е –Ї–∞–Ї –∞–Ї—Ж–Є–Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ: –Њ—В—А–Є—Ж–∞–ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Ї –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї—П—Ж–Є—П–Љ —Б —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Љ, –Ї —Б—А—Л–≤—Г –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Ж–∞—А—П –Є –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ. –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–ї –∞—А–µ—Б—В –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–∞ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –®–∞—Е–Њ–≤–∞ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —П–Ї–Њ–±—Л —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ —А–∞—Б—И–Є—Д—А–Њ–≤—Л–≤–∞–ї —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г —Б —В–µ–Ї—Б—В–Њ–Љ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П[212]. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –®–∞—Е–Њ–≤, –∞, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –®–Є—Е–µ–µ–≤, –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ —Б –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О: –љ–µ –і–∞—В—М –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є—В—М —Г –Љ–∞—Б–Њ–љ–Њ–≤ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤—Г –Є –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В—М —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є.
–Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –њ–Њ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д—Г —В–µ–Ї—Б—В –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞, –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Ы—М–≤–Њ–≤—Г. –Ю–љ —Е–Њ—В–µ–ї –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Ї –њ—А–Є—Б—П–≥–µ –≤–Њ–є—Б–Ї[213], –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Є –Ы—М–≤–Њ–≤ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Є –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–Є –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –њ—Г—В–µ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –≤ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ–Ї –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –і–Њ 6 —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–≤–Њ–і—Г —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П —Б –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Л–Љ, –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–µ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞—В—М –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—О –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –Њ –≤–Њ—Ж–∞—А–µ–љ–Є–Є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞. –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –≤ —Н—В–Є —З–∞—Б—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Є –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–∞ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М—Б—П, –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ—А–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї –і–ї—П —Б–µ–±—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О —В–∞–Ї: –і–Њ —Б–Њ–Ј—Л–≤–∞ –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П (–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–љ —Е–Њ—В–µ–ї –Њ—В–ї–Њ–ґ–Є—В—М –і–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –≤–Њ–є–љ—Л) –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –і—Г–Љ–∞, —А–∞—Б–њ—Г—Й–µ–љ–љ–∞—П —Ж–∞—А–µ–Љ, –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–Є—В —Б–≤–Њ–Є –Ј–∞–љ—П—В–Є—П. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–Љ –Њ–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В «–Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–∞–ї–∞—В—Л» (–Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ), –Є –њ—А–Є –љ–Є—Е —Б—В–∞–љ–µ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В —Б–њ–Є—Б–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ «–°–Њ–≤–µ—В–Њ–≤ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤», –∞ –љ–∞–і –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Є–Љ –±—Г–і–µ—В —Б—В–Њ—П—В—М –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –љ–Є–Љ —Б–∞–Љ–Є–Љ, –Ь.–Т. –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–∞—П –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–∞ –±—Л –Ь–Є—Е–∞–Є–ї—Г –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З—Г –≤ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–≤—И–µ–є—Б—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М —Г—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–∞—О—Й—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М.
–Т 6 —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –Ї –њ—А—П–Љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–≤–Њ–і—Г –Ь.–Т. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ «–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –≤ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ» –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В –і–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –Њ—В –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ «—Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є», –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–±–љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤—Л–Ј–≤–∞—В—М –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г. –Ъ–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Г—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞, –Ј–∞—П–≤–Є–ї –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, «–љ–Є –і–ї—П –Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ–∞». –°–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –Ф—Г–Љ—Л –њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї —В–∞–Ї: –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Њ—Ж–∞—А–µ–љ–Є–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –њ—А–Є —А–µ–≥–µ–љ—В–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–µ. «–°–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—М –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–Є—А–Є–µ: –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ —Б–Њ–Ј—Л–≤ –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, –∞ –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Є –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ –њ—А–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л –Є –У–Њ—Б—Б–Њ–≤–µ—В–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–∞ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–љ–µ—Б—В–Є —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є–µ –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є –љ–µ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П –љ–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Л –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —З–∞—Б—В–µ–є»[214].
–Т 8.45 –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –Ї –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г –Э.–Т. –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–Љ, –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –µ–Љ—Г —В—Г –ґ–µ –њ—А–Њ—Б—М–±—Г, —Б —В–µ–Љ–Є –ґ–µ –Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–Ї–∞–Љ–Є. –Э–∞ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –†—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–≤—И–Є–µ –і–µ–ї–µ–≥–∞—В—Л –љ–µ –±—Л—И–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л, –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –і–∞–ї —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ: «–Т—Б–њ—Л—Е–љ—Г–ї –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –љ–∞—Б —В–∞–Ї–Њ–є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є–є –±—Г–љ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –µ—Й–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —П –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї». –°–Њ–ї–і–∞—В—Л, –≤—З–µ—А–∞—И–љ–Є–µ –Љ—Г–ґ–Є–Ї–Є, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є «–Ј–µ–Љ–ї–Є –Є –≤–Њ–ї–Є», –Ї—А–Є—З–∞–ї–Є: «–Ф–Њ–ї–Њ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—О! –Ф–Њ–ї–Њ–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤!» –Т–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —З–∞—Б—В—П—Е –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Ј–±–Є–µ–љ–Є–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, «–Ї —В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–Є—Б—М –Є —А–∞–±–Њ—З–Є–µ, –Є –∞–љ–∞—А—Е–Є—П –і–Њ—И–ї–∞ –і–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –∞–њ–Њ–≥–µ—П». –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –і–Њ–ї–≥–Є—Е –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ —Б –і–µ–њ—Г—В–∞—В–∞–Љ–Є –Њ—В —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –љ–Њ—З—М—О —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–є—В–Є –Ї —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О. –Ю–љ–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –±—Г–і–µ—В —Б–Њ–Ј–≤–∞–љ–Њ –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ «–Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ, –Є –љ–Њ—З—М –њ—А–Њ—И–ї–∞ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ. –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—М –≤ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї, –љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –њ–Њ–і–Њ–ї—М–µ—В –Љ–∞—Б–ї–∞ –≤ –Њ–≥–Њ–љ—М, –љ–∞—З–љ–µ—В—Б—П –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В—М. –Ь—Л –њ–Њ—В–µ—А—П–µ–Љ –Є —Г–њ—Г—Б—В–Є–Љ –Є–Ј —А—Г–Ї –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М, –Є —Г—Б–Љ–Є—А–Є—В—М –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–µ –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –±—Г–і–µ—В –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г»[215].
–Ш–≥—А–∞ –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ
–Т 6.40 –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –њ–Њ—Б–ї–∞–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞–Љ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞—В—М –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞[216]. –Р –≤ 13.27 –Њ–љ —Б—В–∞–ї —А–∞—Б—Б—Л—И–∞—В—М —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г —Б –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Њ–є —Б–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ —Г–ґ–µ –Є–Љ–µ–ї —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ –±—Л—И–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–µ–µ, —Б–ї—Г—Е–Є –Њ —А–µ–Ј–љ–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ — «—Б–њ–ї–Њ—И–љ–Њ–є –≤–Ј–і–Њ—А». –°—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П—Е –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –љ–µ –±—Л—И–Њ «–Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є». –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –ї–µ–≤—Л–µ –њ–∞—А—В–Є–Є, —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ—Л–µ –°–Њ–≤–µ—В–Њ–Љ, —Ж–µ–ї—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —Б–Њ–Ј—Л–≤–µ –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –љ–Њ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М —Н—В–Њ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї. –Т —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Б –Р.–Р. –С—А—Г—Б–Є–ї–Њ–≤—Л–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї —Б–≤–Њ—О –Љ—Л—Б–ї—М —В–∞–Ї: «–°–∞–Љ–Њ–µ —В—А—Г–і–љ–Њ–µ — —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ —Б –≤–Є–ї—П—О—Й–Є–Љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ, –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞–є–љ–Є–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л –±–µ—А—Г—В –≤–µ—А—Е –Є —А–∞–Ј–љ—Г–Ј–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В –њ—А–∞–≤–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б—В–≤–∞». –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –≤–µ—А–љ–Њ —Г—П—Б–љ–Є–ї —Б–µ–±–µ, —З—В–Њ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—В—М –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –°–Њ–≤–µ—В–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–∞—Б—М –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤–ї–∞—Б—В—М –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —А—Г–Ї–∞—Е[217].
–Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Є –Ы—М–≤–Њ–≤ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Є —В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є, –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–і–µ–ї–∞–ї –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤—Г –Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є. «–Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б—Г–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї –Ї–Є—Б—В—М –Љ–Њ–µ–є —А—Г–Ї–Є, — –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤, — –Є –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ –ґ–і–∞–ї –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В–∞». –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–ї –±—Г–Љ–∞–ґ–Ї—Г, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є. «–Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≥—А—Г–±–Њ –Њ—В—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї —А—Г–Ї—Г –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤–∞»[218]. –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ—З–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–ї —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б—Г–і—М–±—Г —Б —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–Є, —З—В–Њ –≤—Б—П–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б–ї–µ–≤–∞ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –Ї—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Є–і—Г—Й–Є—Е –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–≤—П–Ј–∞–ї—Б—П –њ–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Г —Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –ґ–Є–ї –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є –Я—Г—В—П—В–Є–љ–Њ–є –љ–∞ –Ь–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ–Њ–є, 12[219]. –І–ї–µ–љ–∞–Љ –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Г–±–µ–і–Є—В—М –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –≤–Ј–Њ–є–і–µ—В –љ–µ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї, –∞ –љ–∞ —Н—И–∞—Д–Њ—В. –°–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ —В—А—Г–і–љ–Њ. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–µ—Б—Г—А—Б–∞–Љ–Є –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П —Г –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї. –Х–Љ—Г –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –≤—Л–±—А–∞—В—М, —З—В–Њ –≤—Л–≥–Њ–і–љ–µ–є: –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –Є —В—Г—В –ґ–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ—В–µ—А—П—В—М –ї–Є–±–Њ –ґ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ—Ж–∞—А–µ–љ–Є—П –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ, –µ—Б–ї–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—В —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М.
–Ъ–∞–Ї «–ї–Њ–Љ–∞–ї–Є» –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞
–Ы–Є—З–љ–Њ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –±—Л–ї —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ. 2 –Љ–∞—А—В–∞ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –њ–Є—Б–∞–ї –µ–Љ—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ —Б–њ—А—П—В–∞–ї—Б—П –Є –љ–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —И–∞–≥–Њ–≤. «–Т–∞–Љ –љ–µ –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М —А–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–∞», — –Ј–∞–≤–µ—А—П–ї –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ[220]. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –ґ–µ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, —З–µ–є –≥–Њ–ї–Њ—Б –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–љ—Л–Љ –і–ї—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П, —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–Є–ї –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–≤ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ—В –љ–∞ 180 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤.
–£—В—А–Њ–Љ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –Я—Г—В—П—В–Є–љ–Њ–є. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–µ–љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –І—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ–є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤—Г –Њ —В–Њ–Љ, –±—Л–ї–Є –ї–Є –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М «—Б–Є–ї–Њ–≤–Њ–µ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ». –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –±—Л–ї–Є –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –∞–і—К—О—В–∞–љ—В—Л, –љ–Њ –Њ–љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ[221]. –І–ї–µ–љ—Л –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ–±—Л —А–µ—И–Є—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ—В –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –≤—Б–µ—Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –≤—Б–µ–є –њ–Њ–ї–љ–Њ—В–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —В–µ–њ–µ—А—М –і–∞–ґ–µ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±—Л–ї–∞ –Є—Б—В–Њ—А–≥–љ—Г—В–∞ –Є–Ј —А—Г–Ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П. –Ш –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —Н—В–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —А–µ—И–∞–ї—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ь–Є—Е–∞–Є–ї—Г: –њ—А–Є–љ—П—В—М –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –Є–ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –љ–µ–≥–Њ. «–С–Њ–љ–∞–њ–∞—А—В–µ–љ–Њ–Ї» –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Є –µ–≥–Њ –≥—А—Г–њ–њ–∞, –Ј–∞—А—Г—З–Є–≤—И–Є—Б—М –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Њ–є –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –Ј–∞–њ—Г–≥–Є–≤–∞–ї–Є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ —В–µ–Љ–Є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ–Љ—Г –≥—А–Њ–Ј—П—В, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –Њ—Б–Љ–µ–ї–Є—В—Б—П –Ј–∞—П–≤–Є—В—М –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ –≤–Њ—Ж–∞—А–µ–љ–Є–Є.
–Т–љ–∞—З–∞–ї–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–≤ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П. –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ –і—Г—Е–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є. –Ч–∞—В–µ–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤, –љ–Њ –µ–≥–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –±–µ–Ј –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–∞ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –і–Њ–≤–µ—Б—В–Є —Б—В—А–∞–љ—Г –і–Њ –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Г–±–µ–і–Є—В—М. –Я–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–ї–Є–ї—Б—П —Ж–µ–ї—Л–є –њ–Њ—В–Њ–Ї —А–µ—З–µ–є –Ј–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞. –Э–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–Љ –і–ї—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П –µ–і–Є–љ–Њ–і—Г—И–Є—О –µ–≥–Њ –Њ–њ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ–є. –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤—В–Њ—А–Є—З–љ–Њ — –Є –Њ–њ—П—В—М —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ[222].
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –њ—А–Є–±—Л—И–Є –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і. –Ъ–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –љ–µ –≤ –Ф—Г–Љ—Г, –∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Є –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–µ –љ–∞ –Љ–Є—В–Є–љ–≥. –Ґ–∞–Љ –Њ–љ, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤–∞, «–µ–і–≤–∞ –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–ї –њ–Њ–±–Њ–µ–≤ –Є —Г–±–Є–є—Б—В–≤». –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤—Г, —А–∞–±–Њ—З–Є–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ «–ї–Є–љ—З–µ–≤–∞—В—М», –љ–Њ –µ–≥–Њ «–ї–Є—З–љ—Л–є –∞–≥–µ–љ—В» —Б–њ–∞—Б –Њ—А–∞—В–Њ—А–∞. –І—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞, —В–∞–Ї —Б–њ–µ—И–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і, –≤ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ, –љ–µ—П—Б–љ–Њ. –Т—Б–µ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –і–љ–Є –Њ–љ –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є –Є–Ј–±–µ–≥–∞–ї –Њ—А–∞—В–Њ—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –Љ–Є—В–Є–љ–≥–∞—Е. –•–Њ—В–µ–ї –ї–Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Њ–њ–µ—А–µ–і–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–њ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–≤, –Њ–≥–ї–∞—Б–Є–≤ –њ—А–Є–≤–µ–Ј–µ–љ–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ. –Э–Њ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –±—Л—И –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—В–∞–ї –±—Л –њ—А–Њ—Б–Є—В—М –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є —Г —А–∞–±–Њ—З–Є—Е. –°–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є—Е –±—Л—И–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є–µ–є –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –њ—Г—В–µ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П, —Б—В—А–µ–Љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —П—Б–љ—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞—В—М –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞. –°–∞–Љ–Њ–µ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–Њ–µ, —З—В–Њ –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –∞–Ї—В–∞ –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П —Г –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –љ–µ –±—Л—И–Њ. –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –Њ–± –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ —А—Г–Ї–∞—Е —З–ї–µ–љ–∞ –Ф—Г–Љ—Л –Ѓ.–Ь. –Ы–µ–±–µ–і–µ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞–љ–µ–µ –±—Л—И –≤ –Ы—Г–≥–µ. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ, –µ—Б–ї–Є –≤–µ—А–Є—В—М –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤—Г, –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В —Б–њ—А—П—В–∞–ї–Є –≤ –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–µ –њ—Г—В–µ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ –Р.–Р. –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞. –Ч–і–µ—Б—М —Б –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞ —Б–љ—П–ї–Є –Ї–Њ–њ–Є—О. –Я—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї «–∞–Ї—В–∞», —В–µ–Ї—Б—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–µ—З–∞—В–∞–ї–Є –≤ —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –њ—Г—В–µ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ—Л–µ –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ, –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М[223].
–Ю–±—А–∞–Ј–µ—Ж –Ї–∞–Ј—Г–Є—Б—В–Є–Ї–Є
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –њ—А–Є–±—Л—И–Є –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –Я—Г—В—П—В–Є–љ–Њ–є, —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М. –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –±—Л—И –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ, —З—М—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –±—Л—И–∞ –±–ї–Є–Ј–Ї–∞ –Ї –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞. –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї, —З—В–Њ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї –µ–≥–Њ —В–Њ—З–Ї—Г –Ј—А–µ–љ–Є—П, «–љ–Њ —Б–ї–∞–±–Њ –Є –≤—П–ї–Њ». –Т –І—А–µ–Ј–≤—Л—В–∞–є–љ–Њ–є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї: –Њ–њ–њ–Њ–љ–µ–љ—В—Л –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤–∞ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї–Є –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є –≤–Њ—Ж–∞—А–µ–љ–Є–Є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї—Г –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –љ–µ —Г–і–∞—Б—В—Б—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—О. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –≤–љ–µ—Б –њ—А–Є–Љ–Є—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ–±—Л –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –њ—А–Є–љ—П–ї –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ: –љ–µ –Ї–∞–Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М, –∞ –Ї–∞–Ї —А–µ–≥–µ–љ—В. –≠—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –±—Л –і–Њ–≤–µ—Б—В–Є —Б—В—А–∞–љ—Г –і–Њ –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Д–Њ—А–Љ—Л –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –ї–Є—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –±—Г–і–µ—В –≤—А—Г—З–µ–љ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї, –µ—Б–ї–Є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П. –Э–∞ —Н—В–Њ –µ–Љ—Г –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В —Д–Њ—А–Љ—Л —А–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–∞ –±–µ–Ј –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Г–±–µ–і–Є—В—М –≤—Б–µ—Е, —З—В–Њ —В–∞–Ї–∞—П –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є—П –њ—А–µ–і–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В –†–Њ—Б—Б–Є—О –Њ—В –∞–љ–∞—А—Е–Є–Є –Є –≤–љ–µ—Б–µ—В «–њ—А–Є–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ». –£—Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –≤—Л–Ј–≤–∞—В—М —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–є –≤—Б–µ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Њ—В –љ–Є—Е –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ «–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П — —А–µ–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–Њ»[224].
–Ь–Є—Е–∞–Є–ї –≤—Л—И–µ–ї –≤ –і—А—Г–≥—Г—О –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—Й–∞—В—М—Б—П —Б –≥–ї–∞–Ј—Г –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј —Б –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ –Є –Ы—М–≤–Њ–≤—Л–Љ. –Ч–∞—В–µ–Љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Є –Њ–±—К—П–≤–Є–ї –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є–љ—П—В—М –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –і–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П. –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ —Б–Ї—А—Л—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–∞, —Е–Њ—В—П –Њ–±—Л—В–љ–Њ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ —Г–Љ–µ–ї –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—В—М. –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Є –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Ј–∞—П–≤–Є–ї–Є, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –≤–Њ–є—В–Є –≤ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ. –Э–Њ –Ї –≤–µ—З–µ—А—Г –Њ–±–∞ –њ–µ—А–µ–і—Г–Љ–∞–ї–Є[225].
–Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є—И—М —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—Д–Њ—А–Љ–Є—В—М —В–Њ, —З—В–Њ –±—Л—И–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є —О—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Т.–Ф. –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞ –Є –С.–≠. –Э–Њ–ї—М–і–µ. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –∞–Ї—В–∞ –Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–Є–Є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–Љ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –Т.–Т. –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –Є –Э.–Т. –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —З–µ—А–љ–Њ–≤–Є–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л—И –Њ—В–≤–µ—А–≥–љ—Г—В. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Є –Э–Њ–ї—М–і–µ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є —И–µ–і–µ–≤—А —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Ј—Г–Є—Б—В–Є–Ї–Є[226]. –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –љ–∞—А–µ–Ї–ї–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ –∞–Ї—В–Њ–Љ –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞. –Э–Њ –њ–Њ —Б—Г—В–Є –і–µ–ї–∞ –∞–Ї—В–Њ–Љ –Њ–љ –љ–µ –±—Л–ї, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–µ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ—Л —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –і–ї—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞. –Р –љ–µ —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ—Л –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤ –Є –Э–Њ–ї—М–і–µ —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Є–і–∞–≤–∞—В—М –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–є –≤–Є–і, —В–Њ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –±—Л —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —В—Г–њ–Є–Ї: –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Њ—В—А–µ–Ї–∞—В—М—Б—П –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –µ–Љ—Г –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–Њ. –Э–Њ –і–ї—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л, –љ–µ –њ—А–µ—А—Л–≤–∞—П –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, —Г—Б—В–∞–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –њ—А–∞–≤—П—Й–µ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –≤—Б—О –≤–ї–∞—Б—В—М –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В—Г, —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–≤ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ —Б–Њ–Ј—Л–≤–µ –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П. –≠—В–Њ—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –љ–µ –њ—А–µ–і—А–µ—И–∞–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—П. –Ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В–∞–Ї–Њ–є —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Є–µ –Є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–Њ–≤, –Є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤.
«–Т—Б—П –њ–Њ–ї–љ–Њ—В–∞ –≤–ї–∞—Б—В–Є»
–Э–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –≤—Л–±–Њ—А–∞ —Г –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –°–∞–Љ–∞ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Є–і—Г—Й–Є–Љ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–∞–Љ –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –µ–≥–Њ –≥—А—Г–њ–њ—Л. «–Ю–і—Г—И–µ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ –Љ—Л—Б–ї—М—О, —З—В–Њ –≤—Л—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ –†–Њ–і–Є–љ—Л –љ–∞—И–µ–є, –њ—А–Є–љ—П–ї —П —В–≤–µ—А–і–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤ —В–Њ–Љ –ї–Є—И—М —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П—В—М –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М, — –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–њ–∞—А–љ–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї—П–ї –Ь–Є—Е–∞–Є–ї, — –µ—Б–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–≤–∞ –±—Г–і–µ—В –≤–Њ–ї—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Є –љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –≤—Б–µ–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–≤–Њ–Є—Е –≤ –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Њ–±—А–∞–Ј –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –љ–Њ–≤—Л–µ –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ». –Э–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є—И—М –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ, –µ—Й–µ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ. –Я–Њ–Ї–∞ –ґ–µ, –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М: «–Я–Њ—Б–µ–Љ—Г, –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞—П –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –С–Њ–ґ–Є–µ, –њ—А–Њ—И—Г –≤—Б–µ—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –і–µ—А–ґ–∞–≤—Л —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г, –њ–Њ –њ–Њ—З–Є–љ—Г –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–µ–Љ—Г –Є –Њ–±–ї–µ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤—Б–µ–є –њ–Њ–ї–љ–Њ—В–Њ—О –≤–ї–∞—Б—В–Є, –≤–њ—А–µ–і—М –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ї—А–∞—В–Ї–Є–є —Б—А–Њ–Ї –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–≥–Њ, –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ, —А–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є —В–∞–є–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—П –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–± –Њ–±—А–∞–Ј–µ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В –≤–Њ–ї—О –љ–∞—А–Њ–і–∞»[227].
–°—Г—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–ї –≤—Б–µ–≤–ї–∞—Б—В—М–µ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Х—Б–ї–Є –±—Л —З–ї–µ–љ—Л –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ —Б–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ–±–ї–µ–Ї–∞–µ—В—Б—П «–≤—Б–µ–є –њ–Њ–ї–љ–Њ—В–Њ—О –≤–ї–∞—Б—В–Є», —В–Њ —Н—В–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Њ –±—Л –Ї–∞–Ї –≤–Њ–Ј–Љ—Г—В–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Г–Ј—Г—А–њ–∞—Ж–Є—П. –Э–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–ї–Њ—Б—М —Г—Б—В–∞–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є. –°–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–љ–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М, –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ –њ–µ—А–µ—И–µ–і—И–∞—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—О –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ї –Ь–Є—Е–∞–Є–ї—Г, —В–µ–њ–µ—А—М –њ–µ—А–µ—Г—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞—Б—М –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В—Г, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–µ–Љ—Г –Њ–њ—П—В—М –ґ–µ –љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ, –∞ –њ–Њ –њ–Њ—З–Є–љ—Г –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л. –Э–∞ –љ–µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Г—Б—В–∞–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –С–Њ–ґ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ. –С–µ–Ј –њ—П—В–Є –Љ–Є–љ—Г—В –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї –≤—Б–µ—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г.
–Э–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –љ–∞–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —В–Њ–Љ, –љ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –ї–Є —Н—В–∞ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є—П —Г–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –У—Г—З–Ї–Њ–≤–∞ –Є –®—Г–ї—М–≥–Є–љ–∞ –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –Ы—Г–≥—Г –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤ —Б –љ–Њ–≤–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Њ–є –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П? –Т–µ–і—М –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Љ–Њ–≥ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –≤—Б—О –≤–ї–∞—Б—В—М –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г, –∞ –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –љ–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є. –Я–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –љ–Є–Ї—В–Њ –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј –Є –љ–µ –і—Г–Љ–∞–ї –Њ –≤–Њ—Ж–∞—А–µ–љ–Є–Є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞. –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –ґ–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –њ–Њ–Ї–∞ –Њ–љ–Њ –љ–µ –≤—Б—В–∞–љ–µ—В –љ–∞ –љ–Њ–≥–Є, –љ—Г–ґ–µ–љ –±—Г–і–µ—В —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–њ–µ–Ї—Г–љ –≤ –≤–Є–і–µ —А–µ–≥–µ–љ—В–∞ –±–µ–Ј –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Э–Њ –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є –Ъ–Њ –љ–µ –љ—Г–ґ–µ–љ –±—Л–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ–Ї—Г–љ. –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Њ–±–≤–µ–ї–Є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –њ–∞–ї—М—Ж–∞, –Є –≤—Б—В–∞–ї –≤ –њ–Њ–Ј—Г, –љ–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –±—Г—А—П –≤ —Б—В–∞–Ї–∞–љ–µ –≤–Њ–і—Л. –Ю–±–≤–µ–ї–Є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –њ–∞–ї—М—Ж–∞ –Є –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –µ—Й–µ —Г—В—А–Њ–Љ 3 –Љ–∞—А—В–∞, –і–Њ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞, –і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ—Б—В–Њ-–љ–∞–њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–њ–Є—Б–∞–љ –≤ –њ—А–µ–ґ–љ—О—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –Ј–∞–є–Љ–µ—В –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –њ–Њ–і –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ–і–Ј—П–љ–Ї–Њ. –У–Њ—А—М–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—И–Њ –њ–Њ—Б—В–Є—З—М –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ, —Г–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–≤ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤–ї–∞—Б—В—М, –≤—Л—А–≤–∞–ї –Є–Ј-–њ–Њ–і —Б–µ–±—П –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Б—В—Г–ї: –њ–µ—А–µ–і–∞–≤ –≤—Б—О –њ–Њ–ї–љ–Њ—В—Г –≤–ї–∞—Б—В–Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г, –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –њ–Њ —Б—Г—В–Є –і–µ–ї–∞ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –і—Г–Љ—Г –Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В.
–Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Р.–Р. –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ «–±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ —В–µ–Њ—А–Є—П, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤—Б—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є–ї–∞—Б—М –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –і—Г–Љ–∞, –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–∞—П, –і–∞–ґ–µ –Є —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–∞–≤–∞»[228].
–Т –∞—А—Е–Є–≤–µ –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –њ—А–µ–ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–µ–є—И–Є–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В — —З–µ—А–љ–Њ–≤–Є–Ї –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Ю–і–љ–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є —Б—З–Є—В–∞—О—В —Н—В–Њ—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –∞–њ–Њ–Ї—А–Є—Д–Њ–Љ, –і—А—Г–≥–Є–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—В –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Т –љ–µ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П:
«–Ь–Є–љ–Є—Б—В—А-–њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —В–Њ—З–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Њ–±—К–µ–Љ –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –і–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –£—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ–Љ —Д–Њ—А–Љ—Л –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П <...> —А–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Є –Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е –Ї –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В—Г –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л. –Я–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ–љ–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –≤—Б—П –њ–Њ–ї–љ–Њ—В–∞ –≤–ї–∞—Б—В–Є, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–µ–є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е—Г, –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ–є –љ–µ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ–µ, –∞ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л IV —Б–Њ–Ј—Л–≤–∞ <...> –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В–∞ –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є, –Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Ї–∞–Ї –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —В–∞–Ї –Є —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —В–µ –љ–Њ—А–Љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –≤ –і–∞–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В»[229].
–Я—А–Њ —Н—В–Њ—В –ґ—Г—А–љ–∞–ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—Ж—Л: «–Х—Б–ї–Є –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–є, —В–Њ, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤—Л–і—Г–Љ–∞–љ». –Р –µ—Й–µ –≤—З–µ—А–∞ –ї–Є–і–µ—А—Л –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —В–∞–Ї–љ–µ–≥–Њ–і–Њ- –≤–∞–ї–Є –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –љ–Є –њ–µ—А–µ–і –Ї–µ–Љ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–µ–≥–Њ, –љ–µ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ!
–Ю–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –±—Л—И–Њ –Њ—В–њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Њ 101 –њ—Г—И–µ—З–љ—Л–Љ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–Љ —Б –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є.
–Я–µ—А–≤—Л–Љ–Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–Є –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–µ –±–∞–љ–Ї–Є.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г –Ї—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–Є. –Э–Њ —А—Г—Е–љ—Г–≤—И–µ–µ –њ–Њ–і —Г–і–∞—А–∞–Љ–Є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є–µ –љ–µ –±—Л—И–Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Д–Њ—А–Љ–∞–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –°–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–∞—Е –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–Є –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–∞ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–љ–Є–µ –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Ј–Љ–∞, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –љ–∞ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–і–µ–Є, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –≤–µ–ї–Є –±–Њ—А—М–±—Г –ї–Є–і–µ—А—Л –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Т –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ –Є—В–Њ–≥–µ —Н—В–Њ –Њ–±–ї–µ–≥—З–Є–ї–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і –Ї –≤–ї–∞—Б—В–Є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1917 –≥.
–Ь.–Ь. –°–∞—Д–Њ–љ–Њ–≤
–Ш–Ј —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ «–Ь–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г—Е —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–є 1905-1917» (–Х–ґ–µ–Ї–≤–∞—А—В–∞–ї—М–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л «–Э–Х–°–Ґ–Ю–†» вДЦ 3, 2000)
[1] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II: –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–µ–≤, –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л. –Ь., 1990. (–Ф–∞–ї–µ–µ: –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ.). –°. 33.
[2] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ; –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Л –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е (–Ф–∞–ї–µ–µ: –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞...). –Ь.; –Ы., 1927. –Ґ. V.
[3] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 222.
[4] –Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є –∞—А—Е–Є–≤. (–Ф–∞–ї–µ–µ: –Ъ–Р). 1927. вДЦ 2. –°. 4—5.
[5] –С–ї–Њ–Ї–Р. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–љ–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Я–≥., 1921. –°. 67.
[6] –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞... –°. 224—225.
[7] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 5.
[8] –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞... –°. 225.
[9] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 5—6.
[10] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 7—8.
[11] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 7.
[12] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 152—153
[13] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.
[14] –С–ї–Њ–Ї –Р. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–љ–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є... –°. 78.
[15] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 6—7.
[16] –С–ї–Њ–Ї–Р. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–љ–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є... –°. 78.
[17] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 8.
[18] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.
[19] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 8—9.
[20] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 93.
[21] –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞... –°. 224—225.
[22] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 225.
[23] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 9.
[24] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 13.
[25] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 11.
[26] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 12.
[27] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 13.
[28] –С–ї–Њ–Ї –Р. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–љ–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є... –°. 82.
[29] –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ –Т.–Э. –° —Ж–∞—А–µ–Љ –Є –±–µ–Ј —Ж–∞—А—П. –Ь., 1995. –°. 106.
[30] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 33.
[31] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 15—16.
[32] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 16.
[33] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.
[34] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.
[35] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 33.
[36] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 9—10.
[37] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 33.
[38] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 21.
[39] –Ь–µ–ї—М–≥—Г–љ–Њ–≤ –°.–Я. –Э–∞ –њ—Г—В—П—Е –Ї –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В—Г. –Я–∞—А–Є–ґ, 1931. –°. 29.
[40] –†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—П —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є—П. –Ь., 1957.
[41] –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ. –°–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—Л–є –≥–Њ–і –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ. –Ы., 1967. –Ъ–љ. 1. –°. 72—75.
[42] –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤ –Р.–Р. –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П. –Х–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ, –∞—А–µ—Б—В —Ж–∞—А—П, –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л. –Э—М—О-–Щ–Њ—А–Ї, 1918. –°. 19—21.
[43] –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Я.–Э. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. –Ь., 1991. –°. 457.
[44] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 11—12.
[45] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 5. –°. 208.
[46] –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ –Т.–Э. –° —Ж–∞—А–µ–Љ –Є –±–µ–Ј —Ж–∞—А—П. –°. 106,167.
[47] –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞... –°. 227.
[48] –Ю–≥–Њ–љ–µ–Ї. 1923. вДЦ 1. –°. 12.
[49] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 19.
[50] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 18.
[51] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 20.
[52] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.
[53] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 22—24.
[54] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 27.
[55] –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞... –°. 225.
[56] –С–ї–Њ–Ї –Р. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–љ–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –°. 90.
[57] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 32-33.
[58] –Я–∞–і–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞. –Ы., 1925. –Ґ. III. –°. 69.
[59] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 33.
[60] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 54—55.
[61] –Ь–µ–ї—М–≥—Г–љ–Њ–≤ –°.–Я. –Ь–∞—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –і–љ–Є 1917 –≥. –Я–∞—А–Є–ґ, 1961. –°. 70.
[62] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 55.
[63] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 36.
[64] –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤. 1917. 2 –Љ–∞—А—В–∞.
[65] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 44.
[66] –Я–∞–і–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞. –Ґ. III. –°. 76; –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ –Т.–Э. –° —Ж–∞—А–µ–Љ –Є –±–µ–Ј —Ж–∞—А—П. –°. 170.
[67] –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ –Т.–Э. –° —Ж–∞—А–µ–Љ –Є –±–µ–Ј —Ж–∞—А—П. –°. 170.
[68] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2.
[69] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 31
[70] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 31
[71] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 37
[72] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 45
[73] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 42
[74] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 42
[75] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 43
[76] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 48
[77] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 47.
[78] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 44—45.
[79] –®–Є–і–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –°.–Ш. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. –І. II. –С–µ—А–ї–Є–љ, 1923. –°. 82—83.
[80] –°—Г—Е–∞–љ–Њ–≤ –Э.–Э. –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –Ґ. 1. –Ь., 1991. –°. 137.
[81] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2 –°. 48.
[82] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 49.
[83] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 142.
[84] –Ъ–Р. 1928. –Ґ. 5. –°. 201—208.
[85] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 146—168.
[86] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 152—153.
[87] –С–ї–Њ–Ї –Р. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–љ–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –°. 101.
[88] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 53—54.
[89] –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞... –°. 226.
[90] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 53.
[91] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 61.
[92] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 61.
[93] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 64.
[94] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 62.
[95] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 34.
[96] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2 .–°. 53—54.
[97] –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Ь., 1993. –°. 123.
[98] –Ш–Њ—Д—Д–µ –У.–Ч. –†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –Є —Б—Г–і—М–±–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е. –Ь., 1992. –°. 31.
[99] –Э–µ–і–µ–ї—П. 1964. вДЦ 51.
[100] –°—Г—Е–∞–љ–Њ–≤ –Э.–Э. –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –Ґ. 1. –°. 150—152; –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Я.–Э. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. –Ь., 1991. –°. 462—464; –Ґ–Њ–Ї–∞—А–µ–≤ –Ѓ.–°. –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –°–Њ–≤–µ—В —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –≤ –Љ–∞—А—В–µ-–∞–њ—А–µ–ї–µ 1917 –≥. –Ы., 1976. –°. 90—93.
[101] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 65.
[102] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 142.
[103] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 56—61.
[104] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 63.
[105] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 62.
[106] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 63.
[107] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 65.
[108] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 75.
[109] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 160—161.
[110] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 67—68.
[111] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 34.
[112] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 56, 59.
[113] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 64.
[114] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 54.
[115] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 75.
[116] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 72—73.
[117] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 197.
[118] –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤ –Ѓ.–Э. –Ь–Њ–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ–± –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ II –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–µ //–Р—А—Е–Є–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –Ґ. 19. –С–µ—А–ї–Є–љ, 1928. –°. 229.
[119] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 240.
[120] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.
[121] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.
[122] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 77.
[123] –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ –Т.–Э. –° —Ж–∞—А–µ–Љ –Є –±–µ–Ј —Ж–∞—А—П. –°. 182.
[124] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 161.
[125] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 77.
[126] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.
[127] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 77.
[128] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.
[129] Swokakowski W The autorship of the abdication document of Nicholas II // The Russian Review. 1971, N 30. P. 227—286.
[130] –Ъ–Р. 1927.1927. вДЦ 3. –°. 7.
[131] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 198—199.
[132] –Ґ–Њ–Ї–∞—А–µ–≤ –Ѓ.–°. –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –°–Њ–≤–µ—В —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –≤ –Љ–∞—А—В–µ-–∞–њ—А–µ–ї–µ 1917 –≥. –°. 101—104; –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Я.–Э. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. –°. 463.
[133] –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В. –°. 63.
[134] –®–Є–і–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –°.–Ш. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. –І. II. –°. 83.
[135] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 222.
[136] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 144.
[137] –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Я.–Э. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. –°. 464.
[138] –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤. 1917. 3 –Љ–∞—А—В–∞.
[139] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.
[140] –Ч–∞—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є –Ф.–Ю., –Ъ–∞–љ—В–Њ—А–Њ–≤–Є—З –Т.–Р. –•—А–Њ–љ–Є–Ї–∞ –§–µ–≤—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –Ґ. 1. –Я–≥., 1924- –°- 34-
[141] –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤. 1917. 2 –Љ–∞—А—В–∞.
[142] –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞... –°. 232.
[143] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 3. –°. 9.
[144] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 6—7.
[145] –°–Є–і–Њ—А–Њ–≤ –Р.–Ы. –Я—А–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –°—В–∞–≤–Ї–Є –њ–Њ–і–∞–≤–Є—В—М –§–µ–≤—А–∞–ї—М—Б–Ї—Г—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О 1917 –≥. –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ // –Т–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –∞—А—Е–Є–≤–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. 1962. вДЦ 1. –°. 101—109.
–≥–∞.
147 –Ъ–Р. 1927. вДЦ 3. –°. 9.
[147] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 8—9.
[148] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 10.
[149] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 7—8.
[150] –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ –Т.–Э.. –° —Ж–∞—А–µ–Љ –Є –±–µ–Ј —Ж–∞—А—П... –°. 184.
[151] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 3. –°. 12.
[152] KerenskiA. La Revolution Russe (1917). Paris, 1928. P. 71.
[153] –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ –Т.–Э.. –° —Ж–∞—А–µ–Љ –Є –±–µ–Ј —Ж–∞—А—П... –°. 184.
[154] –°–Є–і–Њ—А–Њ–≤ –Р.–Ы. –Я—А–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –°—В–∞–≤–Ї–Є –њ–Њ–і–∞–≤–Є—В—М –§–µ–≤—А–∞–ї—М—Б–Ї—Г—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О 1917 –≥. –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ. –°. 108.
[155] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 169.
[156] –Т–Њ–µ–є–Ї–Њ–≤ –Т.–Э.. –° —Ж–∞—А–µ–Љ –Є –±–µ–Ј —Ж–∞—А—П. –°. 186.
[157] –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤. 1917. 2 –Љ–∞—А—В–∞.
[158] –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤ –Ѓ.–Э. –Ь–Њ–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. –°. 237.
[159] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ. –°. 169—172.
[160] –Я–∞–і–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞. –Ґ. VI. –Ь.; –Ы., 1926. –°. 266—277.
[161] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ. –°. 173—187.
[162] –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В. –°. 25—123.
[163] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 3. –°. 16.
[164] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 17.
[165] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 17—18.
[166] –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤. 1917. 4 –Љ–∞—А—В–∞.
[167] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 29.
[168] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 15—16.
[169] –Я–∞–і–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞. –Ґ. VI. –°. 271-273.
[170] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 169—172.
[171] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 173—187.
[172] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 169.
[173] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 174,184—185.
[174] –Ь–µ–ї—М–≥—Г–љ–Њ–≤ –°.–Я. –Ь–∞—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –і–љ–Є 1917 –≥... –°. 61.
[175] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 186.
[176] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 190—192.
[177] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 190—191.
[178] –°—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤ –Т.–Э. –§–µ–≤—А–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П 1917 –≥. // –Э–∞—Г—З–љ—Л–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П (–Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Ж–µ–љ—В—А –Э–∞—А–Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ—Б–∞ –†–°–§–°–†). –°–±. 1. –Ь., 1922.
[179] –Ь–∞—А—В—Л–љ–Њ–≤ –Х.–Ш. –¶–∞—А—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В–µ. –°. 166—167.
[180] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 34.
[181] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 3. –°. 15.
[182] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 17—18.
[183] –Ъ–∞—Б–≤–Є–љ–Њ–≤ –Ь.–Ъ. –Ф–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —В—А–Є —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є –≤–љ–Є–Ј. –Ь., 1984. –°. 273.
[184] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 222.
[185] –°–Њ–ї–љ—Ж–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. 1917. вДЦ 367.
[186] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 3. –°. 7; –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 223.
[187] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 11—119.
[188] –§–Њ—В–Њ–Ї–Њ–њ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–∞ –љ–∞ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–µ –Ї–љ–Є–≥–Є «–Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–µ–≤, –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л». –Ь., 1990.
[189] –§–Њ—В–Њ–Ї–Њ–њ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–∞ –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ: –Э–µ–љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–≤ –Р.–Я. 1917: –Ъ—А–∞—В–Ї–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П, –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є. –Ь., 1980. –°. 53; –У–Р–†–§. –§. 601. –Ю–њ. 1. вДЦ 2100–∞. –Я—А–Є–љ–Њ—Б–Є–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –Х.–Р. –І–Є—А–Ї–Њ–≤–Њ–є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–є –љ–∞–Љ –љ–∞ —Н—В–Њ—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В.
[190] –Я–∞–і–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞... –Ґ. VI. –°. 219.
[191] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 3. –°. 46.
[192] –£—В—А–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. 1917. 4 –Љ–∞—А—В–∞.
[193] –Я–∞–і–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞. –Ґ. VI. –°. 269.
[194] –Ь–∞—А—В—Л–љ–Њ–≤ –Х.–Ш. –¶–∞—А—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В–µ... –°. 159.
[195] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 3. –°. 16.
[196] –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–Є–≤. 1993. вДЦ 1. –°. 82—102.
[197] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 2. –°. 66.
[198] –°–Њ–ї–љ—Ж–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. 1917. вДЦ 367.
[199] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.
[200] –°–Љ. –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ: –°–Љ–µ–љ–∞. 1997. 14 –Љ–∞—А—В–∞.
[201] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 170,182.
[202] –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –У—Г—З–Ї–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В. –°. 70.
[203] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 3. –°. 15.
[204] –Я–∞–і–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞. –Ґ. VI. –°. 273.
[205] –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤ –Р.–Р. –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П. –°. 27.
[206] –°—Г—Е–∞–љ–Њ–≤ –Э.–Э. –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –Ґ. 1. –Ь., 1991. –°. 175.
[207] –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Я.–Э. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. –°. 467.
[208] –¶–Є—В. –њ–Њ: –І–µ—А–Љ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Х.–Ф. IV –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ф—Г–Љ–∞ –Є —Б–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А–Є–Ј–Љ–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ь., 1976. –°. 300—301.
[209] –Ґ–Њ–Ї–∞—А–µ–≤ –Ѓ.–°. –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –°–Њ–≤–µ—В —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –≤ –Љ–∞—А—В–µ-–∞–њ—А–µ–ї–µ 1917 –≥. –°. 101—104.
[210] –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤. 1917. 3 –Љ–∞—А—В–∞.
[211] –Ш–Њ—Д—Д–µ –У.–Ч. –†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –Є —Б—Г–і—М–±–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е... –°. 67—68.
[212] –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤ –Ѓ.–Т. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Ѓ.–Т. –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤–∞ –Њ –Љ–∞—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є 1917 –≥. –°—В–Њ–Ї–≥–Њ–ї—М–Љ; –С–µ—А–ї–Є–љ, 1921. –°. 52—55.
[213] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 3. –°. 26.
[214] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 25—27.
[215] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 27—29.
[216] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 19.
[217] –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 32—33.
[218] –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Я.–Э. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П... –°. 468.
[219] –Ъ–Р. 1927. вДЦ 3. –°. 200.
[220] –Ь–µ–ї—М–≥—Г–љ–Њ–≤ –°.–Я. –Ь–∞—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –і–љ–Є 1917 –≥. –°. 61.
[221] –Я–∞–і–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞. –Ґ. VI. –°. 273.
[222] –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Я.–Э. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. –°. 468—470.
[223] –Ю—В—А–µ—З–µ–љ–Є–µ... –°. 213—215.
[224] –Я–∞–і–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞... –Ґ. VI. –°. 266—267.
[225] –Ь–Є–ї—О–Ї–Њ–≤ –Я.–Э. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П... –°. 470.
[226] –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤ –Т.–Ф. –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ //–Р—А—Е–Є–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –Ґ. 1. –Ь., 1991 (—А–µ–њ—А–Є–љ—В). –°. 20—21.
[227] –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤. 1917. 4 –Љ–∞—А—В–∞.
[228] –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤ –Р.–Р. –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П. –°. 42.
[229] –°—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤ –Т.–Э. –§–µ–≤—А–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П 1917 –≥.