–ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤―¹–Β ―²–Β–≥–Η
–£ –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η, –Κ–Α–Κ –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Β―¹―²–Η–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹―³–Β―Ä―΄ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η – ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ―è –Η ―é―Ä–Η―¹–Ω―Ä―É–¥–Β–Ϋ―Ü–Η―è, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ –Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ–Α, – –Ϋ–Ψ –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄ –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ―É –Κ–Μ–Α―¹―¹―É –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α–Φ. –ê –Β―¹–Μ–Η –≤–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –Η –≤―΄ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β, –Η–Μ–Η –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Β―Ä–Β―¹–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―É―¹―²–Ψ―à–Β–Ι, –Η–Μ–Η –≤ –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä―É―â–Ψ–±–Α―Ö? –ù–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β? –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Φ―¹―è ―¹ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è–Φ–Η –±―΄–Μ―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Φ–Η –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ψ―Ä–Η–≥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η.
–€–Η―Ä –Ω–Ψ–¥ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι: –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―¹–Μ―É–≥–Η
–£ 1851 –≥–Ψ–¥―É –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ –±―΄–Μ–Η –≤ ―É―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Α –≤ 1891 –≥–Ψ–¥―É, ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ–Α―²–Β –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Φ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―Ü–Η―³―Ä―΄ – 1 386 167 –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –Η 58 527 –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ. –î–Α–Ε–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ϋ–Β–±–Ψ–≥–Α―²―΄–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–Ϋ―è―²―¨ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ―É – ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―É―é maid of all works, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η ―¹―²―Ä―è–Ω–Α―²―¨, –Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―É–±–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι. –ü–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―è―¹―¨ –≤―΄―à–Β –Ω–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β, –Φ―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ ―¹–Μ―É–≥, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε–Β –Ψ–± –Α―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Φ–Α―Ö, –≥–¥–Β ―¹–Μ―É–≥–Η –Η―¹―΅–Η―¹–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ―²–Ϋ―è–Φ–Η. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β XIX –≤–Β–Κ–Α ―à–Β―¹―²–Ψ–Ι –≥–Β―Ä―Ü–Ψ–≥ –ü–Ψ―Ä―²–Μ–Β–Ϋ–¥ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ 320 ―¹–Μ―É–≥ –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α.
–£ ―É―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―à–Μ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥―Ü―΄ –Η–Ζ –Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Γ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β–Φ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Η –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –¥–Ϋ–Β–Φ ―¹ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Β ―¹―΄―â–Β―à―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö – –≤―¹–Β –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ, –≥–¥–Β –Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅―à–Β –Η –≥–¥–Β –±―΄–Μ ―à–Α–Ϋ―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ε–Α.
–ù–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥―É –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Α–Φ–Η. –£ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η–Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö ―è―Ä–Φ–Α―Ä–Κ–Α―Ö, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι‑–Μ–Η–±–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―², –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―â–Η–Ι –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―é: –Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ―É, ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Η – –Φ–Β―²–Μ―É. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Η―²―¨ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ψ –Ϋ–Α–Ι–Φ–Β, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ‑–Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Ε–Α―²–Η–Β –Η –≤―΄–Ω–Μ–Α―²–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹―É–Φ–Φ―΄ –Α–≤–Α–Ϋ―¹–Ψ–Φ.
–ù–Ψ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö –Ζ–Α―²–Β–Η –Φ–Η–Μ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É–≥ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η―¹–Κ–Α―²―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –±–Η―Ä–Ε–Η ―²―Ä―É–¥–Α –Η–Μ–Η –Α–≥–Β–Ϋ―²―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ―¹―²–Η, –Α ―²–Ψ –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Ι–Φ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Η―¹–Κ–Α―²–Β–Μ―¨ –Φ–Β―¹―²–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α, –Η –≥–Ψ―Ä–Β ―²–Ψ–Φ―É, –Κ―²–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ―¹―è –±―΄ –Η―Ö –Ω–Ψ–¥–¥–Β–Μ–Α―²―¨ – ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹―É–¥–Ϋ–Ψ–Β. –£―ä–Β–¥–Μ–Η–≤―΄–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α–Φ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –€―ç―Ä–Η –Η–Μ–Η –ù―ç–Ϋ―¹–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨, ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Α―è –Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β –≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Μ–Η –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹―²–≤―É.
–£ 1844 –≥–Ψ–¥―É ―¹–Α―²–Η―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ «–ü–Α–Ϋ―΅» –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Α―Ä–Ψ–¥–Η―é –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹:
«–Γ―É–¥–Α―Ä―΄–Ϋ―è! –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –ë―Ä–Η–¥–Ε–Β―² –î–Α―¹―²–Β―Ä –Ε–Β–Μ–Α–Β―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Φ–Ψ–Β–Φ –¥–Ψ–Φ–Β, ―è –Ω―Ä–Ψ―à―É –£–Α―¹, –Β–Β –±―΄–≤―à―É―é ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ―É, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨, –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α –¥–Μ―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤. –£ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ ―è –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―² –¥–Β―Ä–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Μ―É–≥ (–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ―΄ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Β―Ä–Ζ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι), –Η –Ω–Ψ―¹–Β–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―à―É –≤–Α―¹ –Ϋ–Β ―¹–Β―Ä–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―¹–Κ―Ä―É–Ω―É–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Η―Ö ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤… –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è, ―è –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Α –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –ë―Ä–Η–¥–Ε–Β―². –ï―â–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―²–Α–Κ–Η―Ö –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η―Ö –Ψ―¹–Ω–Η–Ϋ… –ê ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β–≤–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Α –Ϋ–Α –≤–Η–¥, ―²–Β–Φ –Μ―É―΅―à–Β. –ù–Β–Κ–Α–Ζ–Η―¹―²–Α―è –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ ―΅―²–Ψ‑―²–Ψ –≤―Ä–Ψ–¥–Β –¥–Β―à–Β–≤–Ψ–Ι ―É–Ϋ–Η―³–Ψ―Ä–Φ―΄ –¥–Μ―è –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ι: ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Η–Φ –Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η –Ψ―²–≤―Ä–Α―â–Α–Β―² –Ψ―² –≤―¹―è–Κ–Η―Ö –≥–Μ―É–Ω–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ü–Ψ–Κ–Α ―΅―²–Ψ –ë―Ä–Η–¥–Ε–Β―² –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―É―Ä–Ψ–Ι…
–· –Ϋ–Α–¥–Β―é―¹―¨, –Ψ–Ϋ–Α ―²―Ä–Β–Ζ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ê ―²–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Β, –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ―é –Ω―Ä–Η–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Κ –±―É―²―΄–Μ–Κ–Β, –¥–Α–±―΄ –Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β. –Δ―É―² ―É–Ε –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –Ζ–Α–Ω–Η―Ä–Α–Ι –±―Ä–Β–Ϋ–¥–Η, –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β ―É–±–Β―Ä–Β–Ε–Β―à―¨. –ê –Ω–Ψ―¹―É–¥―É –ë―Ä–Η–¥–Ε–Β―² –Ϋ–Β –±―¨–Β―² –Μ–Η? –· –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Η–≤–Α―é –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ζ–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²―É―é –Ω–Ψ―¹―É–¥―É, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α –Φ–Ψ–Η –Ϋ–Β―Ä–≤―΄ –Κ―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η―²? –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Μ―É–≥–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Β―Ä–Β–±–Η―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹―É–¥―΄, ―΅―²–Ψ –Η –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨―è –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Η―². –ß–Β―¹―²–Ϋ–Α –Μ–Η –ë―Ä–Η–¥–Ε–Β―²? –Δ―É―², ―¹―É–¥–Α―Ä―΄–Ϋ―è, –Η–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨―²–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β, –≤–Β–¥―¨ ―è ―É–Ε–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Μ―é–¥―è―Ö. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α–Ϋ―è–Μ–Α ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ―É ―¹ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η―è–Φ–Η, –Α –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é ―¹–Ω―É―¹―²―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²–¥–Α–Β―² ―²―Ä–Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä―²–Ψ―³–Β–Μ–Η–Ϋ―΄ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ―É‑―²–Ψ ―à–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ―â–Η–Κ―É ―¹ –±–Β–Μ―΄–Φ–Η –Φ―΄―à–Α–Φ–Η. –†–Α–Ζ–≤–Β ―ç―²–Ψ ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨? –£–Β–Ε–Μ–Η–≤–Α –Μ–Η –ë―Ä–Η–¥–Ε–Β―²? –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä?.. –€–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –ë―Ä–Η–¥–Ε–Β―² –≤―¹―²–Α–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Μ–Β–≥–Μ–Α ―¹–Ω–Α―²―¨? –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Α –Η–≥–Ψ–Μ–Κ–Β – –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ω–Η―² ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –≥–Μ–Α–Ζ–Κ–Ψ–Φ. –ï―¹―²―¨ –Μ–Η ―É –ë―Ä–Η–¥–Ε–Β―² ―É―Ö–Α–Ε–Β―Ä―΄? –Δ–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η―Ü ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Μ―é. –™–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η–Ϋ―è, –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η –≤―¹–Β –Φ–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―à–Α–≥–Ϋ–Β―² –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥ –¥–Ψ–Φ–Α» [15].
–†–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―², –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ―΄–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ―É–≥. –Ξ–Ψ―²―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤ ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Β –Κ–Μ–Β–≤–Β―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –±―΄–≤―à–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ –Η –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α–Μ–Η―²―¨ –Η―Ö –Ϋ–Β–Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–Β–±–Β –≤ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Η –Η―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –î–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Κ–Μ–Β–≤–Β―²―É –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –€–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η–Η, ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―É–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ, –Α –Μ―é–¥―è–Φ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―à–Η–±–Α―²―¨―¹―è, –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Μ–Η? –†–Α–Ζ–≤–Β ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β?
–‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Μ―É–≥–Η, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ψ―²―΅–Α―è–≤―à–Η―¹―¨, –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –≤ ―¹―É–¥ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤, –Ψ―²–Ϋ―è–≤―à–Η―Ö ―É –Ϋ–Η―Ö ―à–Α–Ϋ―¹ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Α, ―΅―¨―è –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–Ε–Α –≤ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Α –Β–Β «–Ϋ–Α–≥–Μ–Ψ–Ι –Η –¥–Β―Ä–Ζ–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–≤–Η―Ü–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É –Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Β―²―¹―è ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι» [16]. –Γ―É–¥―¨―è –Ϋ–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –≤ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ö ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Η –Ζ–Μ–Ψ–≥–Ψ ―É–Φ―΄―¹–Μ–Α –Η –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ –¥–Β–Μ–Ψ, –Η―¹―²–Η―Ü–Α –Ε–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –±–Β–Ζ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Η, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―¹ –Ω–Ψ–¥–Φ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ω―É―²–Α―Ü–Η–Β–Ι – –Κ―²–Ψ –Ϋ–Α–Ι–Φ–Β―² ―¹―É―²―è–Ε–Ϋ–Η―Ü―É? –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ –Η–Ζ‑–Ζ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤. –Γ―Ä–Β–¥–Η ―¹–Μ―É–≥ ―²–Ψ–Ε–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ «―¹–Α―Ä–Α―³–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ»: –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―è―¹―¨ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ϋ―è, ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Η ―¹–Ω–Μ–Β―²–Ϋ–Η―΅–Α–Μ–Η –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α―Ö –Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Κ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η–Μ–Η –Ε–Β –Ψ―²–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ―² –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–≥–Ψ.
–ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Α–Ϋ―è―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ―É –Φ–Ψ–≥ –¥–Α–Ε–Β –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Ι –±–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Μ–Β―Ä–Κ, ―¹–Μ―É–≥–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β―¹―²–Η–Ε–Α. –Γ 1777 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β 1 –≥–Η–Ϋ–Β–Η –Ζ–Α ―¹–Μ―É–≥―É –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α – ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²―¨ ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β ―¹ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –≥–Μ–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω–Ψ–¥ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι.

–™–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α «–ü–Α–Ϋ―΅». 1869
–€―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Η–Ι (butler). –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è ―΅–Η―¹―²–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―à―¨, –Ϋ–Ψ –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –≤―΄―à–Β ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α. –£ –Β–≥–Ψ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Κ–Μ―é―΅–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–≥―Ä–Β–±, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ – –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ ―¹–¥–Β–Μ–Κ–Η ―¹ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η –≤–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –î–≤–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Μ –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ –Ζ–Α ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±–Μ―é–¥–Α –Ζ–Α ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±–Β–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è, –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Η –Ζ–Α –≥–Α―Ä–¥–Β―Ä–Ψ–±–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Β–Φ―É –Ψ–¥–Β–≤–Α―²―¨―¹―è – ―ç―²–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Α–Φ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Β―Ä–Α (valet).
–¦–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É–≥–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α, –Κ–Α–Φ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Β―Ä, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –Β–Φ―É –≤–Α–Ϋ–Ϋ―É –Ω–Ψ―É―²―Ä―É –Η –Ψ–¥–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ –±–Α–≥–Α–Ε –¥–Μ―è –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Ι, –Ζ–Α―Ä―è–Ε–Α–Μ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Ε―¨―è, –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Μ –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –‰–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–Φ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Β―Ä, «–¥–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ –¥–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Α», ―ç―²–Ψ, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –î–Ε–Η–≤―¹, –≥–Β―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤ –ü. –™. –£―É–¥―Ö–Α―É–Ζ–Α – –¥–Α–Ε–Β –≤ XX –≤–Β–Κ–Β –Ψ–Ϋ –±–Μ―é–¥–Β―² –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Θ―¹–Μ―É–≥–Α–Φ–Η –Κ–Α–Φ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―è–Κ–Η –Η–Μ–Η –Ε–Β –Ω―Ä–Β―¹―²–Α―Ä–Β–Μ―΄–Β –¥–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Ψ―²―Ä. –Θ–Ε –Ϋ–Β –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Μ–Η –î–Ε–Η–≤―¹ ―²–Α–Κ ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ –Ω–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β–≤–Β―¹―² –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α –ë–Β―Ä―²–Η –£―É―¹―²–Β―Ä–Α? –•–Β–Ϋ–Η―²―¨–±–Α –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –±―΄ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β.
–£–Η–Ζ–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –Μ–Α–Κ–Β―è (footman) –±―΄–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ù–Α ―ç―²―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±―Ä–Α–Μ–Η –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö, ―¹―²–Α―²–Ϋ―΄―Ö –Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Κ―Ä―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ–±―²―è–≥–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö ―΅―É–Μ–Κ–Α―Ö. –û–±–Μ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Μ–Η–≤―Ä–Β―é, –Μ–Α–Κ–Β–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Μ –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≤–Η–¥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Α–Μ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―É. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Μ–Α–Κ–Β–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –≥–Ψ―¹―²―è–Φ –¥–≤–Β―Ä―¨, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―΄ –Η–Ζ –Κ―É―Ö–Ϋ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β ―²―è–Ε–Β―¹―²–Η (―Ö–Ψ―²―è –Κ–Α―Ä–Η–Κ–Α―²―É―Ä―΄ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―é―², –Κ–Α–Κ –Μ–Α–Κ–Β–Ι –Ϋ–Β―¹–Β―² –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ–Ω–Κ–Ψ–Ι –Ω–Η―¹–Β–Φ, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Α–¥―Ä―΄–≤–Α―è―¹―¨, ―²–Α―â–Η―² –≤–Β–¥―Ä–Ψ ―¹ ―É–≥–Μ–Β–Φ). –ö–Ψ–≥–¥–Α –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–Ε–Α –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Α–Φ, –Μ–Α–Κ–Β–Ι –Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι –Η –Ϋ–Β―¹ –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Κ–Η.
–£–Μ–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –¥–Ψ–Φ–Α. –û–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤ –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²―¨–Β –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η ―¹–Α–¥–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η (gardener), ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β ―à–Β–¥–Β–≤―Ä―΄ –≤ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Α―Ä–Κ–Α―Ö. –£ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Φ–Α―Ö ―¹–Α–¥–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–≤–Β–¥―΄–≤–Α–Μ―¹―è ―Ä–Α–Ζ –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥―¹―²―Ä–Η―΅―¨ –Μ―É–Ε–Α–Ι–Κ―É –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ω–Α–Μ–Η―¹–Α–¥. –£ ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―é―à–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ―΄ ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹–Μ―É–≥–Η, –Κ–Α–Κ –Κ―É―΅–Β―Ä, –Κ–Ψ–Ϋ―é―Ö, –≥―Ä―É–Φ, –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β–≥―É―à–Κ–Α―Ö –Η ―². –¥. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―¹―²–Β―Ä–Β–Ψ―²–Η–Ω–Α–Φ, –Κ―É―΅–Β―Ä–Α –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Φ–Η ―¹ –Μ–Ψ―à–Α–¥―¨–Φ–Η, –Μ–Β–Ϋ–Η–≤―΄–Φ–Η –Ω―¨―è–Ϋ―΅―É–≥–Α–Φ–Η, –Β―â–Β –Η –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―²―΄–Φ–Η –≤ –Ω―Ä–Η–¥–Α―΅―É. –ù–Ψ –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―Ü―΄ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Β, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η –Ψ –Κ―É―΅–Β―Ä–Α―Ö –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è.
–ö –Κ―É―΅–Β―Ä―É (coachman) –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è: –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨―¹―è ―¹ –Μ–Ψ―à–Α–¥―¨–Φ–Η, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―²―¨―¹―è ―²―Ä–Β–Ζ–≤―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ω―É–Ϋ–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η–Β–Φ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö. –î–Μ―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―΅–Β―Ä–Α ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Κ–Α―Ä–Β―²―É –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―¹―É―â–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Μ–Α–≤–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―É–Ε –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –£ –Η–¥–Β–Α–Μ–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β –Κ―É―΅–Β―Ä–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É, ―². –Β. ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¨–Β–Φ ―É –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―΅–Β―Ä–Α. –î–Μ―è ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―΅–Β―Ä–Α ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ï–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤–Ζ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ψ―² ―¹–Ψ―Ö–Η. –ï―¹–Μ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―΅–Β―Ä–Α –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –Κ–Η―΅–Η―²―¨―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Κ―É―΅–Β―Ä–Α –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Μ–Β–Ϋ–Η–≤―΄ – –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η –Ζ–Α―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η―Ö –Α–Ω–Α―²–Η–Β–Ι –Η –Β–Μ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Μ–Η –Ω–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β. –ü–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―²―É–Ω―΄–Φ–Η –Μ–Β–Ϋ―²―è―è–Φ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α―é―² –≤ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η―è―Ö –Ω–Ψ –Ψ–±―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤―É –Κ–Ψ–Ϋ―é―à–Ϋ–Η. –û–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ―É―΅–Β―Ä–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Β―¹―²–Η –Κ–Α―Ä–Β―²―É, ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –Μ–Ψ―à–Α–¥―¨–Φ–Η, ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β ―É–Ω―Ä―è–Ε―¨ –Η ―¹–Α–Φ―É –Κ–Α―Ä–Β―²―É. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ ―¹–Β–¥–Μ–Α. –ï―¹–Μ–Η –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―é―à–Ϋ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²―Ä–Β―Ö –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι, –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Κ―É―΅–Β―Ä―É –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ―É.
–Γ–Β–Φ―¨–Η –Ω–Ψ–±–Ψ–≥–Α―΅–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Β―â–Β –Η –≥―Ä―É–Φ–Α (groom). –ï–≥–Ψ –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨–Β –≤ 1870‑―Ö –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―² 60 ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ –≥–Ψ–¥ –Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α―²―¨ 200–300 ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –≥―Ä―É–Φ ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η –Μ–Ψ―à–Α–¥―è―Ö –Η ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Α–Φ ―É ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥―É ―¹–Μ―É–≥. –Ξ–Ψ―²―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ «–≥―Ä―É–Φ» –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―é―² –Κ –Μ―é–±―΄–Φ ―¹–Μ―É–≥–Α–Φ, –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄–Φ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―é―à–Ϋ–Β, –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ϋ–Α–Ϋ―è―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι –≤ –Ϋ–Α–Η–Μ―É―΅―à–Β–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β. –™―Ä―É–Φ –Ϋ–Α–¥–Ζ–Η―Ä–Α–Μ –Ζ–Α ―΅–Η―¹―²–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι, –Η―Ö ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Α–Φ–Η –Η ―². –¥.
–™―Ä―É–Φ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Β, –Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Κ–Α–Μ ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–Ψ–¥–Α–Μ―¨, –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ ―ç―²–Η–Κ–Β―²―É 1866 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―É–Β―² –¥–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―²―¨ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Φ–Α, –Β―¹–Μ–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –±―É–¥―É―² –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Α–Φ―΄. –î–Α–Φ–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Κ–Α–Κ–Α―²―¨ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Β, –Ζ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η―Ö –Ψ―¹–Ψ–±, –Η–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ―É –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –≥―Ä―É–Φ–Α, –Ϋ–Ψ –Β―â–Β –Η –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –¥–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Η ―É –Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ – –Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―² –Μ–Η –Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η?
–†–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―é―à–Ϋ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―é―Ö (head‑ostler, foreman). –Γ–Μ–Α–±–Ψ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –ß―²–Ψ–±―΄ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―à―²–Α―² –≤ –Β–Ε–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä―É–Κ–Α–≤–Η―Ü–Α―Ö, ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É –Κ–Ψ–Ϋ―é―Ö―É –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ ―²–Η―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ ―²―Ä–Β–Ζ–≤―΄–Φ, –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―΄–Φ. –Γ―Ä–Β–¥–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Κ―É–Ω–Α–Μ –Κ–Ψ―Ä–Φ –Η ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–≥ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –¥–Μ―è –Ω–Ψ―΅–Η–Ϋ–Κ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―é―à–Ϋ–Η –Η–Μ–Η –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –≤–Β―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α―Ä–Α. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ϋ–Β –≤―¹–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―é―Ö–Η –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤–Β―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α―Ä–Α –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Η ―¹–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Μ–Β―΅–Η―²―¨ –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι, –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ―É –Η–Μ–Η, –Ϋ–Α ―Ö―É–¥–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Α–≤ –Κ―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Φ–Ψ–≥―É. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η.
–ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Η, ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –≥―É–≤–Β―Ä–Ϋ–Α–Ϋ―²–Κ–Α (governess), –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–≤―à–Α―è –Κ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ―É –Κ–Μ–Α―¹―¹―É. –ù–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥―É–≤–Β―Ä–Ϋ–Α–Ϋ―²–Κ–Α –Η –≤―΄–±–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ –Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Η –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Κ―É–¥–Α –Β–Β –Ψ―²–Ϋ–Β―¹―²–Η – –Κ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α–Φ –Η–Μ–Η –Κ ―¹–Μ―É–≥–Α–Φ. –ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –±–Β–Μ―΄―Ö ―³–Α―Ä―²―É–Κ–Ψ–≤ –Η ―΅–Β–Ω―Ü–Ψ–≤ ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Α (housekeeper), –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Α, –Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ―é –Η ―¹–Ψ–Ω–Β―Ä–Ϋ–Η―Ü–Α –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Η ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö, –Ζ–Α–Κ―É–Ω–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄, –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ―É – –≤–Ψ―² –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Β–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –û–Ω―΄―²–Ϋ–Α―è ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Α ―¹ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―É―é –±–Α―Ä–Α–Ϋ–Η–Ϋ―É –Ψ―² ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α –≤–Κ―É―¹–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β –≤–Α―Ä–Β–Ϋ―¨―è –Η ―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ―¨―è, –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Η–Φ―΄ –Η –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η –Ϋ–Α―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Α –Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Κ. –ï–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –±―É―³–Β―²–Α: ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ, ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Α –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α –Ζ–Α –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Α–Ι –Ζ–Α–≤–Β―¹―²–Η –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä–Α! –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Α―è –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Α –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ–Κ: ―²―É―² –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Α―è –Φ–Η―¹―¹–Η―¹ –Λ―ç–Ι―Ä―³–Α–Κ―¹, ―²–Α–Κ ―Ä–Α–¥―É―à–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤―à–Α―è –î–Ε–Β–Ϋ –≠–Ι―Ä, –Η –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Α―è –Φ–Η―¹―¹–Η―¹ –™―Ä–Ψ―É–Ζ –Η–Ζ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α –™–Β–Ϋ―Ä–Η –î–Ε–Β–Ι–Φ―¹–Α «–ü–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―² –£–Η–Ϋ―²–Α», –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε –Φ–Η―¹―¹–Η―¹ –î–Β–Ϋ–≤–Β―Ä―¹ –Η–Ζ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α –î–Α―³–Ϋ―΄ –¥―é –€–Ψ―Ä―¨–Β «–†–Β–±–Β–Κ–Κ–Α». –ù–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―è―Ä–Κ–Η–Ι ―²–Α–Ϋ–¥–Β–Φ –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Η, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ –≤ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α –ö–Α―²―Ü―É–Ψ –‰―¹–Η–≥―É―Ä–Ψ «–û―¹―²–Α―²–Κ–Η –¥–Ϋ―è» – –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η –Η ―É―²―Ä–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²―¨―è.

–Ξ–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Α –Η –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α «–ö―ç―¹―¹–Β–Μ―¹». 1887
–¦–Η―΅–Ϋ–Α―è –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è, –Η–Μ–Η –Κ–Α–Φ–Β―Ä–Η―¹―²–Κ–Α (lady’s maid), –±―΄–Μ–Α –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―ç–Κ–≤–Η–≤–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Κ–Α–Φ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Β―Ä–Α. –ù–Α ―ç―²―É ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―¹–Ψ–±―΄ –Φ–Η–Μ–Ψ–≤–Η–¥–Ϋ―΄–Β, ―¹ –Ω–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Η―¹―²―΄–Φ –Ϋ―Ä–Α–≤–Ψ–Φ –Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β. –ö–Α–Φ–Β―Ä–Η―¹―²–Κ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Β –Ω―Ä–Η―΅–Β―¹―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Η –Ψ–¥–Β–≤–Α―²―¨―¹―è, ―΅–Η―¹―²–Η–Μ–Α –Β–Β –Ω–Μ–Α―²―¨―è –Η ―¹―²–Η―Ä–Α–Μ–Α –Κ―Ä―É–Ε–Β–≤–Α –Η –±–Β–Μ―¨–Β, –Ζ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –Β–Β –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ―¨, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Ι. –î–Ψ –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Κ―Ä–Β–Φ–Ψ–≤ –Η ―à–Α–Φ–Ω―É–Ϋ–Β–Ι –≤―¹–Β ―ç―²–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Κ–Α–Φ–Β―Ä–Η―¹―²–Κ–Α–Φ–Η. –ü–Ψ―¹–Ψ–±–Η―è –¥–Μ―è ―¹–Μ―É–≥ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α―é―² ―Ä–Β―Ü–Β–Ω―²―΄ –Μ–Ψ―¹―¨–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ―² –≤–Β―¹–Ϋ―É―à–Β–Κ, –±–Α–Μ―¨–Ζ–Α–Φ–Ψ–≤ –Ψ―² –Ω―Ä―΄―â–Β–Ι, –Ζ―É–±–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―¹―² (–Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –Φ–Β–¥–Α –Η ―²–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–≥–Μ―è). –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Κ–Α–Φ–Β―Ä–Η―¹―²–Κ–Α–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α―²―¨―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Η, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Η –Ψ–¥–Β–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Μ―É―΅―à–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Η. –ü–Ψ –Φ–Β―Ä–Κ–Α–Φ XIX –≤–Β–Κ–Α, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω―Ä–Β―¹―²–Η–Ε–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è.
–ö–Α–Κ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² «–†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è ―¹–Μ―É–≥» 1831 –≥–Ψ–¥–Α, «–Κ―É–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η―è – ―ç―²–Ψ, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Α―É–Κ–Α, –Α –Κ―É―Ö–Α―Ä–Κ–Α – –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä » [17]. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ψ–±–Β–¥ –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β XIX –≤–Β–Κ–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–±–Β–¥―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –±–Μ―é–¥, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Ω–Α―Ä―É –¥–Β―¹–Β―Ä―²–Ψ–≤, –Α –Κ―É―Ö–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Η―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ. –ü–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―à–Η, –Κ–Α–Κ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Κ–Α ―¹ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Φ–Β―΅―²–Α―²―¨. –ö―É―Ö–Α―Ä–Κ–Α (cook) ―¹–Α–Φ–Α ―Ä–Β―à–Α–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –≤ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Κ–Β (–Α ―²–Ψ –Η –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ –Ψ―΅–Α–≥–Β) –¥–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ε–Β―΅―¨ –±–Μ―é–¥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η ―É–≥–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Κ―É―¹–Α–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤. –†–Α–±–Ψ―²–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―è, ―΅―²–Ψ –Κ –Β–¥–Β –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Ι ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –î–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ ―¹―é–¥–Α –Ϋ–Β―Ö–≤–Α―²–Κ―É ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―é―â–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ (–≤ ―Ö–Ψ–¥ ―à–Μ–Α ―¹–Ψ–¥–Α, –Ζ–Ψ–Μ–Α, –Ω–Β―¹–Ψ–Κ), –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Φ―É―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É―Ö–Ψ–≤ –Ψ –≤―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–±–Α–≤–Κ–Α―Ö, –Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―è―¹–Ϋ–Ψ – ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –≤ –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η.
–û―² –Κ―É―Ö–Α―Ä–Κ–Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Α, –Ψ–±―à–Η―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Κ―É–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η–Η –Η –±―΄―¹―²―Ä–Α―è ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η―è. –£ –Ζ–Α–Ε–Η―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Α―Ö –Κ –Κ―É―Ö–Α―Ä–Κ–Β –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η―Ü―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Α –Ζ–Α ―É–±–Ψ―Ä–Κ―É –Κ―É―Ö–Ϋ–Η, –Κ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Α –Ψ–≤–Ψ―â–Η –Η ―¹―²―Ä―è–Ω–Α–Μ–Α –Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –±–Μ―é–¥–Α. –ù–Β–Ζ–Α–≤–Η–¥–Ϋ–Α―è –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ―΄―²―¨ ―²–Α―Ä–Β–Μ–Κ–Η, ―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Κ–Α―¹―²―Ä―é–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹―É–¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι–Κ–Β (scullery maid). –Ξ–Α–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―É–¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―¹―²–Ψ–Η―²―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤―¹–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β! –ü–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –≤–Β―â–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η―è –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É, –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Β –Ψ–± –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―¹―²―Ä―é–Μ―¨, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Β―² ―è–¥–Ψ–≤–Η―²–Α―è –Ω–Α―²–Η–Ϋ–Α, –Β―¹–Μ–Η –Η―Ö –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―É―à–Η―²―¨.
–£ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Β–Φ―¨―è―Ö ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ ―²―Ä–Β―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Κ: –Κ―É―Ö–Α―Ä–Κ―É, –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―É―é –Η –Ϋ―è–Ϋ―é. –™–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β (housemaids, parlourmaids) –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ―É, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ψ–≥ ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ϋ–Α 18 ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤–Β―¹―¨ –≥–Ψ–¥ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η ―¹–≤–Β―΅–Α―Ö, ―¹ 5–6 ―É―²―Ä–Α –¥–Ψ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Ω–Ψ–Κ–Α ―¹–Β–Φ―¨―è –Ϋ–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ω–Α―²―¨. –™–Ψ―Ä―è―΅–Α―è –Ω–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Α, –¥–Μ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―¹ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ –Φ–Α―è –¥–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ –Α–≤–≥―É―¹―²–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―Ä–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ψ–±–Β–¥–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ψ–≤ –Η –±–Α–Μ–Ψ–≤, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―΄―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η –≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ε–Β–Ϋ–Η―Ö–Ψ–≤ –¥–Μ―è –¥–Ψ―΅–Β–Κ. –î–Μ―è ―¹–Μ―É–≥ –Ε–Β ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ –Ψ–±–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ―à–Φ–Α―Ä–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ω–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―΅―¨, –Μ–Η―à―¨ ―¹ ―É―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ê –Ω―Ä–Ψ―¹―΄–Ω–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, ―¹–Ω–Ψ–Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Κ―É.
–Δ―Ä―É–¥ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –±―΄–Μ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Φ –Η –Ϋ―É–¥–Ϋ―΄–Φ. –£ –Η―Ö ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η –Ω―΄–Μ–Β―¹–Ψ―¹–Ψ–≤, –Ϋ–Η ―¹―²–Η―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―à–Η–Ϋ, –Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Ι –±―΄―²–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η, ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η―Ö –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α―²―¨. –½–Α―΅–Β–Φ ―²―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É, –Β―¹–Μ–Η ―²―É –Ε–Β ―¹–Α–Φ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ? –ö–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä―΄ –≤ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Α–¥―¨–±–Α―Ö ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Φ–Η–Μ―é, –Η –Η―Ö ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Κ―Ä–Β―¹―²–Η –≤―Ä―É―΅–Ϋ―É―é, ―¹―²–Ψ―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö. –≠―²–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η–Ζ―à–Β–≥–Ψ –Ζ–≤–Β–Ϋ–Α, –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η 10–15 –Μ–Β―², ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β tweenies. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―É―²―Ä–Ψ–Φ, –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β, –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α–Ε–Η–≥–Α–Μ–Η ―¹–≤–Β―΅―É –Η ―²–Ψ–Μ–Κ–Α–Μ–Η –Β–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä―É. –‰, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –≤–Ψ–¥―É –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –≥―Ä–Β–Μ. –û―² –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≥–Ϋ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ―¹―É―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Η–Ζ–Η―¹―²–Ψ–Ι ―¹―É–Φ–Κ–Η. –ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è housemaid’s knee – «–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι».
–Ξ–Α–Ϋ–Ϋ–Α –ö–Α–Μ–Μ–≤–Η–Κ, –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è –Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ XIX –≤–Β–Κ–Α, ―²–Α–Κ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι ―²–Η–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ 14 –Η―é–Μ―è 1860 –≥–Ψ–¥–Α: «–û―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α ―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η –Η –Ζ–Α–Ε–≥–Μ–Α –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ–Β. –£―΄―²―Ä―è―Ö–Ϋ―É–Μ–Α –Ζ–Ψ–Μ―É ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Β―â–Β–Ι –≤ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ―è–Φ―É, ―²―É–¥–Α –Ε–Β –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –≤―¹―é –Ζ–Ψ–Μ―É. –ü–Ψ–¥–Φ–Β–Μ–Α –Η –≤―΄―²–Β―Ä–Μ–Α –Ω―΄–Μ―¨ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Α―Ö –Η –≤ –Ζ–Α–Μ–Β. –†–Α–Ζ–Ψ–Ε–≥–Μ–Α –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Η –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α–Κ. –ü–Ψ―΅–Η―¹―²–Η–Μ–Α –¥–≤–Β –Ω–Α―Ä―΄ –±–Ψ―²–Η–Ϋ–Ψ–Κ. –½–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ–Η –Η –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―Ä―à–Κ–Η. –Θ–±―Ä–Α–Μ–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α–Κ–Α. –ü–Ψ–Φ―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―É–¥―É, ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ –Η –Ϋ–Ψ–Ε–Η. –û―²–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ψ–±–Β–¥. –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η–±―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨. –ü―Ä–Η–≤–Β–Μ–Α –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Κ―É―Ö–Ϋ―é, ―Ä–Α―¹–Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ―É ―¹ –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Κ–Α–Φ–Η. –î–≤―É―Ö ―Ü―΄–Ω–Μ―è―² –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Φ–Η―¹―¹–Η―¹ –ë―Ä―é―ç―Ä―¹, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Β –Β–Β –Ψ―²–≤–Β―². –‰―¹–Ω–Β–Κ–Μ–Α –Ω–Η―Ä–Ψ–≥ –Η –≤―΄–Ω–Ψ―²―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Α –¥–≤―É―Ö ―É―²–Ψ–Κ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–Ε–Α―Ä–Η–Μ–Α –Η―Ö. –Γ―²–Ψ―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö, –≤―΄–Φ―΄–Μ–Α –Κ―Ä―΄–Μ―¨―Ü–Ψ –Η ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ. –ù–Α―²–Β―Ä–Μ–Α –≥―Ä–Α―³–Η―²–Ψ–Φ ―¹–Κ―Ä–Β–±–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è–Φ–Η, –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤―΄―΅–Η―¹―²–Η–Μ–Α ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β, ―²–Ψ–Ε–Β ―¹―²–Ψ―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö. –£―΄–Φ―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―É–¥―É. –ü―Ä–Η–±―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤–Κ–Β, ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö, –Η –¥–Ψ―΅–Η―¹―²–Α –≤―΄―¹–Κ―Ä–Β–±–Μ–Α ―¹―²–Ψ–Μ―΄. –£―΄–Φ―΄–Μ–Α ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –¥–Ψ–Φ–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Β―Ä–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η. –£ –¥–Β–≤―è―²―¨ –Ζ–Α–±―Ä–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ–Β ―΅–Α–Ι –¥–Μ―è –Φ–Η―¹―²–Β―Ä–Α –Η –Φ–Η―¹―¹–Η―¹ –Θ–Ψ―Ä–≤–Η–Κ. –· –±―΄–Μ–Α –≤ –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Β, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―΅–Α–Ι –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –≠–Ϋ–Ϋ. –£―΄–Φ―΄–Μ–Α ―¹–Ψ―Ä―²–Η―Ä, –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä –Η –Ω–Ψ–Μ –≤ ―¹―É–¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι–Ϋ–Β, ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö. –£―΄–Φ―΄–Μ–Α ―¹–Ψ–±–Α–Κ―É, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄―΅–Η―¹―²–Η–Μ–Α ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄. –ü―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Α ―É–Ε–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≠–Ϋ–Ϋ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö – ―è –±―΄–Μ–Α ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―É―¹―²–Α–Μ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―²―É–¥–Α –Η–¥―²–Η. –£―΄–Φ―΄–Μ–Α―¹―¨ –≤ –≤–Α–Ϋ–Ϋ–Β –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Α ―¹–Ω–Α―²―¨» [18].
–ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, ―¹–Μ―É–≥–Α–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Β―â–Β –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è. –û―² –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–≥–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α―²―¨ ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―é―é –≥–Α–Ζ–Β―²―É ―É―²―é–≥–Ψ–Φ –Η ―¹―à–Η–≤–Α―²―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ω–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ―É –±―΄–Μ–Ψ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Β–Β ―΅–Η―²–Α―²―¨. –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α ―¹ –Ω–Α―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Η–¥–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Μ―é–±–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Κ, –Ζ–Α―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α―è –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–≤–Β―Ä –Φ–Ψ–Ϋ–Β―²―É. –ï―¹–Μ–Η –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –Ζ–Α–±–Η―Ä–Α–Μ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Β―΅–Η―¹―²–Α –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ―É, –Β―¹–Μ–Η –Ε–Β –Φ–Ψ–Ϋ–Β―²–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β – –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Φ―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ―΄!
–‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥―É –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α – –≤―Ä–Ψ–¥–Β –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Η –Κ–Α–Φ–Β―Ä–Η―¹―²–Κ–Η – –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄, –î–Ε–Η–≤―¹–Α –Η–Ζ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤ –£―É–¥―Ö–Α―É–Ζ–Α – –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι ―Ä–Β–Μ–Η–Κ―² –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η. –ï–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ, ―à–Α–Μ–Ψ–Ω–Α–Ι –ë–Β―Ä―²–Η –£―É―¹―²–Β―Ä, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Β–≥–Ψ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η, –Η –Μ–Η―à―¨ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Η–Φ―è –Ϋ–Β―É―²–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Φ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Β―Ä–Α – –†–Β–¥–Ε–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–¥. –≠–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Α–Φ –Η –Κ―É―Ö–Α―Ä–Κ–Α–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―²–Η―²―É–Μ «–Φ–Η―¹―¹–Η―¹» –≤–¥–Ψ–±–Α–≤–Ψ–Κ –Κ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Β–Φ. –Γ–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Κ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―â–Β –Ζ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ, –Η ―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α.
–£ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Β–Φ―¨―è―Ö –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Η–Φ―è, –Β―¹–Μ–Η –Β–Β –Η–Φ―è ―É–Ε–Β «–Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ–±–Η–Μ–Α» –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –±–Α―Ä―΄―à–Β–Ϋ―¨ –Η–Μ–Η –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―²―΄ ―Ä–Α–¥–Η. –£–Β–¥―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –Η ―É―Ö–Ψ–¥―è―², ―²–Α–Κ –Ζ–Α―΅–Β–Φ –Ζ–Α–±–Η–≤–Α―²―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Η―Ö –Η–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η? –ü―Ä–Ψ―â–Β –Ζ–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–Ε–¥―É―é –Ϋ–Ψ–≤―É―é –€―ç―Ä–Η –Η–Μ–Η –Γ―¨―é–Ζ–Β–Ϋ. –®–Α―Ä–Μ–Ψ―²―²–Α –ë―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η–Φ―è –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö – –ê–±–Η–≥–Α–Ι–Μ―¨.
–£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β XIX –≤–Β–Κ–Α –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–≤–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Α 6–8 ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ –≥–Ψ–¥, –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ϋ–Α ―΅–Α–Ι, ―¹–Α―Ö–Α―Ä –Η –Ω–Η–≤–Ψ. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ «–ö―ç―¹―¹–Β–Μ―¹» –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β «–¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ϋ–Α –Ω–Η–≤–Ψ». –ï―¹–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è –Ω―¨–Β―² –Ω–Η–≤–Ψ, ―²–Ψ ―É–Ε –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α –±―É–¥–Β―² –±–Β–≥–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –≤ –Κ–Α–±–Α–Κ, –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ï―¹–Μ–Η –Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―¨–Β―², ―²–Ψ –Ζ–Α―΅–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨ –Β–Β –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α–Φ–Η? –Ξ–Ψ―²―è –Κ―É―Ö–Α―Ä–Κ–Η ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Κ–Ψ―¹―²–Η, ―à–Κ―É―Ä–Κ–Η –Κ―Ä–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ–≤, ―²―Ä―è–Ω–Κ–Η –Η ―¹–≤–Β―΅–Ϋ―΄–Β –Ψ–≥–Α―Ä–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–±―΄―΅–Β–Ι, «–ö―ç―¹―¹–Β–Μ―¹» –Η ―²―É―² –Ω–Ψ–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Η–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ε–Κ―É. –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É –Ϋ–Α―¹―²–Α–Η–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±–Η―Ä–Α―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Η –Ψ―à–Φ–Β―²–Κ–Η, –Ϋ–Β–Φ–Η–Ϋ―É–Β–Φ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Ϋ–Β―²―¹―è –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹―²–≤–Ψ. –¦–Η―à―¨ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α ―Ä–Β―à–Α―²―¨, –Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Φ –Ψ–¥–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨. –ö―É―Ö–Α―Ä–Κ–Η –≤–Ψ―Ä―΅–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –≤–Β–¥―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Α ―à–Κ―É―Ä–Ψ–Κ ―¹―²–Α―Ä―¨–Β–≤―â–Η–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α ―Ö–Ψ―²―¨ –Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–≤–Β―¹–Ψ–Κ –Κ –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨―é.
–¦–Η―΅–Ϋ–Α―è –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Η –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –≤–Β–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Α 12–15 ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ –≥–Ψ–¥ –Ω–Μ―é―¹ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―΄, –Μ–Η–≤―Ä–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι –Μ–Α–Κ–Β–Ι – 13–15 ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ –≥–Ψ–¥, –Κ–Α–Φ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Β―Ä – 25–50. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, 26 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è, –≤ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –î–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Ψ–≤ (Boxing day), –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Α –Η–Μ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η. –ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨―è, ―¹–Μ―É–≥–Η ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Η –Ϋ–Α ―΅–Α–Β–≤―΄–Β –Ψ―² –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ü―Ä–Η –Ψ―²―ä–Β–Ζ–¥–Β –≥–Ψ―¹―²―è –≤―¹―è –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Α –≤―΄―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ‑–¥–≤–Α ―Ä―è–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –¥–≤–Β―Ä–Η, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –Μ―é–¥–Β–Ι, ―¹―²–Β―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α―Ö, ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―΅–Α ―΅–Α–Β–≤―΄―Ö –±―΄–Μ–Α –Κ–Ψ―à–Φ–Α―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―è–≤―É. –‰–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ–Ψ–Φ. –£–Β–¥―¨ –Β―¹–Μ–Η ―¹–Μ―É–≥–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ ―¹–Κ―É–Ω―É―é –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Κ―É, ―²–Ψ –Ω―Ä–Η ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –≥–Ψ―¹―²―è –Φ–Ψ–≥ –Η–≥–Ϋ–Ψ―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Η–Ϋ–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄ – ―¹ –Ε–Α–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ζ–Α―΅–Β–Φ ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η―²―¨―¹―è.
–û―²–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―è ―¹–±–Β―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Μ―É–≥–Η –Η–Ζ –±–Ψ–≥–Α―²―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Η―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹―É–Φ–Φ―É, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Μ–Η ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―¨ –Η―Ö –≤ –Ζ–Α–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é –±―΄–≤―à–Η–Β ―¹–Μ―É–≥–Η –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ―é –Η–Μ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η ―Ä―è–¥―΄ –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Η―â–Η―Ö – ―²―É―² ―É–Ε –Κ–Α–Κ –Κ–Α―Ä―²–Α –Μ―è–Ε–Β―². –¦―é–±–Η–Φ―΄–Β ―¹–Μ―É–≥–Η, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ―è–Ϋ―é―à–Κ–Η, –¥–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Β–Κ ―¹ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α–Φ–Η.
–ê–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Μ―É–≥ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ε–Β―¹―²―è–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―É–Ϋ–¥―É―΅–Κ–Β – –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Α―²―Ä–Η–±―É―²–Β ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Η – ―É –Ϋ–Β–Β –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η ―²―Ä–Η –Ω–Μ–Α―²―¨―è: –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β –Η–Ζ ―Ö–Μ–Ψ–Ω―΅–Α―²–Ψ–±―É–Φ–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Κ–Α–Ϋ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―É―²―Ä–Α–Φ, ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β ―¹ –±–Β–Μ―΄–Φ ―΅–Β–Ω―Ü–Ψ–Φ –Η ―³–Α―Ä―²―É–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –¥–Ϋ–Β–Φ, –Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β. –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è ―¹―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Μ–Α―²―¨―è –¥–Μ―è –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≤ 1890‑―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö ―Ä–Α–≤–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ 3 ―³―É–Ϋ―²–Α–Φ – ―². –Β. –Ω–Ψ–Μ―É–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨―é –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Β–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨. –ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ω–Μ–Α―²―¨–Β–≤, –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α–Μ–Η ―¹–Β–±–Β ―΅―É–Μ–Κ–Η –Η ―²―É―³–Μ–Η, –Η ―ç―²–Α ―¹―²–Α―²―¨―è ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Α –±–Β–Ζ–¥–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü–Β–Φ, –≤–Β–¥―¨ –Η–Ζ‑–Ζ–Α –±–Β–≥–Ψ―²–Ϋ–Η –Ω–Ψ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ –Ψ–±―É–≤―¨ ―¹–Ϋ–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ.
–£ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é ―É–Ϋ–Η―³–Ψ―Ä–Φ―É –Μ–Α–Κ–Β–Β–≤ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –±―Ä―é–Κ–Η –¥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Α –Η ―è―Ä–Κ–Η–Ι ―¹―é―Ä―²―É–Κ ―¹ ―³–Α–Μ–¥–Α–Φ–Η –Η –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―Ü–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ ―³–Α–Φ–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≥–Β―Ä–±, –Β―¹–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―É ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η–Φ–Β–Μ―¹―è. –î–≤–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Η, –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ ―³―Ä–Α–Κ, –Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ―è, ―΅–Β–Φ ―³―Ä–Α–Κ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α. –û―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤―΄―΅―É―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É–Ϋ–Η―³–Ψ―Ä–Φ–Α –Κ―É―΅–Β―Ä–Α – –Ϋ–Α―΅–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ –±–Μ–Β―¹–Κ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β ―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Η, ―è―Ä–Κ–Η–Ι ―¹―é―Ä―²―É–Κ ―¹ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Μ–Η –Φ–Β–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―Ü–Α–Φ–Η –Η ―à–Μ―è–Ω–Α ―¹ –Κ–Ψ–Κ–Α―Ä–¥–Ψ–Ι.

–¦–Α–Κ–Β–Ι –≤ –Κ–Μ―É–±–Β. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α «–ü–Α–Ϋ―΅». 1858
–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ –¥–≤–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –¥―Ä―É–≥ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ω–Ψ–¥ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä―΄―à–Β–Ι. –î–Μ―è –≤―΄–Ζ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―É –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–≤, ―¹–Ψ ―à–Ϋ―É―Ä–Κ–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Κ–Ϋ–Ψ–Ω–Κ–Ψ–Ι –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Β –Η –Ω–Α–Ϋ–Β–Μ―¨―é –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Η–Ζ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―΄ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤―΄–Ζ–Ψ–≤. –Ξ–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ, –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ ―ç―²–Α–Ε–Β. –Θ –Κ–Α–Φ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Β―Ä–Α –Η –Κ–Α–Φ–Β―Ä–Η―¹―²–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―΄, –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é ―¹–Φ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤, –Κ―É―΅–Β―Ä –Η –≥―Ä―É–Φ –Ε–Η–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è―Ö –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―é―à–Ϋ–Η, –Α ―É ―¹–Α–¥–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Κ–Ψ―²―²–Β–¥–Ε–Η.
–™–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α ―²–Α–Κ―É―é ―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―à―¨, ―¹–Μ―É–≥–Η –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–≤–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α –¥―É–Φ–Α–Μ–Η: «–£–Β–Ζ–Β―² –Ε–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ!» –‰–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ω–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ–Β, –Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ – –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≥–Α–Ζ –Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –¥–Ψ–Φ–Α―Ö, –Η―Ö ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ – –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α―²–Ψ–Ι. –™–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ω–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η ―¹–≤–Β―΅–Α―Ö, –Α ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Φ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–¥–Α –≤ –Κ―É–≤―à–Η–Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Μ–Α –Η ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―É–Φ―΄―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Κ. –Γ–Α–Φ–Η –Ε–Β ―΅–Β―Ä–¥–Α―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―ç―¹―²–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Φ–Η – ―¹–Β―Ä―΄–Β ―¹―²–Β–Ϋ―΄, –≥–Ψ–Μ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―΄, –Φ–Α―²―Ä–Α―¹―΄ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Κ–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ―²–Β–Φ–Ϋ–Β–≤―à–Η–Β –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Α –Η ―Ä–Α―¹―²―Ä–Β―¹–Κ–Α–≤―à–Η–Β―¹―è ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Φ–Β–±–Β–Μ―¨ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–¥–Η–Η ―É–Φ–Η―Ä–Α–Ϋ–Η―è.
–û―² –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ–Α –¥–Ψ ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ–Α – –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, –Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α–Φ –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è, –Β―¹–Μ–Η ―¹–Μ―É–≥–Η ―¹–Ϋ―É―é―² –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ―É –±–Β–Ζ –≤–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―²–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄. –≠―²–Α –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α ―Ä–Β―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ –¥–≤―É―Ö –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü – –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι. –¦–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Α, ―ç―²–Α–Κ–Α―è –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Η―Ä–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―à–Μ–Α –≤ –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Ψ–Μ―¨–Κ–Μ–Ψ―Ä, –Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―¹–Μ―É–≥ –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β–Φ –Ω―΄―²–Κ–Η. –‰–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Ι –≤–≤–Β―Ä―Ö –Η –≤–Ϋ–Η–Ζ, ―²–Α―¹–Κ–Α―è ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Β –≤–Β–¥―Ä–Α ―¹ ―É–≥–Μ–Β–Φ –Η–Μ–Η ―¹ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –¥–Μ―è –≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄. –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Ψ–±–Β–¥–Α–Μ–Η –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―¹–Μ―É–≥–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ–Β. –‰―Ö ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ –Ψ―² –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η –Ψ―² ―â–Β–¥―Ä–Ψ―¹―²–Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤. –£ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Α―Ö –Ψ–±–Β–¥ –¥–Μ―è ―¹–Μ―É–≥ –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Ω―²–Η―Ü―É, –Ψ–≤–Ψ―â–Η, –≤–Β―²―΅–Η–Ϋ―É, –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥―É –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –≤–Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–Μ–Ψ–¥―¨. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ –¥–Β―²―è–Φ –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Α–Φ, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Η―²―¨―¹―è.
–î–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α XIX –≤–Β–Κ–Α ―¹–Μ―É–≥–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β. –ö–Α–Ε–¥–Α―è –Φ–Η–Ϋ―É―²–Α –Η―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤―¹–Β―Ü–Β–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α–Φ. –ù–Ψ –≤ XIX –≤–Β–Κ–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –¥–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Η–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ (–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η –≤ –Κ–Ψ–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β ―É―Ö–Α–Ε–Β―Ä–Ψ–≤!). –ê –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Α –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –±–Α–Μ –¥–Μ―è –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Μ―É–≥ –≤ –Ζ–Α–Φ–Κ–Β –ë–Α–Μ–Φ–Ψ―Ä–Α–Μ.
–û―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α–Φ–Η –Η ―¹–Μ―É–≥–Α–Φ–Η –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Η –Ψ―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ – –Η –Ψ―² –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤, –Η –Ψ―² –Η―Ö ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Α. –û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―΅–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α ―¹–Β–Φ―¨―è, ―²–Β–Φ –Μ―É―΅―à–Β –≤ –Ϋ–Β–Ι –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Β. –ê―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Α–Φ ―¹ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α ―¹―΅–Β―² –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Η, –Ψ–Ϋ–Η –Η ―²–Α–Κ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η ―¹–Β–±–Β ―Ü–Β–Ϋ―É. –£ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ―É–≤–Ψ―Ä–Η―à–Η, ―΅―¨–Η –Ω―Ä–Β–¥–Κ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ «–Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―é», –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―²―Ä–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Μ―É–≥, ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α―è ―¹–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ. –Γ–Μ–Β–¥―É―è –Ζ–Α–≤–Β―²―É «–≤–Ψ–Ζ–Μ―é–±–Η –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ», ―΅–Α―¹―²–Ψ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ ―¹–Μ―É–≥–Α―Ö, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Η–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ–¥–Β–Ε–¥―É –Η –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤―Ä–Α―΅–Α, ―¹–Μ―É―΅–Η―¹―¨ –Η–Φ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β―²―¨, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥―É ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–±–Β. –ë–Α―Ä―¨–Β―Ä―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α–Ε–Β –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η – –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―¹–Κ–Α–Φ―¨–Η, –Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Η –Μ–Α–Κ–Β–Η ―¹–Α–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Ϋ–Η―Ö ―Ä―è–¥–Α―Ö.
–û–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è –Κ―É―΅–Β―Ä–Α
–î–Ψ ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –±―΄–Μ–Η –¥–Η–Μ–Η–Ε–Α–Ϋ―¹―΄ (stagecoach). –£ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Η–¥ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ XVI –≤–Β–Κ–Β –Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α XX –≤–Β–Κ–Α. –î–Η–Μ–Η–Ε–Α–Ϋ―¹ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Ϋ―É―é –Κ–Α―Ä–Β―²―É, –Ζ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι. –†–Α–Φ―΄ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ –Η –Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Α –Κ―Ä–Α―¹–Η–Μ–Η –≤ ―è―Ä–Κ–Ψ‑–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι ―Ü–≤–Β―², –Ω–Ψ –±–Ψ–Κ–Α–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –±―É–Κ–≤–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ–Α–Μ–Β–≤–Α–Ϋ―΄ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Φ–Β―¹―²–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Κ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η, ―²–Α–Κ –Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η. –Δ–Β, ―΅―²–Ψ ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ―Ä―΄―à–Β –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –≤―΄―¹―²―É–Ω–Β –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η –Κ–Α―Ä–Β―²―΄. –î–Η–Μ–Η–Ε–Α–Ϋ―¹―΄ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Κ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι, –Η –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι. –Γ–Κ―Ä–Η–Ω―è, –Κ–Α―Ä–Β―²–Α –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Μ–Α –Ω–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ 4 –Φ–Η–Μ–Η (6 –Κ–Φ) –≤ ―΅–Α―¹. –ï―¹–Μ–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –±―΄–Μ–Α –≤ –≥–Ψ―Ä―É, –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ –Κ–Α―Ä–Β―²―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –≤–Ζ–±–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ ―Ö–Ψ–Μ–Φ―É.
–£ 1784 –≥–Ψ–¥―É –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤–Η–¥ –¥–Η–Μ–Η–Ε–Α–Ϋ―¹–Α – –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤–Α―è –Κ–Α―Ä–Β―²–Α (–≤ –‰―Ä–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η – ―¹ 1799 –≥–Ψ–¥–Α). –ü–Ψ―΅―²–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Α―Ä–Β―²―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ 1850‑―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η―Ö –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―²–Β―¹–Ϋ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α. –Λ–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –¥–Η–Μ–Η–Ε–Α–Ϋ―¹, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ –Β―â–Β –Η –Ω–Ψ―΅―²―É. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β –Ω–Ψ―΅―²―É –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―΅―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ―É, ―²–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ε–Β―Ä―²–≤–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Α―Ä–Β―²―΄, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ―΄–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Β–Β. –ö –Φ–Β―¹―²―É –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α–Μ–Η –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β.
–ü–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α–Κ―²―É ―¹ –ü–Ψ―΅―²–Ψ–≤―΄–Φ –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Ψ ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α XIX –≤–Β–Κ–Α –ü–Ψ―΅―²–Ψ–≤–Ψ–Β –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±–Ζ–Α–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―Ä–Β―²–Α–Φ–Η. –Γ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Β –Η―Ö –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―à–Μ―è–Ω―΄ –Η –Α–Μ―΄–Β –Μ–Η–≤―Ä–Β–Η ―¹ ―¹–Η–Ϋ–Η–Φ–Η –Μ–Α―Ü–Κ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Φ–Η –≥–Α–Μ―É–Ϋ–Α–Φ–Η. –û–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ – –¥–≤―É–Φ―è –Ω–Η―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –Η –Φ―É―à–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ. –£ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Κ–Η –Κ–Α―Ä–Β―²―΄ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ–±―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ω–Ψ―΅―²―É, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Η –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ. –ù–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―É―΅–Β―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ –Ω–Ψ―΅―²―É –Ψ―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Η –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α. –ï–Φ―É –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―΅–Α―¹―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é, –Η –≥–Ψ―Ä–Ϋ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―΅―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Α―Ä–Β―²―΄. –Θ―¹–Μ―΄―à–Α–≤ –≥–Ψ―Ä–Ϋ, –Ω―Ä–Η–≤―Ä–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Α―Ö, –≥–¥–Β –≤–Ζ–Η–Φ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ―à–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Α―Ö–Η–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α – –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä–Β―²–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è, –Η―Ö –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―à―²―Ä–Α―³–Ψ–≤–Α―²―¨. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä–Β―²―΄ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―É―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤―΄–Φ, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ϋ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Η–Φ.
–£ –Ψ–±―â–Β–Φ –Η ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä–Β―²–Β –±―΄–Μ–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄–Φ, ―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Φ. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, ―¹–Μ―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Κ―É―Ä―¨–Β–Ζ―΄. –Δ–Α–Κ, –≤ 1816 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤–Α―è –Κ–Α―Ä–Β―²–Α, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–≤―à–Α―è―¹―è –Η–Ζ –≠–Κ―¹–Β―²–Β―Ä–Α –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ, ―É–Ε–Β –≤―ä–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―΄–Ι –¥–≤–Ψ―Ä –≥–¥–Β‑―²–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–Ϋ–Β –Γ–Ψ–Μ―¹–±–Β―Ä–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι –Ϋ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨… –Μ―¨–≤–Η―Ü–Α! –û–Ϋ–Α ―¹–±–Β–Ε–Α–Μ–Α –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Β―Ä–Η–Ϋ―Ü–Α. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ψ―²―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, –Μ―¨–≤–Η―Ü–Α –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ―Ä―É―²―è―â–Β–≥–Ψ―¹―è ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Ω―¹–Α, –Ω–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Η ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä–Ζ–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β. –£―΄–Η–≥―Ä–Α–≤ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ω–Β―Ä–Β–Ω―É―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―΄ –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―É –Η –Ζ–Α–±–Α―Ä―Ä–Η–Κ–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–≤–Β―Ä–Η, –Ψ–Ω–Α―¹–Α―è―¹―¨, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Μ―¨–≤–Η―Ü–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –¥–Ψ –Ϋ–Η―Ö. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ –Ζ–≤–Β―Ä–Η–Ϋ―Ü–Α –Ψ―²―΄―¹–Κ–Α–Μ –Β–Β –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―¹–Α―Ä–Α–Β–≤ –Η –Ζ–Α–±―Ä–Α–Μ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―΄ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Β!
–ü–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹―΄ –Η –Κ―ç–±―΄. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ –î–Ε–Ψ―Ä–¥–Ε –®–Η–Μ–Μ–Η–±–Β―Ä –≤ 1829 –≥–Ψ–¥―É. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ü―ç–¥–¥–Η–Ϋ–≥―²–Ψ–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –†–Η–¥–Ε–Β–Ϋ―²―¹‑–Ω–Α―Ä–Κ –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Γ–Η―²–Η. –£―¹–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ―é –≤ 5 –Φ–Η–Μ―¨ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ 1 ―΅–Α―¹.
–€–Β―¹―²–Α –≤ –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Κ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η, ―²–Α–Κ –Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η. –ß―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ –Φ–Β―¹―² –Ϋ–Α –Κ―Ä―΄―à–Β, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Κ–Α―Ä–Α–±–Κ–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β, –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Ζ–Α ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―¨ –Η–Μ–Η –Ζ–Α –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ―¨. –£–Ψ–Ζ–Μ–Β –Κ―É―΅–Β―Ä–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ 2 –Η–Μ–Η 4 –Φ–Β―¹―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Μ–Η–Β–Ϋ―²―΄.
–£–Ϋ―É―²―Ä–Η –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹ –±―΄–Μ –Ψ–±–Η―² –±–Α―Ä―Ö–Α―²–Ψ–Φ. –Γ–Η–¥–Β–Ϋ―¨―è ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –¥–≤―É―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨―¹―è 5 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –£–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ –≤–Ϋ―É―²―Ä―¨ –Μ–Η―à―¨ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –¥–≤–Β―Ä―¨, –Α –Κ―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Β–¥–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η ―¹–≤–Β―². –ù–Α –Ω–Ψ–Μ―É –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Α ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Φ–Β―Ä–Ζ–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≥–Η, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Α―΅–Κ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ϋ–Α–Φ–Ψ–Κ–Α–Μ–Α. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Φ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α–±―¨–Β―²―¹―è ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α. –ö―²–Ψ‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ―²–¥–Α–≤–Η―² –≤–Α–Φ –Ω–Α–Μ―¨―Ü―΄, ―²–Κ–Ϋ–Β―² –≤ –±–Ψ–Κ –Ζ–Ψ–Ϋ―²–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―΄ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –¥–≤–Β―Ä―¨, –Ω–Ψ–¥ ―É―Ö–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–Β―²―¹―è –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ–Β―Ü, –Α ―¹–Ψ―¹–Β–¥ ―¹–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹–Α―Ö –≥–Ϋ–Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Μ–Ψ―Ö–Η. –ù–Β―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η, ―â–Β–¥―Ä–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β ―¹–Η–¥–Β–Ϋ―¨―è –¥–Α–Φ–Α–Φ.
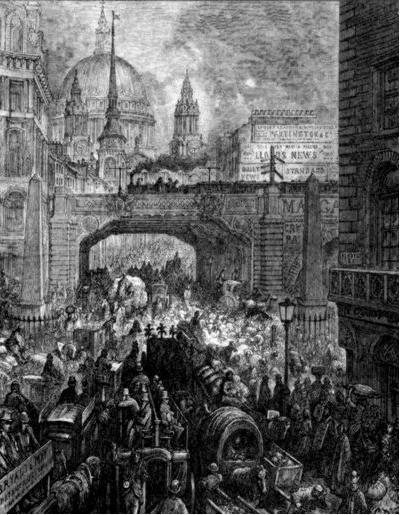
–Θ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –™―é―¹―²–Α–≤–Α –î–Ψ―Ä–Β –Η–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η «–ü–Α–Μ–Ψ–Φ–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ». 1877
–û–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹―΄ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –≤ 8 ―É―²―Ä–Α. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Β ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Β ―É–Ε–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹–Α―Ö –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹. –ï―¹–Μ–Η –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä, –Ε–Β–Μ–Α–≤―à–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Κ–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹–Β, –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ –Κ―É―΅–Β―Ä –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Ψ–Β―Ö–Α―²―¨ –Φ–Η–Φ–Ψ –Η–Μ–Η –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²―¨ ―Ö–Ψ–¥, –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α―è –Ζ–Α–Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É.
–ö–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Α ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Β ―¹–Μ–Β–≤–Α –Ψ―² –¥–≤–Β―Ä–Β–Ι. –£ –Β–≥–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ – –Η–Μ–Η –Ψ―²―¹–Β–Η–≤–Α―²―¨ – –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤, –±―Ä–Α―²―¨ –Ω–Μ–Α―²―É –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–¥, –Α –≤ ―ç–Ω–Ψ―Ö―É –Κ―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Β―â–Β –Η –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –¥–Α–Φ―¹–Κ―É―é ―é–±–Κ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α –Β–Β –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ–Η―Ü–Α –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η―¹–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ ―¹–Α–Μ–Ψ–Ϋ. –ü–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –≤ –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹–Α―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –±–Η–Μ–Β―²–Ψ–≤ – –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Η–Μ–Β―²―΄ –≤―¹–Β –Ε–Β –≤–≤–Β–Μ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä―΄ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ζ–Α–±–Α―¹―²–Ψ–≤–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –≤–Ω―É―¹―²―É―é, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Μ.
–ü–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―΄ –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–±–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, ―¹―²–Α―Ä–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α–±–Η―²―¨ –≤ ―¹–Α–Μ–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α, ―¹–Α–Φ–Η –Ε–Β –Κ―É―΅–Β―Ä–Α –Η –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä―΄ ―¹―²–Β–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ―² ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü–Β–≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Ι. –½–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ: –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –≤–Β–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –Ψ―² 20 –¥–Ψ 34 ―à–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤ –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é, –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è ―΅–Α–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α ―¹–Η–¥–Β–Ϋ―¨―è –Ϋ–Α –Ψ–±–Μ―É―΅–Κ–Β, –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä – –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 20 ―à–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤. –ù–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ―¨―é, –¥–Β―²–Β–Ι –Η –Ϋ–Β―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â―É―é –Ε–Β–Ϋ―É. –Γ–Μ–Β–¥―É―è «–¥―É―Ö―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η», –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―è–≥–Η, –Κ–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤, ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η―Ö –Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤–Ϋ–Β –¥–Ψ–Φ–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.
–†–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η ―É―²―Ä–Α, –Α –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―΅―¨, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Β―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨ –Η–Ζ–≤–Ψ–Ζ―΅–Η–Κ –Η –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä ―²―Ä―è―¹–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹–Β, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β. –ü–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ –Ψ–±–Β–¥ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ–Φ –¥–≤–Ψ―Ä–Β, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Φ–Η–Ϋ―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―É–¥–Α―΅–Β–Ι, –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ–≤–Ψ–Ζ―΅–Η–Κ–Η –Ψ–±–Β–¥–Α–Μ–Η, –Ϋ–Β ―¹―Ö–Ψ–¥―è ―¹ –Ψ–±–Μ―É―΅–Κ–Α. –£―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Η–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨. –ö–Α–Κ ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Α–Μ―¹―è –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä: «–· –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α―é –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α, –Ϋ–Η ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Ϋ–Η ―²–Β–Α―²―Ä―΄. –†–Α–Ζ–≤–Β ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅―É –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤ –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α… –½–Η–Φ–Ψ–Ι ―è –≤–Η–Ε―É ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―²―Ä–Ψ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β ―¹–Ω―è―²… –ï―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–≤―É―²―¹―è, –Φ–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Β―² – –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ–Φ –Φ–Β–Ϋ―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±―É–¥–Η―à―¨ » [19]. –ö ―²―è–Ε–Κ–Η–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ ―²―Ä―É–¥–Α –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –Ξ–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Α–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ψ–±―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Η―Ö, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Ζ―²–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Η ―¹–¥–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –≤―΄―Ä―É―΅–Κ–Η, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η – –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –¥–Α–Φ―É ―Ä–Β―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Α ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Μ–Α, –Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Μ–Α―²–Η―² –Ζ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β, –Α –Κ―²–Ψ – –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β.

–‰–Ζ–≤–Ψ–Ζ―΅–Η–Κ. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α «–ü–Α–Ϋ―΅». 1870
–Γ–Ψ–Ω–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η –Κ―ç–±―΄, –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η–Β –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –Ϋ–Α–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―Ä–Β―²–Α–Φ. –£ XVIII –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β XIX –≤–Β–Κ–Α ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Α–Β–Φ–Ϋ―É―é –Κ–Α―Ä–Β―²―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ–Φ –¥–≤–Ψ―Ä–Β, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ζ–Α –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―É―é ―¹―É–Φ–Φ―É. –£ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Β–Φ–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä–Β―²―΄ –±―΄–Μ–Η –≤―΄―à–Β–¥―à–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α–Φ–Η –Α―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ–≤, –Η –Ϋ–Β―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Μ–Η –Β–Μ–Β‑–Β–Μ–Β. –î–Α –Η –Κ―É–¥–Α –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ω–Β―à–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η? –ù–Ψ ―É–Ε–Β –≤ 1820‑―Ö –Η–Ζ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Α –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Κ–Α–±―Ä–Η–Ψ–Μ–Β―²―΄, –Η–Μ–Η «–Κ―ç–±―΄», – –Μ–Β–≥–Κ–Η–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η, –Μ–Η―Ö–Ψ ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–Ζ–Ε–Α–≤―à–Η–Β –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö –Κ–Μ–Η–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –Ξ―ç–Ϋ―¹–Ψ–Φ, –¥–≤―É―Ö–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –¥–≤―É―Ö–Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹–Η–¥–Β–Ϋ―¨–Β –Κ―É―΅–Β―Ä–Α, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ–Β, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ζ–Α–¥–Η, ―¹―²–Α–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Ψ–≤ –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Α.
–‰–Ζ–≤–Ψ–Ζ―΅–Η–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―à–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―΄–≤―à–Η–Β ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü―΄, –Κ–Μ–Β―Ä–Κ–Η, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η, –Μ–Α–Κ–Β–Η, –±–Α–Κ–Α–Μ–Β–Ι―â–Η–Κ–Η, –¥–Α–Ε–Β –≤–Ζ–Μ–Ψ–Φ―â–Η–Κ–Η –Η –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α–Μ–Η –Κ–Α―Ä–Β―²―É –Η –Μ–Ψ―à–Α–¥―¨, –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ε–Β –Α―Ä–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η―Ö ―É –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Ι. –ß―²–Ψ–±―΄ ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Η ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Β–Ι ―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨―¹―è, –Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―É–Ϋ–Β―¹―²–Η, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―²–Β –Μ–Η―Ü–Α. –Θ –Η–Ζ–≤–Ψ–Ζ―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Φ–Β–Ϋ, ―¹–Α–Φ–Α―è –¥–Ψ–Μ–≥–Α―è –¥–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 20 ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è―¹―¨ –≤ 10 ―É―²―Ä–Α –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―è―¹―¨ ―É–Ε–Β ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ ―É―²―Ä–Ψ–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Κ―ç–±–±–Η ―²–Α–Κ ―É―¹―²–Α–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–¥–≤–Α –Ϋ–Β –≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ψ–±–Μ―É―΅–Κ–Α, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Β–Μ–Η―Ü–Β–Ϋ–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ―É―΅–Β―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η. –Θ―²―Ä–Α―²–Η–≤ –Μ–Η―Ü–Β–Ϋ–Ζ–Η―é –Ζ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι‑―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Ψ–Κ, –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Β–¥―¨ –Ϋ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α―Ö –Η–Μ–Η, ―¹ –Ψ–≥–Μ―è–¥–Κ–Ψ–Ι, –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É–¥–Α―΅–Μ–Η–≤―΄―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι. –Θ―΅–Α―¹―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―ç–±–±–Η –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Η–Ζ–≤–Ψ–Ζ―΅–Η–Κ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Φ–Β―¹―²–Α.
–Γ–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä―΄ ―É–Μ–Η―Ü
«–•–Α–Μ–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–≤―Ä–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –Φ–Β―²–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Η ―¹–Φ–Β―²–Α―é―² –≤ –Κ–Α–Ϋ–Α–≤―΄ –Κ–Μ–Ψ―΅―¨―è –≥–Α–Ζ–Β―² –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β –Ε–Α–Μ–Κ–Η–Β –Ψ―²–±―Ä–Ψ―¹―΄, –Α –Ψ―²–±―Ä–Ψ―¹―΄ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β, –Β―â–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ε–Α–Μ–Κ–Η–Β, –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―é―²―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―ç―²–Η–Φ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―Ä–Ψ―é―²―¹―è, ―à–Α―Ä―è―² ―²–Α–Φ, –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö ―΅–Β–≥–Ψ‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Β―â–Β –≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε―É» [20], – ―²–Α–Κ –≤ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β «–ù–Α―à –Ψ–±―â–Η–Ι –¥―Ä―É–≥» –î–Η–Κ–Κ–Β–Ϋ―¹ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―² –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―É–Μ–Η―Ü―΄. –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ –Β–¥–≤–Α –Μ–Η –Ω―Ä–Β―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ. –ö–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Α–≤–Ψ–Ζ, ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Α, –≥–Ϋ–Η–Μ―΄–Β –Ψ–≤–Ψ―â–Η –Ϋ–Α ―Ä―΄–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―è―Ö, –Κ–Ψ―¹―²–Η, ―É―¹―²―Ä–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ –Η –Μ–Α–≤–Η–Ϋ―΄ –Ζ–Ψ–Μ―΄ –Η–Ζ –±–Β―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤ – –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹―É―¹–≤–Β―²–Ϋ―É―é –≥―Ä―è–Ζ―¨. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É –Η –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è, –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η―΅―É–¥–Μ–Η–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤–Ϋ―É―à–Α―é―² ―É–Ε–Α―¹.
–ë–Η―΅–Α–Φ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö ―É–Μ–Η―Ü –±―΄–Μ–Η –Ζ–Ψ–Μ–Α –Η –Ϋ–Α–≤–Ψ–Ζ. –ü–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –≤ 1840‑―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α ―¹–Ε–Η–≥–Α–Μ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 11 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ ―É–≥–Μ―è –≤ –≥–Ψ–¥. –î–Ψ–Φ–Α –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤―É–Φ―è ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ ―Ü–Η―³―Ä–Α –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è. –ö―É–¥–Α –Ε–Β –¥–Β–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Ψ–Μ―΄?
–ù–Β―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Β –≤―΄―²―Ä―è―Ö–Η–≤–Α–Μ–Η –Β–Β –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Η–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≥―Ä―É–¥―΄ –Ζ–Ψ–Μ―΄ –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β. –‰―Ö –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ä–Β―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–Ω–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Η–±–Β–≥–Α–Μ–Η –Κ ―É―¹–Μ―É–≥–Α–Φ –Φ―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ψ―² –Μ–Η―Ü–Α –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α. –£ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η –Φ―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―²–Β–Μ–Β–≥–Α–Φ–Η –Η –Μ–Ψ–Ω–Α―²–Α–Φ–Η, –≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –Ζ–Ψ–Μ―É –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥―΄ –Η ―É–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β. –ù–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―²–Β –Ε–Β –Φ―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –≤ ―Ä–Ψ–Μ–Η –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α―Ä–Β–Ι, ―΅–Η―¹―²–Η–≤―à–Η―Ö –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ –≤―΄–≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄–Β ―è–Φ―΄, –Ϋ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–Μ–Β―Ü –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ – ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Α―è ―΅–Η―¹―²–Κ–Α –≤―΄–≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄―Ö ―è–Φ –±―΄–Μ–Α ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β ―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―à―¨―é, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨―é. –€―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –±―Ä―é–Κ–Α–Φ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Η ―¹–Β―Ä–Ψ–≤–Α―²―΄–Φ –Ψ―² –Ζ–Ψ–Μ―΄ –Κ―É―Ä―²–Κ–Α–Φ. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Η–Ζ–Ψ –¥–Ϋ―è –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –≤–¥―΄―Ö–Α–Μ–Η –Ω―΄–Μ―¨, –Φ―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –¥―é–Ε–Η–Φ–Η –Ω–Α―Ä–Ϋ―è–Φ–Η, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –Η ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β―΅–Η–Φ–Η – –¥―Ä―É–≥–Η–Β –±―΄ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨.
–ù–Α―Ä–Α–≤–Ϋ–Β ―¹ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ–Ι –Φ―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Η ―¹–Φ–Β―²–Α–Μ–Η ―¹ ―É–Μ–Η―Ü –Ϋ–Α–≤–Ψ–Ζ –Η –Μ―é–±―΄–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ―²–±―Ä–Ψ―¹―΄ – –Κ–Ψ―¹―²–Η, ―²―Ä―è–Ω–Κ–Η, –≥–≤–Ψ–Ζ–¥–Η. –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Ψ, –≤―¹–Β ―à–Μ–Ψ –≤ –¥–Β–Μ–Ψ. –£―΄―¹―É―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–≤–Ψ–Ζ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Η–≤–Α–Μ–Η, –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Β–Μ–Κ―É―é –Ω―΄–Μ―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―΄ –¥–Μ―è –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Β–Ι, –±–Ψ–Μ–Β–Β –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―É―é – ―³–Β―Ä–Φ–Β―Ä–Α–Φ –Ϋ–Α ―É–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –ö–Ψ―¹―²–Η –Η ―²―Ä―è–Ω–Κ–Η –Ζ–Α–±–Η―Ä–Α–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―¨–Β–≤―â–Η–Κ–Η, ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ –Η ―²―Ä–Β―¹–Ϋ―É–≤―à–Η–Β –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Η – ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Η, ―¹―²–Α―Ä―É―é –Ψ–±―É–≤―¨ – –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ–Η –±–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Α–Ζ―É―Ä–Η.[1] –î–Α–Ε–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―Ü–Α–Φ, –Ω–Ψ–Φ–Β―à–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Α―Ö, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –¥–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Κ–Η ―²―Ä―è―¹–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Ψ–Φ.
–ù–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–≤ ―²–Β–Μ–Β–≥–Η –¥–Ψ–≤–Β―Ä―Ö―É, –Φ―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―â–Α –Ϋ–Α ―¹–≤–Α–Μ–Κ―É, –≥–¥–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―¹–Ψ―Ä―²–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α. –Γ–≤–Α–Μ–Κ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω―É―¹―²―΄―Ä–Β–Ι –Η–Μ–Η –Ε–Β –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤ –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤, ―΅―¨–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –Φ–Α–Μ–Ψ –Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―² –™–Β–Ϋ―Ä–Η –€―ç–Ι―Ö―¨―é ―²–Α–Κ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Η–Ζ–Η―² –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–≤–Α–Μ–Ψ–Κ: «–£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –≤―΄―¹–Η―²―¹―è –≥–Ψ―Ä–Α –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―΄–Μ–Η, ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –≥―Ä―É–¥―΄ –Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Η–Ζ –Ω―΄–Μ–Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―à–Κ―É ―¹ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ ―¹–Ψ―Ä―²–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β. –Γ―Ä–Β–¥–Η ―ç―²–Η―Ö –≥―Ä―É–¥, –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η―²–Α–Φ–Η, ―¹―É–Β―²―è―²―¹―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Η ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Η –Η –Ψ―²―¹–Β–≤–Α―é―² –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―É―é –Ω―΄–Μ―¨ –Ψ―² –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–Ι. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –¥–≤–Ψ―Ä–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –≥–Ψ―Ä–Α –Η–Ζ ―É–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ–≤ –Η –Ζ–Ψ–Μ―΄, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄―Ö –Κ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Β –Ϋ–Α –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―΄. –£―¹―è ―¹–≤–Α–Μ–Κ–Α –±―É―Ä–Μ–Η―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é: –Κ―²–Ψ ―¹–Β–Β―², –Κ―²–Ψ –≤―΄–≥―Ä–Β–±–Α–Β―² –Φ―É―¹–Ψ―Ä, –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―²–Β–Μ–Β–≥–Η ―¹–≤–Α–Μ–Η–≤–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ζ –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ. –£ –≥―Ä―É–¥–Α―Ö –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α –±–Α―Ä–Α―Ö―²–Α―é―²―¹―è –Κ―É―Ä―΄, –Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–≤–Η–Ϋ―¨–Η ―Ä–Ψ―é―²―¹―è –≤ ―²―Ä–Β–±―É―Ö–Β –Η –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α―Ö, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Κ―É―Ö–Ψ–Ϋ―¨ –Η ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Ψ–≤» [21].
–Γ–≤–Α–Μ–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü–Α–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―΄ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Β –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Φ–Η―¹―²–Β―Ä–Α –Ξ–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Α –Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α, «–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≥–Ψ –€―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Α» –ë–Ψ―³―³–Η–Ϋ–Α –Η–Ζ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α «–ù–Α―à –Ψ–±―â–Η–Ι –¥―Ä―É–≥». –£ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α ―¹–≤–Α–Μ–Ψ–Κ –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–≤―à–Η―Ö –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι ―²―Ä―É–¥ 1 ―à–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨. –î–Β―²–Η –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Η ―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β – 3–4 –Ω–Β–Ϋ―¹–Α. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –î–Η–Κ–Κ–Β–Ϋ―¹, –≤ –≥―Ä―É–¥–Α―Ö –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –≤–Β―â–Η –Η –Ω–Ψ–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι – –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≤―à–Β–Β –Ζ–Α–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η–Μ–Η –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ –Ϋ–Α–Ι–Φ–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–¥–Α―²―¨ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―â–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ―É. –½–Α –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ―É –Ω―Ä–Η–Ω―Ä―è―²–Α―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ –Η–Φ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ–Ψ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β.
–ù–Β –≤―¹–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥―΄ –Ψ―¹–Β–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Α–Μ–Κ–Α―Ö. –ü–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ–Η –Ψ–Κ―É―Ä–Κ–Ψ–≤, –Κ–Μ–Ψ―΅–Κ–Ψ–≤ –±―É–Φ–Α–≥–Η, –Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Α―è –Ϋ–Β–Α–Ω–Ω–Β―²–Η―²–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è –±―΄–Μ–Α ―É pure finders. «–Γ–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―΄» –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ψ–±–Α―΅―¨–Η―Ö ―ç–Κ―¹–Κ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –≠―²–Ψ―² ―ç–≤―³–Β–Φ–Η–Ζ–Φ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–±–Α―΅–Η–Ι –Κ–Α–Μ, –Ϋ–Α―Ä–Α–≤–Ϋ–Β ―¹ –Ω―²–Η―΅―¨–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―²–Ψ–Φ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Μ―è –Ψ―΅–Η―â–Β–Ϋ–Η―è ―à–Κ―É―Ä –≤ –Κ–Ψ–Ε–Β–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö. –£–¥–Ψ–±–Α–≤–Ψ–Κ, «―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨ ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―΄» –Ζ–≤―É―΅–Η―² –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –≤–Ϋ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ «―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Β―΅–Η―¹―²–Ψ―²».
–ü–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Β―²–Α–Φ –™–Β–Ϋ―Ä–Η –€―ç–Ι―Ö―¨―é, –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –≤–Β–Κ–Α –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 240 «―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―΄». –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Η―â–Η–Β ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Η –Η ―¹―²–Α―Ä―É―Ö–Η, –Ϋ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Η–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ. –†–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü―É –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α –Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ω–Ψ–Φ–Β―²–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ. –Θ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –±―΄–Μ –Φ–Β―à–Ψ–Κ, –Α –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Α–Μ–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Η –≤–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Η –≥―Ä―É–¥―΄ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α. –‰―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Κ–Α―Ö, –Κ―É–¥–Α –≤―΄–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Η –Η –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―¹–Ψ―Ä. –£ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥, «―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ–Η ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―΄» ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―¹―é–¥―É, –≤–Β–¥―¨ ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Α–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω–Η―¹–Α–Ϋ –Η –Φ–Β―¹―²–Ψ –¥–Μ―è ―²―É–Α–Μ–Β―²–Α –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄–±–Η―Ä–Α―é―² –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Γ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι «―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ–Η ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―΄» –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ψ–±―ä–Β–Φ–Η―¹―²―É―é –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ―É ―¹ –Κ―Ä―΄―à–Κ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Μ―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η―Ö –Β–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ―΄–Φ. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤―É―é ―Ä―É–Κ―É –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―²―è–≥–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ―É―é –Ω–Β―Ä―΅–Α―²–Κ―É, –Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―΅–Α―â–Β –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ψ–Ϋ–Ψ–Ι. –£―΄–Φ―΄―²―¨ ―Ä―É–Κ―É –Ω―Ä–Ψ―â–Β, ―΅–Β–Φ –≤–Ψ–Ζ–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ψ ―¹―²–Η―Ä–Κ–Ψ–Ι.
–ü―Ä–Β―É―¹–Ω–Β–≤–Α―é―â–Η–Ι –Η―¹–Κ–Α―²–Β–Μ―¨ ―ç–Κ―¹–Κ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Α―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Β–¥―Ä–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –≤ –Κ–Ψ–Ε–Β–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ―É―é. –£–Β–¥―Ä–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Ψ―² 8 –Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Η –¥–Ψ ―à–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥–Α –≤ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α. –î–Α‑–¥–Α, –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Β–Φ–Β―¹–Μ–Β ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Κ―Ä–Η―²–Β―Ä–Η–Η. –ö–Ψ–Ε–Β–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤―â–Η–Κ–Α–Φ, –Ω–Ψ–Φ–Β―² –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α –Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Η―¹―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―é―². –ù–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Β–Ζ –Φ–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α. –ù–Β―΅–Η―¹―²―΄–Β –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ―É ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ–Η –Ψ―²–Κ–Ψ–Μ―É–Ω―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä ―¹–Ψ ―¹―²–Β–Ϋ –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Η ―¹–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹ ―¹–Ψ–±–Α―΅―¨–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―²–Ψ–Φ –¥–Μ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≥–Ψ –≤–Β―¹–Α –Η–Μ–Η –Μ―É―΅―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Η―¹―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Η. –ü―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α–Μ ―²–Α–Κ–Ε–Β –±–Μ–Α―²: –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è ―¹ –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η –Ω–Η―²–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η, –Ϋ–Β ―²―Ä–Α―²―è –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι, –≤―΄–≥―Ä–Β–±–Α―²―¨ –Ψ―²―²―É–¥–Α ―¹–Ψ–±–Α―΅–Η–Ι –Κ–Α–Μ. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Ε–Β–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä. –Γ–Ψ–±–Α–Κ –≤ –Ω–Η―²–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Η –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é, –Α ―ç―²–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α―Ö –Η―Ö –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
–‰–Ζ‑–Ζ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è ―â–Β–Μ–Ψ―΅–Β–Ι –Ω–Ψ–Φ–Β―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Μ―¹―è –≤ –¥―É–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Β. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –≤―²–Η―Ä–Α–Μ–Η –≤ ―à–Κ―É―Ä―É, ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η –Η –Η–Ζ–Ϋ―É―²―Ä–Η. –≠―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ «–Ψ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨» ―à–Κ―É―Ä–Κ―É. –½–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―é―é –Ω–Ψ–¥–≤–Β―à–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹―É―à–Η―²―¨―¹―è, –Α ―ç–Κ―¹–Κ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η –≤―΄―²―è–≥–Η–≤–Α―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Β–Β –≤–Μ–Α–≥―É. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―É―à–Κ–Η –Κ–Α–Μ ―¹–Ψ―¹–Κ―Ä–Β–±–Α–Μ–Η. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ψ―΅–Η―â–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ε―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―à–Μ–Α –Ϋ–Α –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―É–≤–Η, –Ω–Β―Ä―΅–Α―²–Ψ–Κ, –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Η ―². –¥. –£―΄–¥―É–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Ε–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –Η ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Α―Ö, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Η–Ζ–¥–Β–Μ–Η―è –Η–Ζ –Ϋ–Β–Β ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹ –Ω―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α–Μ.
–Γ―²–Ψ–Μ―¨ –Ε–Β –Ϋ–Β–Α–Ω–Ω–Β―²–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è «―²–Ψ―à–Β―Ä–Α» – ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―è –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –Δ–Β–Φ–Ζ―΄ –Η –≤ –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Ψ–Α–Κ–Α―Ö, –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄―Ö ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä―É–±–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β XIX –≤–Β–Κ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Α ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. –Δ–Ψ―à–Β―Ä―΄ –Η―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Ϋ–Ψ ―¹–≥–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –±―΄ –Η –Μ―é–±―΄–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―΄ – –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β –≤―¹–Β –Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤ ―Ö–Ψ–¥. –½–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―²―Ä―É–±―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨―¹―è ―à―²―Ä–Α―³–Ψ–Φ –≤ 5 ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Ψ ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Β―Ü–Ψ–≤. –ù–Β –Ω―É–≥–Α–Μ–Η –Η―Ö –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²–Α–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Ζ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä―É–±–Α―Ö, –Κ–Α–Κ‑―²–Ψ: –Ψ–±―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Β–Ϋ –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤, –≥―Ä―É–¥―΄ ―¹–Κ–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Β–Ι, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Β–Ζ–Α―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―²–Β–Φ–Κ–Α―Ö, –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Η –Ϋ–Β―΅–Η―¹―²–Ψ―², –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Μ―΅–Η―â–Α –Κ―Ä―΄―¹. –ö ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≤―΄–Μ–Α–Ζ–Κ–Α–Φ ―²–Ψ―à–Β―Ä―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ: –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä―¨, ―Ö–Ψ–Μ―â–Ψ–≤―΄–Ι –Φ–Β―à–Ψ–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ–±―΄―΅―É, –Η –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―à–Β―¹―² ―¹ –Η–Ζ–Ψ–≥–Ϋ―É―²―΄–Φ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –®–Β―¹―²–Ψ–Φ ―à–Α―Ä–Η–Μ–Η –≤ –Μ―É–Ε–Α―Ö, –Α ―¹–Μ―É―΅–Η―¹―¨ ―²–Ψ―à–Β―Ä―É ―É–≤―è–Ζ–Ϋ―É―²―¨ –≤ ―²―Ä―è―¹–Η–Ϋ–Β, –Η–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α―Ü–Β–Ω–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α ―΅―²–Ψ‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η.

–Δ–Ψ―à–Β―Ä –≤ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –™–Β–Ϋ―Ä–Η –€―ç–Ι―Ö―¨―é «–†–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Η –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ–Η –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Α». 1861–1862
–ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ψ–±–Η–Μ–Η–Β –Φ―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―¹–Β―Ö –Φ–Α―¹―²–Β–Ι, –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ XIX –≤–Β–Κ–Α –±―΄–Μ–Ψ –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Ψ: ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι ―É–±–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ ―ç―²–Η –Α–≤–≥–Η–Β–≤―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―é―à–Ϋ–Η. –Ξ–Ψ―²―è –Κ―ç–±―΄ –Η –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹–Α–Ε–¥–Α–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Α–Φ –≤―΄―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Α–Ζ–Α–Φ–Η, –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–≤–Ψ–Ζ, ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Η –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α―Ö. –ü–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Β―²–Α–Φ –™–Β–Ϋ―Ä–Η –€―ç–Ι―Ö―¨―é, –Ϋ–Α –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 24 214 –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι. –£ –≥–Ψ–¥ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö 36 662 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–≤–Ψ–Ζ–Α, –Θ―΅–Η―²―΄–≤–Α―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η ―¹–Κ–Ψ―², –Ϋ–Α–≤–Ψ–Ζ–Α –±―΄–Μ–Ψ –Β―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –¦–Β―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –≤―΄―¹―΄―Ö–Α–Μ –Η –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è –≤ –Β–¥–Κ―É―é –Ω―΄–Μ―¨, –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ –¥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ϋ―é―΅–Β–Ι –±―É―Ä–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―¹―΄. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Α―Ö «–Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α» –ß–Α―Ä–Μ―¨–Ζ –î–Η–Κ–Κ–Β–Ϋ―¹ ―²–Α–Κ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―² ―¹―²–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ―É―é –≥―Ä―è–Ζ―¨: «–ù–Β―¹–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α. –ù–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö ―²–Α–Κ–Α―è ―¹–Μ―è–Κ–Ψ―²―¨, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ ―¹―Ö–Μ―΄–Ϋ―É–Μ–Η ―¹ –Μ–Η―Ü–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Η, –Η, –Ω–Ψ―è–≤–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ξ–Ψ–Μ–±–Ψ―Ä–Ϋ‑–Ξ–Η–Μ–Μ–Β –Φ–Β–≥–Α–Μ–Ψ–Ζ–Α–≤―Ä –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―³―É―²–Ψ–≤ –≤ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ, –Ω–Μ–Β―²―É―â–Η–Ι―¹―è, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Α―è ―è―â–Β―Ä–Η―Ü–Α, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è. –î―΄–Φ ―¹―²–Β–Μ–Β―²―¹―è, –Β–¥–≤–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤―à–Η―¹―¨ –Η–Ζ ―²―Ä―É–±, –Ψ–Ϋ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Μ–Κ–Α―è ―΅–Β―Ä–Ϋ–Α―è –Η–Ζ–Φ–Ψ―Ä–Ψ―¹―¨, –Η ―΅―É–¥–Η―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―Ö–Μ–Ψ–Ω―¨―è ―¹–Α–Ε–Η – ―ç―²–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ö–Μ–Ψ–Ω―¨―è, –Ϋ–Α–¥–Β–≤―à–Η–Β ―²―Ä–Α―É―Ä –Ω–Ψ ―É–Φ–Β―Ä―à–Β–Φ―É ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü―É. –Γ–Ψ–±–Α–Κ–Η ―²–Α–Κ –≤―΄–Φ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≥―Ä―è–Ζ–Η, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Η―à―¨. –¦–Ψ―à–Α–¥–Η –Β–¥–≤–Α –Μ–Η –Μ―É―΅―à–Β – –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α–±―Ä―΄–Ζ–≥–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ϋ–Α–≥–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Η» [22].
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Φ–Α―è –≥―Ä―è–Ζ―¨ –¥–Α–≤–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β crossing‑sweepers – –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―²–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Ψ–≤. –£ –Ϋ–Β–Ϋ–Α―¹―²–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ–Η –Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ –Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β―²–Μ–Α–Φ–Η, ―Ä–Α―¹―΅–Η―â–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―à–Μ–Η –Ω–Ψ ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä―É –Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η ―É–Μ–Η―Ü―É. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –¥–Α–Φ―΄ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Α―Ä–Α–≤ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ―É –Ω–Μ–Α―²―¨―è.
–ü–Ψ–¥–Φ–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Β–Φ ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ – –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –Φ–Β―²–Μ―É. –ö–Α–Κ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Β–¥–Ϋ–Ψ―²―΄, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε―É ―¹–Ω–Η―΅–Β–Κ –Η–Μ–Η –Ω–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―¹–Β–Ϋ, ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –±―΄–Μ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–≥ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Ι–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ, –Φ–Β―²–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹ ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨―é –Ζ–Α―è–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Κ–Μ―è–Ϋ―΅–Α―² ―É –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η―Ö –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―²―¹―è –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ! –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―²–Ψ–Φ –Ε–Β ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η―è–Φ–Η, –Ε–Η―²–Β–Μ–Η –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–Κ–Α―Ä–Φ–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Η―Ö, –Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ―é –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Β–Ε–Β–Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β.
–ü–Ψ–¥–Φ–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Κ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄, ―²–Α–Κ –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –Κ–Α–Κ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Β, ―²–Α–Κ –Η –¥–Β―²–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―΄–≤―à–Η–Β ―¹–Μ―É–≥–Η, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à–Η–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η–Ζ‑–Ζ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Β–Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Η –Η –Κ–Α–Μ–Β–Κ–Η. –û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Κ–Α–Μ–Β–Κ –±―΄–Μ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Ε–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à–Η–Ι –Ψ–±–Β –Ϋ–Ψ–≥–Η –¥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Α –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Β. –û–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –Κ―É–Μ―¨―²–Η –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α–Μ–Η –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―â–Β. –£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―΄–Ϋ―é.
–™–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―΅–Α―â–Β –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β―²–Η. –ù–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α–Μ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ –Φ–Β―²–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–Φ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –î–Ε–Ψ –Η–Ζ «–Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α», –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β –≤―΄―É―΅–Η–Μ―¹―è –¥–Α–Ε–Β ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Β –Η –±―΄–Μ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –±–Β―¹―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Η―²–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Φ–Β―¹―²–Α –Κ –Φ–Β―¹―²―É:
«–½–Ψ–≤―É―² – –î–Ε–Ψ. –Δ–Α–Κ –Η –Ζ–Ψ–≤―É―², –Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ. –ß―²–Ψ –≤―¹–Β –Η–Φ–Β―é―² –Η–Φ―è –Η ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―². –ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―Ö–Η–≤–Α–Μ. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ „–î–Ε–Ψ“ – ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―² –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ‑―²–Ψ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η. –Γ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–≤–Α―²–Η―². –ê ―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ? –Γ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω–Ψ –±―É–Κ–≤–Α–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω–Η―à–Β―²―¹―è? –ù–Β―². –û–Ϋ –Ω–Ψ –±―É–Κ–≤–Α–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―². –û―²―Ü–Α –Ϋ–Β―², –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Ϋ–Β―², –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Ϋ–Β―². –£ ―à–Κ–Ψ–Μ―É –Ϋ–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ. –€–Β―¹―²–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ? –ê ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β? –£–Ψ―² –Φ–Β―²–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Η –Β―¹―²―¨ –Φ–Β―²–Μ–Α, –Α –≤―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Β―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―ç―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α–Β―². –ù–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―², –Κ―²–Ψ –Β–Φ―É –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ϋ–Α―¹―΅–Β―² –Φ–Β―²–Μ―΄ –Η –≤―Ä–Α–Ϋ―¨―è, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Ψ –Η –Β―¹―²―¨» [23].

–€–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ – –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―²–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Ψ–≤. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α «–ü–Α–Ϋ―΅». 1853
–Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –€―ç–Ι―Ö―¨―é –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η‑–Φ–Β―²–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –Κ–Α–Ε―É―²―¹―è –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―¹–Φ–Β―²–Μ–Η–≤–Β–Β –î–Ε–Ψ. –ù–Β ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―è –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ψ–Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η―Ö –Α–Κ―Ä–Ψ–±–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―²―Ä―é–Κ–Α–Φ–Η. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β ―É–Φ–Β–Μ–Η ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Ψ–Φ –Η–Μ–Η ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹, –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–±–Β–≥–Α–Μ –Φ–Β―²–Β–Μ―¨―â–Η–Κ –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –Κ―É–≤―΄―Ä–Κ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ―²–Β―Ö―É –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Α–Φ. –ê –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Κ–Β –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹ –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Α ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β–Ϋ―¹–Ψ–≤.
–€–Β―²–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –Ϋ–Β ―΅―É–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Η–Ζ―è―â–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤. –û–¥–Η–Ϋ –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ–Β–Κ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ ―É–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Α–Ι–Κ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤–Η―â―É –™―É―¹–Α–Κ, ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Μ ―É–Ζ–Ψ―Ä―΄ –Η–Ζ –≥―Ä―è–Ζ–Η. –ù–Α―΅–Α–Μ –Ψ–Ϋ ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –Φ–Β–Ε–¥―É –Μ―É–Ε–Α–Φ–Η ―è–Κ–Ψ―Ä―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Α–±–Α–≤–Η–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η―Ö. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ ―¹–Μ―è–Κ–Ψ―²–Η – «–ë–Ψ–Ε–Β, ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―É». –ù–Β ―¹–Α–Φ–Α―è –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Α―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Μ–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ä―Ö–Α, –Ϋ–Ψ –Η ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ – –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―ç―¹―²–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―΄–≤ –≤―΄―à–Β–Μ –±–Β–¥–Ϋ―è–≥–Β –±–Ψ–Κ–Ψ–Φ. –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ ―²–Α–Κ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―Ä–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä―²–Η–Μ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ–Μ–Ω–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–Μ–Η―Ü–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ―É, ―¹―΅–Β–Μ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β―Ö–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Η –Ω―Ä–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ―É ―¹ –±–Ψ–Ι–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Η: –≥–Α–Ζ–Β―²―΅–Η–Κ–Η –Η ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü―΄ –±―É–Φ–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–Φ
–û―² ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―è ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö, –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Β―² –¥―É―Ö – ―Ü–≤–Β―²―΄ –Η ―³―Ä―É–Κ―²―΄, –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Η –Ω–Ψ―¹―É–¥–Α, ―΅–Α―¹―΄ –Η –Η–≥―Ä―É―à–Κ–Η, ―¹–Ψ–±–Α―΅―¨–Η –Ψ―à–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―¹―²―΄–Β ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η, –Ω–Ψ―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü–Β–≤. –Γ―Ä–Β–¥–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―à–Β―Ä―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤―Ü–Ψ–≤ –Ω–Β―΅–Α―²–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―é. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Η –≥–Α–Ζ–Β―²―΅–Η–Κ–Η, –Η ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü―΄ –±―É–Μ―¨–≤–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Α–Μ–Μ–Α–¥–Α–Φ–Η –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö –≤–Η―¹–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Η ―²–Β, –Κ―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Κ–Η, –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Ϋ―΄–Β –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η, –Α–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ–Α―Ö–Η, –Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–Μ―è―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä―²―΄. –‰–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –≤―¹–Β, –Κ―²–Ψ ―²–Α–Κ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Η–Φ–Β–Μ –¥–Β–Μ–Ψ ―¹ –±―É–Φ–Α–≥–Ψ–Ι.
–‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Α―²–Η–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –≤–Ω–Α–≤―à–Η–Β –≤ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ―é―é –Ϋ―É–Ε–¥―É. –™–Β–Ϋ―Ä–Η –€―ç–Ι―Ö―¨―é –Η–Φ–Β–Μ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –±–Β―¹–Β–¥―É ―¹ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Β–Ι ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä―²–Α–Φ–Η. –û–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Η–Ζ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –Ψ―²―Ü–Α, –Α―Ä–Φ–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –±―΄–Μ–Α –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Α –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ü–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Ψ–Ϋ–Α –¥–Α–≤–Α–Μ–Α ―É―Ä–Ψ–Κ–Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²―è–Ε–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Η―â–Β. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Κ–Η―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ –Η –Η―¹―΅–Β―Ä–Ω–Α–Μ–Α –≤―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–±–Β―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –½–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –Β–Ι ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä―²–Α–Φ–Η «–Ψ―² –¥–≤–Β―Ä–Η –Κ –¥–≤–Β―Ä–Η». –û–±–Ϋ–Η―â–Α–≤―à–Α―è ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –¥―Ä–Ψ–Ε–Η―², –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É―΅–Α―²―¨ –≤ –¥–≤–Β―Ä―¨ – –≤–¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α―². –û ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä―²―΄ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –±―΄–≤―à–Η–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Ψ–Ϋ–Α –Η –¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α – ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ!
–£ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü―΄ –±―É–Φ–Α–≥–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―â–Β–Ω–Β―²–Η–Μ―¨–Ϋ―΄ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Β–Μ–Ψ–≤–Η―²―΄. –ù–Α–¥–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η, –Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ―é –Η –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–≤―è―² ―¹–±―΄―²―¨ –±―Ä–Ψ―à―é―Ä–Κ―É –Ω―Ä–Ψ ―¹–≤–Β–Ε–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Β ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ψ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ. –£ ―Ö–Ψ–¥ ―à–Μ–Η –Μ―é–±―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹, –Ϋ–Ψ –Η –Α–Μ―è–Ω–Ψ–≤–Α―²―΄–Β –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²―΄. –ù–Α –Ϋ–Η―Ö –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η –±―É–Κ–≤–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ–Η–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Α―¹―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Β ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² –Ω―Ä–Ψ―΅–Β―¹―²―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–Ε–Η―Ü–Β –Η–Μ–Η –±–Α–Μ–Μ–Α–¥–Β. –½–Α–≥–Μ–Α–≤–Η―è –±―΄–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, «–î―¨―è–≤–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Ψ–Ω―΄―²―΄ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α *** –Ϋ–Α–¥ –Ω–Α―Ü–Η–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Φ–Β―¹–Φ–Β―Ä–Η–Ζ–Φ–Α» –Η–Μ–Η «–Δ–Α–Ι–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Μ–Η―à–Κ–Η –≤ –ë–Β–Μ–Ψ–Φ –î–Ψ–Φ–Β, –Γ–Ψ―Ö–Ψ». –û–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β broadsides – ―²–Β–Κ―¹―²―΄, –Ψ―²–Ω–Β―΅–Α―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –±―É–Φ–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η―¹―²–Α. –Δ–Ψ –±―΄–Μ–Η –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Β «―¹–Κ–Α–Ϋ–¥–Α–Μ―΄, –Η–Ϋ―²―Ä–Η–≥–Η, ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è». –¦–Η―¹―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Α, –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η–Β ―¹―É–¥–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹―΄, –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ―è―é―â–Η–Β –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Β, –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Β. –•–Η―²–Β–Μ–Η ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―Ä–Β–≤―É―à–Β–Κ, –Κ―É–¥–Α –¥–Α–Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Η (–ö–Ψ―Ä–Ψ–±–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Η – ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü―΄‑―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―΅–Η–Κ–Η –¥–Β―à–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –≥–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Α. – –†–Β–¥. ) –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α―é―², ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η –Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Η –≤ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΅–Η–Ϋ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ―É–Ω–Η―²―¨ –Ψ―²―΅–Β―² –Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Η―Ö –Κ–Α–Ζ–Ϋ―è―Ö.
–£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β XIX –≤–Β–Κ–Α ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –±–Α–Μ–Μ–Α–¥―΄, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β, ―²–Α–Κ –Η ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―¹–Ω–Β―Ö, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Β―΅–Η―²―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―Ü―΄ –Μ―é–±–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨, –Α ―²–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ―É―Ä–Μ―΄–Κ–Α―²―¨ –Ω–Β―¹–Β–Ϋ–Κ―É –Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Η–≤―à–Β–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –¥–Η―²―è ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –¥–≤―É―Ö ―²–Α―Ä–Α–Κ–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Η–Μ–Η –Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α―Ö, –Φ–Ψ―Ä–Η–≤―à–Η―Ö –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ―É, –Η–Μ–Η –Ψ –¥–Β–≤―è―²–Η–Μ–Β―²–Η–Β–Φ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Β, –Ζ–Α―Ä―É–±–Η–≤―à–Β–Φ –Κ―Ä–Ψ―à–Κ―É‑―¹–Β―¹―²―Ä―É. –ï―¹–Μ–Η –±–Α–Μ–Μ–Α–¥―΄ –Ϋ–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤―Ü―΄ –±―Ä–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ. –ü–Β―¹–Ϋ–Η –Ω–Β―΅–Α―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η―Ö –Μ–Η―¹―²–Α―Ö –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η… –Ω–Ψ ―è―Ä–¥―É! –ù–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―ç―²–Ψ «―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ―è –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Β―¹–Ϋ―è–Φ–Η». –ü–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ –±―É–Φ–Α–≥–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―à–Β―¹―²―É –Η –Κ–Ψ–Μ―΄―Ö–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≤–Β―²―Ä―É, –Ω–Ψ–Κ–Α ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Β―Ü –≤―΄―à–Α–≥–Η–≤–Α–Μ –Ω–Ψ ―É–Μ–Ψ―΅–Κ–Α–Φ, –≤–Ψ–Ω―è: «–ù–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η! –ß―É–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η! –Δ―Ä–Η ―è―Ä–¥–Α –Ζ–Α –Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Η! –ö–Ψ–Φ―É –Ω–Β―¹–Ϋ–Η? –Δ―Ä–Η ―è―Ä–¥–Α –Ω–Β―¹–Β–Ϋ!» (–ß―²–Ψ –Ε, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä―É–Μ–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨.)
–ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤―Ü―΄ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Ψ–≥–Η –Η –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄–Β ―¹–≤―è–Ζ–Κ–Η, –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ε–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ―΄–Β –Κ–Η–Ψ―¹–Κ–Η –Ϋ–Α –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö. –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Κ–Η–Ψ―¹–Κ–Α―Ö –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Κ―É–Ω–Η―²―¨ –Κ–Α–Κ penny dreadfuls – –¥–Β―à–Β–≤―΄–Β –¥–Β―²–Β–Κ―²–Η–≤―΄ –Η ―É–Ε–Α―¹―²–Η–Κ–Η, ―²–Α–Κ –Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ―É―é –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ―É. –ö–Ϋ–Η–≥–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –Μ―é–±–Ψ–Ι –≤–Κ―É―¹. –ë–Μ–Η–Ε–Β –Κ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β XIX –≤–Β–Κ–Α –Ζ–Α―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ―è –Ω―É―²–Β–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Η –Κ–Α―²–Α–Μ–Ψ–≥–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ―É–Ζ–Β–Β–≤. –ü―Ä–Η―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η –Η–Φ–Η –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Η, –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è, –£–Β―¹―²–Φ–Η–Ϋ―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α–±–±–Α―²―¹―²–≤–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―ç―²–Ψ―² –±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Φ―É–Ζ–Β–Η ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Β―΅–Α―²–Α–Μ–Η –±―Ä–Ψ―à―é―Ä―΄ –Η –Κ–Α―²–Α–Μ–Ψ–≥–Η. –ö –≤―è―â–Β–Ι –¥–Ψ―¹–Α–¥–Β ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü–Β–≤, ―É –≤―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –≤ –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Α–Μ–Ψ–≥–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Κ―É–Ω–Η―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –≤–Β―¹―²–Η–±―é–Μ–Β.
–Δ–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ―é –Ω–Β―΅–Α―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η. –ü―Ä–Α–≤–Ψ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥–Α–Φ–Η –Η –≥–Α–Ζ–Β―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö –Η –≤ –Φ–Β―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―²–Β–Ϋ–¥–Β―Ä―É, –Η –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨. –û―²―Ö–≤–Α―²–Η–≤ –Μ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι –Κ―É―¹–Ψ―΅–Β–Κ, –±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Φ–Β–Ϋ –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤―Ü–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö, ―²–Α–Κ –Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ. –†–Α–±–Ψ―²–Α –±―΄–Μ–Α ―Ö–Μ–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι – –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Β –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η 20–30 ―à–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤ –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é, –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η –Ψ―² 6 –¥–Ψ 10 ―à–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤. –Γ–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―΄ –≤ –Φ–Β―²―Ä–Ψ –Ϋ–Β –Κ–Ψ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Β ―΅―²–Η–≤–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨―é –¥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥–Α –Ζ–Α –Κ–Ϋ–Η–≥―É.

–ü―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Β―Ü «–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―¹–Β–Ϋ». –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –™–Β–Ϋ―Ä–Η –€―ç–Ι―Ö―¨―é «–†–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Η –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ–Η –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Α». 1861–1862
–Γ–Α–Φ―΄–Φ–Η ―É―à–Μ―΄–Φ–Η –Η–Ζ –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥–Ψ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –±―΄–Μ–Η, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, «―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü―΄ ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Ι». –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Α –Η–Φ–Β–Β―² –Κ –Ω–Β―΅–Α―²–Η? –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Β. –î–Β―Ä–Ε–Α –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Ω―É―΅–Ψ–Κ ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ―΄, ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Β―Ü –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Φ–Η–≥–Η–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ. –Γ―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, –Ψ–Ϋ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―Ä–Β―΅―¨: «–ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―Ä–Β―à–Α―², ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Α–±―¹―É―Ä–¥–Ϋ–Α―è –Η–¥–Β―è – –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Κ―É –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Η, ―Ä–Α–Ζ ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Α –Η ―²–Α–Κ –Ω–Ψ–≤―¹―é–¥―É –≤–Α–Μ―è–Β―²―¹―è. –ù–Ψ –≤―¹–Β –¥–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α―é―² –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ―² ―ç―²–Η–Φ–Η –Μ–Η―¹―²–Κ–Α–Φ–Η. –ü–Ψ―¹–Β–Φ―É ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―é ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ―É, –Α –Μ–Η―¹―²–Κ–Η –¥–Α―é –≤ –Ω―Ä–Η–¥–Α―΅―É. –î–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–Ι–¥―É―² –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι – –Η ―É –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²–Η, –Η –Ϋ–Α –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²–Η, –Η –Ω–Ψ–¥ –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―é!»
–ù–Η –¥–Α―²―¨ –Ϋ–Η –≤–Ζ―è―²―¨, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –¥–Η―¹―¹–Η–¥–Β–Ϋ―². –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―¹–±―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η –Α–Ϋ―²–Η―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω–Α–Φ―³–Μ–Β―²―΄. –î–Α ―΅―²–Ψ –Ω–Α–Φ―³–Μ–Β―²―΄! –ù–Β –Ω–Ψ―â–Α–¥–Η–Μ–Η ―¹–Α–Φ―É –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―É, –Ω―Ä–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹–≤―è―²–Α―è ―¹–≤―è―²―΄―Ö – –Β–Β ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨! –£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β XIX ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―², –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Μ―è «―Ö–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―è–Κ–Ψ–≤ –Η –¥–Β–≤, –Φ―É–Ε–Β–Ι –Η –Ε–Β–Ϋ».
«–ü–‰–Γ–§–€–û
–û―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –≥–Β―Ä―Ü–Ψ–≥―¹―²–≤–Α –ö–Ψ–±―É―Ä–≥
–€–Ψ―è –¥―Ä–Α–Ε–Α–Ι―à–Α―è –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è!
[–ù–Β―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä―΅–Η–≤―΄–Ι ―²–Β–Κ―¹―²].
–Δ–≤–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Ψ–Ε–Α―²–Β–Μ―¨,
–ê–Μ―¨–±–Β―Ä―², –≥–Β―Ä―Ü–Ψ–≥ –ö–Ψ–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Η–Ι» [24].
–Γ ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―É–Μ―΄–±–Κ–Α–Φ–Η ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü―΄ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ, –¥–Β―¹–Κ–Α―²―¨, ―²–Α–Ι–Ϋ–Α―è –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹–Κ–Α ―é–Ϋ–Ψ–Ι –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Η ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Η―Ö–Ψ–Φ. –ê –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Α–±―Ä–Α–Κ–Α–¥–Α–±―Ä–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Β–Κ―¹―²–Α? –Δ–Α–Κ –≤–Β–¥―¨ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–¥! –ï–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―à–Η―³―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Α, ―¹–≤–Β―΅–Η –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤―Ü–Α.
–ù–Ψ –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –≤―¹―é ―ç―²―É ―²–Α―Ä–Α–±–Α―Ä―â–Η–Ϋ―É, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –Κ―Ä―É―²–Η, ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ―²–Ϋ–Ψ. –™–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―â–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –Ω―Ä―΄―â–Α–≤–Ψ–≥–Ψ ―é–Ϋ―Ü–Α –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Β–Φ―É –Η–Ζ‑–Ω–Ψ–¥ –Ω–Ψ–Μ―΄ –Ω―É―Ö–Μ―΄–Ι –Ω–Α–Κ–Β―², –Ζ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―΄–Ι –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―Ü–≤–Β―²–Ϋ―É―é –±―É–Φ–Α–≥―É –Η –Ζ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ ―¹―É―Ä–≥―É―΅–Ψ–Φ. –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É –Ϋ–Α–Κ–Μ–Β–Β–Ϋ ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Κ―²–Α―² –Η–Μ–Η –Ψ–±―Ä―΄–≤–Ψ–Κ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²―΄. –Δ–Α–Κ –Ϋ–Α–¥–Ψ. –î–Μ―è –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Ω–Η―Ä–Α―Ü–Η–Η. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η ―²–Α–Φ ―²–Α–Κ–Ψ–Β, –Ϋ―É ―²–Α–Κ–Ψ–Β! –Γ–Α–Φ―΄–Ι ―¹–Φ–Α–Κ. –ë–Β―Ä–Η―²–Β, ―¹―ç―Ä, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Β―²–Β. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―é–Ϋ–Ψ―à–Α, –Ζ–Α–¥―΄―Ö–Α―è―¹―¨ –Ψ―² –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η–±–Β–≥–Α–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―é, –Ζ–Α―Ö–Μ–Ψ–Ω―΄–≤–Α–Μ –¥–≤–Β―Ä―¨ –Η –¥―Ä–Ψ–Ε–Α―â–Η–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Μ ―É–Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Κ―É, ―²–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Ω–Κ–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä–Α–≤―é―Ä –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ψ–±―Ä–Β–Ζ–Κ–Η –±―É–Φ–Α–≥–Η. –ê ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü–Α ―É–Ε–Β –Κ–Α–Κ –≤–Β―²―Ä–Ψ–Φ ―¹–¥―É–Μ–Ψ!
–ü―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Η―â–Η–Β
–ù–Α―Ä–Α–≤–Ϋ–Β ―¹ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ–Β–Ι –Η ―É–±–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α, –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ ―É–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–Φ–Β―¹–Μ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Ι–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ. –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ –Κ–Η―à–Β–Μ –Ϋ–Η―â–Η–Φ–Η –≤―¹–Β―Ö –Φ–Α―¹―²–Β–Ι, –Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ϋ–Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –¥–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ.
–Γ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―Ü―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨ ―Ö―Ä―É–Ω–Κ–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Ψ–Φ –Η –±–Β―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Η―â–Β―²–Ψ–Ι. –î–Α–Ε–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ä–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ «–Ψ―² ―²―é―Ä―¨–Φ―΄ –Η –Ψ―² ―¹―É–Φ―΄» – ―΅―²–Ψ ―É–Ε –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö? –ö―Ä–Ψ–≤–Β–Μ―¨―â–Η–Κ ―É–Ω–Α–Μ ―¹ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü―΄ –Η ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–Μ –Ψ–±–Β ―Ä―É–Κ–Η. –½–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ ―³–Η―Ä–Φ–Α, –Η –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Ι –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β ―É –¥–Β–Μ. –Γ―²–Α―Ä―É―à–Κ–Η –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Β–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Φ―è―΅–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Κ―É–¥–Α –Η–Φ ―²―è–≥–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ζ–Η–Ϋ―΄? –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –Φ―É–Ε–Α –≤–¥–Ψ–≤–Α –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ ―¹―΄–Ϋ―É, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―É–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²–Κ–Ψ–Ι –Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β. –®–≤–Β―è ―²―Ä―É–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―² –Ζ–Α―Ä–Η –¥–Ψ ―²–Β–Φ–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ ―¹–¥–Α–≤–Α―²―¨… –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è–Φ –Ϋ–Β―¹―²―¨ ―΅–Η―¹–Μ–Α. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Η –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Η ―³–Η–Μ–Α–Ϋ―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤. –ï―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –±–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Ψ–≥–Ϋ―è. –¦―É―΅―à–Β ―É–Ε –Ζ―è–±–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β.
–Γ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ε–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η, –Η –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Β–Κ –Ϋ–Α–Ι–¥–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Ε―É–Μ–Η–Κ–Ψ–≤. –ö–Α–Κ –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –≤ XIX –≤–Β–Κ–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –Ψ–± –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Ϋ–¥–Α―Ö –Ϋ–Η―â–Η―Ö –Η –Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Α―Ö –≤ ―Ä―É–±–Η―â–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―² «―Ä–Α–±–Ψ―²―΄» –Β–¥―è―² –Η –Ω―¨―é―² –≤ ―¹–≤–Ψ–Β ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β. –‰ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –≥–Ψ–Ϋ―è–Ι –Η―Ö, –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Β–≥―É―² –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β.
–ö–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä―΄ ―¹–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Κ–Α―Ä–Α―é―² –Ω–Ψ–±–Η―Ä―É―à–Β–Κ ―²–Α–Κ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ. –‰–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―¹ ―΅–Β–Φ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨, –≤–Β–¥―¨ –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η―Ö –≤–Β–Κ–Α―Ö ―¹ –Ϋ–Η―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Β ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨. –ï―¹–Μ–Η –¥–Ψ –†–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Η―â–Η–Β –Η –±―Ä–Ψ–¥―è–≥–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Φ–Η―¹–Κ―É –Κ–Α―à–Η –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –™–Β–Ϋ―Ä–Η―Ö–Α VIII –±–Α–Μ–Ψ–≤―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –€–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Η –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄, –Ϋ–Η―â–Η–Φ –Ε–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Μ―è–Ϋ―΅–Η―²―¨ –Β–¥―É –Η –≥―Ä–Ψ―à–Η –≥–¥–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è. –ù–Ψ –Ω–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―² –Ϋ–Β –¥―Ä–Β–Φ–Α–Μ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –Α–Κ―²–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―΄–Ϋ―é: –≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―¹–Β―Ä–¥–Ψ–±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ψ–±–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –≤ –Κ–Α–Ζ–Ϋ―É –≤―¹―é ―¹―É–Φ–Φ―É –Ω–Ψ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―΄–Ϋ–Η, –Ϋ–Ψ –≤ –¥–Β―¹―è―²–Η–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β! –≠―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–≤–Μ―è–Β―².
–Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Ω–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―² ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β ―Ä―É―¹–Μ–Ψ. –ü–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ–Ϋ–¥, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α ―΅–Β―Ä–Ω–Α–Μ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Κ–Α–Μ–Β–Κ –Η –Ϋ–Α –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι ―²―Ä―É–¥–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤. –‰–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –≤―¹―è–Κ–Η–Ι, –Κ―²–Ψ –Φ–Ψ–≥ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨. –Δ―É–Ϋ–Β―è–¥―Ü–Α–Φ –Ε–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Μ–Α–¥–Κ–Ψ: –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Η–Φ–Κ–Η –±―Ä–Ψ–¥―è–≥–Β –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ–Α –Ω–Ψ―Ä–Κ–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι – –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β ―É―Ö–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Ι – –Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ω–Μ―è–Ϋ–Α―è –Ω–Β―²–Μ―è. –ü―Ä–Η –≠–¥―É–Α―Ä–¥–Β VI, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä–Β –Φ―è–≥–Κ–Ψ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ, ―É―΅–Α―¹―²―¨ –±―Ä–Ψ–¥―è–≥ –Ω–Ψ‑–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι. –ù–Η―â–Η―Ö, –Ψ―²–≤–Β―Ä–≥–Α–≤―à–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, –Κ–Μ–Β–Ι–Φ–Η–Μ–Η –Η –Ϋ–Α –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ψ―²–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –≤ ―Ä–Α–±―¹―²–≤–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Φ―É, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨―¹―²–Η―²―¹―è –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Α.
–ù–Β–Μ―¨–Ζ―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Ψ–Ι. –ü―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Μ–Β–Ϋ―²―è–Β–≤ ―¹–Β–Κ―É―² –Η –Κ–Μ–Β–Ι–Φ―è―², –Ϋ–Ψ –Ψ―² –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ–Ϋ–¥. –ù–Β―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹―É–¥―¨–Β–Ι, –Α ―²–Ψ –Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –≤ ―²―é―Ä―¨–Φ–Β.
–ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥ –Ϋ–Α –±–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²―΄ I.

–Γ–Μ–Β–Ω–Ψ–Ι –Ϋ–Η―â–Η–Ι. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η―Ö –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α «–ü–Α–Ϋ―΅». 1888
–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―Ü―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Β―à–Η–Μ–Η –≤–Ζ–Ψ―Ä –Ω―É–±–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Ψ–¥―è–≥, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –‰–Φ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ–Ψ ―²―é―Ä–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Μ–Η –Ε–Β –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι, –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –Μ―É―΅―à–Β. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α, –≥–¥–Β –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Α–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ –Η –Ψ–±–Ψ–≥―Ä–Β―²―¨. –û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ –û–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ –Η―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Ι–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ 1820 –≥–Ψ–¥―É. –€–Β―²–Ψ–¥―΄ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é: –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―΅–Α–Μ–Η ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Η―Ü–Η–Β–Ι –Η –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η, –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ –Ϋ–Η―â–Η―Ö –Ω–Μ–Α―΅–Β―² ―²―é―Ä―¨–Φ–Α. –≠―²–Α–Κ–Ψ–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ ―¹ –Κ―É–Μ–Α–Κ–Α–Φ–Η. –ü–Ψ–¥–Ω–Η―¹―΅–Η–Κ–Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η ―²–Α–Μ–Ψ–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α―²–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ, –Ω–Ψ –Η―Ö –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Ι–Κ–Α–Φ. –Δ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Ψ―Ä―É, –≥–¥–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨, –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―é―² –Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η. –ï―¹–Μ–Η –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ –≤―¹–Β–Φ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ, –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Η –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ ―²―Ä–Β–Ζ–≤―΄–Φ, –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Η –Η –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―΅–Μ–Β–Ε–Κ―É. –£ –û–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Η –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ, –Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–¥–Α―Ä–Φ–Α –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è. –½–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ψ–±–Β–¥ –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η ―²―Ä–Η ―΅–Α―¹–Α – –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Μ–Η –¥―Ä–Ψ–≤–Α –Η–Μ–Η –¥―Ä–Ψ–±–Η–Μ–Η –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ ―â–Η–Ω–Α–Μ–Η –Ω–Β–Ϋ―¨–Κ―É. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Φ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η –±–Β–Ζ –Ζ–Α–±–Ψ―Ä–Α. –ù–Β –≤―¹–Β –Ϋ–Η―â–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ―É―é –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅―²–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Β –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―¹–Η―Ä―΄–Φ –Η ―É–±–Ψ–≥–Η–Φ.
–•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―É–≤–Β―Ä―è―é―², ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è –Ϋ–Η―â–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β–Φ –≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι. –£ 1838 –≥–Ψ–¥―É –î–Ε–Β–Ι–Φ―¹ –™―Ä–Α–Ϋ―² –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η―à–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ 10–14 ―à–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨, ―¹–Η–¥―è –Ϋ–Α ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è―Ö –Η –¥–Β―Ä–Ε–Α –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―²–Α–±–Μ–Η―΅–Κ―É ―¹ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é «–· – –±–Β–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹–Η―Ä–Ψ―²–Α». –ë–Ψ–Μ–Β–Β 50 ―Ä–Α–Ζ –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤ ―²―é―Ä―¨–Φ–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―è―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ. –Θ–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –™―Ä–Α–Ϋ―² –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α–Ζ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–≥―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ –¥–Ψ―΅–Β―Ä―è–Φ –Ψ–Μ–¥–Β―Ä–Φ–Β–Ϋ–Α (―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è). –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Φ? –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –±–Α―Ä―΄―à–Ϋ–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Β–Φ―É –Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Η, –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―²–Α–Κ, –Α ―¹ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ι ―É–Μ―΄–±–Κ–Ψ–Ι. –€–Η–Μ–Ψ―¹–Β―Ä–¥–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –¥–Η–≤–Η–¥–Β–Ϋ–¥―΄.
–ö–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ε–Β –Φ–Β―²–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Ι–Κ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α–Ζ–Ε–Α–Μ–Ψ–±–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η―Ö? –‰―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ. –ù–Β –±―É–¥–Β–Φ –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η―â–Η–Β XIX –≤–Β–Κ–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Φ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω–Ψ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―É «–ü―Ä–Η–Ϋ―Ü –Η –Ϋ–Η―â–Η–Ι» –€–Α―Ä–Κ–Α –Δ–≤–Β–Ϋ–Α, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–± –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―è–Ζ–≤―΄: «…–Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ―è–Μ–Η ―²–Β―¹―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Β–≥–Α―à–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η, –Φ―΄–Μ–Α –Η ―Ä–Ε–Α–≤―΅–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η ―ç―²―É ―¹–Φ–Β―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―¨ –Η –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Ψ–±–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Β–Φ–Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Ψ–≥―É. –û―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ε–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Μ–Α, –Η –≤–Η–¥ –Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―è―¹–Α –±―΄–Μ ―É–Ε–Α―¹–Β–Ϋ; –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Ψ–≥―É –Ϋ–Α―²–Η―Ä–Α–Μ–Η –Κ―Ä–Ψ–≤―¨―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è, –≤―΄―¹–Ψ―Ö–Ϋ―É–≤, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α –Ψ―²–≤―Ä–Α―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ‑–±―É―Ä―΄–Ι ―Ü–≤–Β―². –ë–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η ―²―Ä―è–Ω–Κ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Α―è ―è–Ζ–≤–Α –±―΄–Μ–Α –≤–Η–¥–Ϋ–Α –Η –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α ―¹–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η―Ö» [25]. –£ –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ψ―²―΅–Α―¹―²–Η –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨. –·–Ζ–≤―΄ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–≥–Η–≥–Η–Β–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η, ―Ä–Α―¹–Ω―É―Ö―à–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Α―Ä―΄―à–Ϋ―è–Φ, –Η ―É―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Κ–Ψ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ê ―²–Β, –Κ―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Κ–Β, –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η ―¹–Β–±―è –Κ–Α–Μ–Β―΅–Η―²―¨. –ü―Ä–Ψ―â–Β –Ψ–±–Μ–Β–Ω–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ–≥―É ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–Β–Φ –Φ―΄–Μ–Α –Η ―¹–±―Ä―΄–Ζ–Ϋ―É―²―¨ ―É–Κ―¹―É―¹–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω―É–Ζ―΄―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ï―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è, ―¹―²–Β―Ä–Β―²―¨ ―²–Α–Κ―É―é ―è–Ζ–≤―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤ –¥–≤–Α ―¹―΅–Β―²–Α.
–£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Κ–Α–Μ–Β–Κ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö ―²–Ψ–Ε–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ. –Γ–Μ–Β–Ω―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Α―Ä–Β ―¹ ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Ψ–Ι‑–Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―΄―Ä–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―²–Α–Κ –Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤―΄–≤–Α–Μ–Α, ―²–Α–Κ ―É–Φ–Η–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Α –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Η –≤ –≤–Β–¥–Β―Ä–Κ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ψ–Ϋ–Α –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α –≤ –Ω–Α―¹―²–Η. –£ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Κ–Α–Μ–Β–Κ –±―΄–Μ–Η –Η –Μ–Ψ–≤–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―è–Ζ–Κ―É –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö, –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Α–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≥―É –Η–Μ–Η –Ε–Β –≤–Α–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä, ―¹–Ψ–¥―Ä–Ψ–≥–Α―è―¹―¨ –≤ –Ω―Ä–Η–Ω–Α–¥–Κ–Β. –ü–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―Ü–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―΅―É–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι ―ç―³―³–Β–Κ―² – ―¹–Μ–Β–Ω―Ü―΄ –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α–Μ–Η –Η –±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―É―²–Β–Κ, –Α –Κ –Ω―Ä–Η–Ω–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β.
–£–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Ι –≤–Η–¥ –Ϋ–Η―â–Η―Ö ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è. –ö–Α–Κ –Η ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ψ–¥–Β–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Μ–Ψ―Ö–Φ–Ψ―²―¨―è. –£ –Ζ–Η–Φ–Ϋ―é―é ―¹―²―É–Ε―É –≤–Η–¥ –Ω–Ψ–Μ―É–≥–Ψ–Μ―΄―Ö –Ω–Ψ–±–Η―Ä―É―à–Β–Κ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―ç―³―³–Β–Κ―². –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η –Η―Ö –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ψ–±―É–≤―¨ –Η ―΅―É–Μ–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–≥–Ϋ–Α―²―¨ ―¹―²–Α―Ä―¨–Β–≤―â–Η–Κ―É. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―²–Η–Ω –Ϋ–Η―â–Η―Ö, –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―Ä–Β―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α –≤–Η–¥. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Ι–Ϋ–Η―΅–Α–Μ–Η ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ–Η: –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Β―Ü –≤–Β–Μ –Ζ–Α ―Ä―É–Κ―É –Κ–Α―Ä–Α–Ω―É–Ζ–Ψ–≤, ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―à–Μ–Α –Φ–Α―²―¨ ―¹ –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―Ü–Β–Φ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α―Ö, –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β―²–Η. –£―¹―è ―¹–Β–Φ―¨―è –±―΄–Μ–Α –Ψ–¥–Β―²–Α –≤ –≤–Β―²―Ö–Η–Β, –Ϋ–Ψ –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –±–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ ―΅–Η―¹―²―΄–Β –Ω–Μ–Α―²―¨―è, –¥–Α –Η –¥–Β―²–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β ―΅―É–Φ–Α–Ζ―΄–Φ–Η, –Α ―΅–Η―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ–Η, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–Ε –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η. –£ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Α ―²–Α–Κ –Η ―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨: «–ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –±–Β–¥–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄! –ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β! –€―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Φ―¹―è –Κ ―Ä–Β―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Η –¥–Ψ–±–Η–Μ–Η―¹―¨ –±―΄ –Β–Β, –Β―¹–Μ–Η –± ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η. –€―΄ –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ–Η–Β‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―²–Α–Φ –Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ―΄–Β, –≤―É–Μ―¨–≥–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–±–Η―Ä―É―à–Κ–Η –Η–Μ–Η –±―Ä–Ψ–¥―è–≥–Η. –€―΄ –Μ―é–¥–Η –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β. –ë–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Α –≤–Η–Ϋ–Α, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Α –±–Β–¥–Α!» –ö–Α–Κ ―É–≤–Β―Ä―è–Μ–Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²―΄, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α ―É–Μ–Ψ–≤–Κ–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η–≤–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η―Ö.

–Γ–Β–Φ―¨―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Β–Κ. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α «–ü–Α–Ϋ―΅». 1869
–î―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Ι–Κ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –±–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨. –£–Ζ―è―²―¨ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ ―¹–Β―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ―É–±–Η–Ι―Ü. –û–Ϋ–Η ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Δ–Β–Φ–Ζ–Β –Η–Μ–Η –≤ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β –Γ–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ―²–Α–Ι–Ϋ, ―΅―²–Ψ –≤ –™–Α–Ι–¥‑–Ω–Α―Ä–Κ–Β. –ù–Α–Ω–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ –Ϋ―΄―Ä―è–Μ –Ζ–Α «―¹–Α–Φ–Ψ―É–±–Η–Ι―Ü–Β–Ι» –Η –Ψ―²–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ, –Φ–Β–Ε–¥―É –¥–Β–Μ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ –Ψ –Ϋ–Β–≤–Ζ–≥–Ψ–¥–Α―Ö, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–≤―à–Η―Ö –±–Β–¥–Ϋ―è–≥―É –≤–Ζ―è―²―¨ –Ϋ–Α –¥―É―à―É ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä–Β―Ö. –î–Ψ–±―Ä―΄–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―Ä―É–Κ―É –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ. –ï―â–Β –±―΄, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α―¹―²–Η –Ζ–Α–±–Μ―É–¥―à―É―é –¥―É―à―É. –ê ―¹–Α–Φ–Ψ―É–±–Η–Ι―Ü–Α, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ―Ö–Ϋ―É–≤, ―à–Β–Μ ―²–Ψ–Ω–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι. –½–Α –Ψ–¥–Ϋ―É –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ε–Α–Μ―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ – –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Κ –±―΄–Μ ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –≤–Β–¥―¨ –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι –Ζ―è–±–Κ–Ψ –Ω―Ä―΄–≥–Α―²―¨ –≤ –≤–Ψ–¥―É, –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―Ä–Α–¥–Ϋ–Η―΅–Α–Μ–Η –Η «–Ε–Β―Ä―²–≤―΄» –≤―¹–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³ – –Ω–Ψ–≥–Ψ―Ä–Β–Μ―¨―Ü―΄, –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Β–≤―à–Η–Β –Κ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, ―à–Α―Ö―²–Β―Ä―΄, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤―à–Η–Β –≤–Ζ―Ä―΄–≤, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Ι. –£ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Η –¥―É―Ä–Α―΅–Η–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α–Ϋ. –¦–Ε–Β–Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, ―É–Κ―Ä–Α―à–Α–Μ–Η ―Ä―É–Κ–Η ―²–Α―²―É–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α–Φ–Η, ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ―Ä―è―Ü–Κ–Ψ–Φ―É –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―É –Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Κ–Β, –Α ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é – –≤–¥―Ä―É–≥ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ζ–Α–Ϋ―É–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Ϋ–Β―² –¥–Ψ–Ω―΄―²―΄–≤–Α―²―¨―¹―è, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Κ―É –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―Ä–Α―¹–Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ‑―²–Ψ –≥–Ψ–¥―É, –Κ–Α–Κ –Ζ–≤–Α–Μ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α. –ü–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄, –Ϋ–Ψ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―É―Ö–Ψ –≤–Ψ―¹―²―Ä–Ψ, –Α ―²–Ψ –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ϋ–Β –Ψ–≥―Ä–Α–±–Η–Μ–Η –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Κ–Β.
–•–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―à–Κ―É ―¹ –Ϋ–Β–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ―¹―²―¨―é –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―Ü―΄, –Η–Ζ―ä―è―¹–Ϋ―è–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ. –ë―΄–Μ–Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Η ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Β–Φ–Β―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Η –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β ―ç–Φ–Η–≥―Ä–Α–Ϋ―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Κ―É –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Μ–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ–Η, –Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Α―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Α–Φ–Η –≤ –Η–Ζ–≥–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η. –ù–Α –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η―è –Κ –Ϋ–Β–≥―Ä–Α–Φ ―É–Μ–Η―Ü―΄ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Β―¹―²―Ä–Β–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Ε–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Ι–Κ–Α–Φ–Η. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Β―¹–Μ–Η –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ―²–Φ―΄―²―¨ –Η―Ö, –≤–Ζ–Ψ―Ä―É ―è–≤–Η–Μ―¹―è –±―΄ –±–Β–Μ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Ψ―Ö–Α – –Ε―É–Μ–Η–Κ–Η –Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Μ―é–±―΄–Β ―É–Μ–Ψ–≤–Κ–Η, –Μ–Η―à―¨ –±―΄ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι –Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Η.
–û―Ö–Ψ―²–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Α–Φ –Η –¥–Β―²―è–Φ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Η –±―Ä–Α–Μ–Η –¥–Β―²–Β–Ι –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ–Κ–Α―² –Ϋ–Α «―³–Β―Ä–Φ–Α―Ö –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―Ü–Β–≤».[2] –½–Α –Ϋ–Β–Η–Φ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―Ü–Α –≤ ―Ö–Ψ–¥ ―à–Β–Μ –Φ–Β―à–Ψ–Κ ―²―Ä―è–Ω–Ψ–Κ, –Κ–Ψ–Β‑–Κ–Α–Κ –Ζ–Α–Φ–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–Κ―É – –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Η―à―¨. –ö–Α–Κ –Η –Α–Ϋ–¥–Β―Ä―¹–Β–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α ―¹–Ψ ―¹–Ω–Η―΅–Κ–Α–Φ–Η, –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Β–±―è―²–Η―à–Κ–Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É ―¹ –Μ–Ψ―²–Κ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η ―¹–Ω–Η―΅–Κ–Η, ―Ü–≤–Β―²―΄, ―à–Ϋ―É―Ä–Κ–Η, –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―Ü―΄, –Μ–Β–Ϋ―²―΄, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä―΄ –±―΄–Μ–Η, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β, –¥–Μ―è –Ψ―²–≤–Ψ–¥–Α –≥–Μ–Α–Ζ. –û–Ϋ–Η ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Η ―²–Α–Κ –¥–Β―à–Β–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨―¹―è –≤―΄―Ä―É―΅–Κ–Ψ–Ι –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α―²–Ψ ―¹ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤―Ü–Ψ–≤ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Ι–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β. –ö–Α―΅–Α―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Β –±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–≤―΄―à―É –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Β―², –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―Ä–Α–Μ–Η ―¹ –Μ–Ψ―²–Κ–Α.
–ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Ι–Κ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η–Ϋ–Α―΅–Β, –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ö–Η―²―Ä–Ψ. –ö–Α–Κ–Ψ–Ι‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –¥–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ –Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–¥ –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²―΄–Φ–Η ―è–Ι―Ü–Α–Φ–Η. –î–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ―Ä–≥―É–Β―² ―è–Ι―Ü–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ―É. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ–Α –±–Ψ–Η―²―¹―è –Η–¥―²–Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –≤–Β–¥―¨ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ζ–Α–¥–Α–¥―É―² –Β–Ι ―²―Ä–Β–Ω–Κ―É. –î–Ψ–±―Ä―΄–Ι –¥–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ –Ω–Μ–Α―²–Η–Μ –Ζ–Α –≤―¹–Β ―è–Ι―Ü–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ, –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²―΄–Β ―è–Ι―Ü–Α –Η ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²―¨ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é ―É–Μ–Η―Ü―É.
–û―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü―΄‑–Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Ι–Κ–Η –Ϋ–Α–≤–Β–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Α–±–Α–Κ–Η, –≥–¥–Β –Κ –Ϋ–Η–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²―É―²–Κ–Η. –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Η―à–Β―² –™–Β–Ϋ―Ä–Η –€―ç–Ι―Ö―¨―é: «–ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Ι–Κ–Η –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ –Ω–Η―²–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Φ–Α, ―É–≤–Η–¥–Β–≤ –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Β―Ö–Η―²―Ä―΄–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ―É‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –¥–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ―É, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―è―²: „–î–Α–Ι―²–Β ―΅―²–Ψ‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –±–Β–¥–Ψ–Μ–Α–≥–Β“ –Η–Μ–Η „–ö―É–Ω–Η―²–Β –Ϋ–Α–Φ –±―É–Κ–Β―²–Η–Κ“. –ï―¹–Μ–Η –Ε–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α―é―² ―à–Ϋ―É―Ä–Κ–Η –Η–Μ–Η –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―Ü―΄, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²: „–ù–Β –±–Β―Ä–Η―²–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―É ―¹―²–Α―Ä―É―à–Κ–Η, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –¥–Α–Ι―²–Β –¥–Β–Ϋ–Β–≥“. –•–Β–Μ–Α―è –Ω―Ä–Η―Ö–≤–Α―¹―²–Ϋ―É―²―¨ ―â–Β–¥―Ä–Ψ―¹―²―¨―é, –¥–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ―΄ ―É―¹―²―É–Ω–Α―é―² –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α–Φ, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ –±–Β–Ζ –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η―Ü –Ψ–Ϋ–Η –±―΄ –Ψ–±―Ä―É–≥–Α–Μ–Η ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Κ―É –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―΅―¨. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―è –≤–Η–¥–Β–Μ, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä―É―Ö–Α, –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―Ä―É–Κ―É ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Κ–Ψ―²–Κ–Β. –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Φ–Ϋ–Β –Β―â–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―²―Ä–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Α. –ü–Α―Ä―É –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –¥–Β–≤–Η―Ü–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ –Κ–Α–±–Α–Κ―É ―¹ ―Ä–Α–Ζ–≤―è–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ω―Ä–Η―¹―É―â–Β–Ι –Β–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―É, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Ψ–Κ –Ϋ–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Η –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ –Β–Β ―Ä–Α―¹―²―Ä–Ψ–≥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ –Ϋ–Α―Ä―É–Φ―è–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―â–Β–Κ–Β, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –±–Β–Μ―É―é –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―É. –£ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –Ε–Β –Φ–Η–≥ –¥–Β–≤–Η―Ü–Α ―¹–Φ–Α―Ö–Ϋ―É–Μ–Α ―¹–Μ–Β–Ζ―É –Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Κ―Ä–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Η –Ω–Β―²―¨» [26].
–Γ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β «–Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι» –Ω–Ψ–¥–≤–Η–¥ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Β–Κ – –Α–≤―²–Ψ―Ä―΄ –Ε–Α–Μ–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Ω–Η―¹–Β–Φ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α–Φ–Η –Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η. –ê–¥―Ä–Β―¹–Α―²–Α–Φ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Α―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²―΄, –¥–Α–Φ―΄‑–±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄, –Φ–Β―Ü–Β–Ϋ–Α―²―΄, ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –≤―¹–Β ―²–Β, ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄–Κ–Μ―è–Ϋ―΅–Η―²―¨ –Ω–Α―Ä―É ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ϋ–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Α―è―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―² –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β ―³–Α–Κ―²―΄. –•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―² –î–Ε–Β–Ι–Φ―¹ –™―Ä–Α–Ϋ―² –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –Η–Ζ –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α―³–Β―Ä–Η―¹―²–Α:
«29 –Η―é–Ϋ―è – –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –≥–Β―Ä―Ü–Ψ–≥―É –†–Η―΅–Φ–Ψ–Ϋ–¥―É –Ω–Ψ–¥ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –î–Ε–Ψ–Ϋ–Α –Γ–Φ–Η―²–Α. –ê–Φ–Ω―É―²–Α―Ü–Η―è –Ϋ–Ψ–≥–Η, –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α –±–Β–Ζ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ε–Β–Ϋ–Α –Η ―¹–Β–Φ–Β―Ä–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―é―². –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² – 2 ―³―É–Ϋ―²–Α. –ù–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ, –Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–¥–Β―é―¹―¨, –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Β―².
25 –Η―é–Μ―è – –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―É –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–¥ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Θ–Η–Μ―¨―è–Φ–Α –ê–Ϋ–¥–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α. –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ, –±–Β–Ζ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –≥–Ψ–¥–Α, –Ε–Β–Ϋ–Α ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²―Ä–Η –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Ω―è―²–Β―Ä–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² – –Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Η, ―ç―²–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ―Ä–Ψ–±–Β–Ι. –ï―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±―É―é –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Β.
28 –Η―é–Μ―è – –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ ―¹―ç―Ä―É –ü–Η―²–Β―Ä―É –¦–Ψ―Ä–Η. –†–Α–±–Ψ―²―è―â–Η–Ι ―à–Ψ―²–Μ–Α–Ϋ–¥–Β―Ü, –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –±–Β–Ζ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β–±–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ ―Ö–Μ–Β–±–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ―² ―É–Ε–Β ―²―Ä–Η –¥–Ϋ―è –Ϋ–Η –Κ―Ä–Ψ―à–Κ–Η –≤–Ψ ―Ä―²―É. –½–Ψ–≤―É―² –î–Ε–Ψ–Ϋ –¦–Ψ―Ä–Η. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² – –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –û–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ –Η―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Ι–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α. –û―Ö, –Η ―É―à–Μ―΄–Β ―ç―²–Η ―à–Ψ―²–Μ–Α–Ϋ–¥―Ü―΄, –Η―Ö ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β―à―¨» [27].
–ü–Β―Ä–Β–¥ ―²–Β–Φ –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ ―É–¥–Ψ―΅–Κ―É, –Α―³–Β―Ä–Η―¹―²―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η –≤―¹―é –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―²–Ϋ―É―é ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ «–Κ–Μ–Η–Β–Ϋ―²–Α» –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é: –Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α–Φ –Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –Ψ–±–Ϋ–Η―â–Α–≤―à–Η–Β ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α–Φ – –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, ―è–Κ–Ψ–±―΄ ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Β –Ω–Ψ–¥ –Η―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ, –Α―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Κ–Α–Φ – –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η. –‰ –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ϋ–Η –≥–Ϋ–Β–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Α–¥―Ä–Β―¹–Α―²―΄, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―à―¨, –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥ –Κ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Κ–Μ–Η–Β–Ϋ―²―É!
–Θ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Α–Κ―²–Β―Ä―΄
–£ ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―Ü―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ϋ―É–Ε–¥―΄. –™–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β ―É–Μ–Η―Ü―΄ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ω―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η –≤―¹–Β―Ö –Φ–Α―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Β–≤―Ü–Α–Φ–Η, –Α–Κ―Ä–Ψ–±–Α―²–Α–Φ–Η, –≥–Μ–Ψ―²–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ζ–Φ–Β–Ι, ―à–Ψ―²–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Φ–Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η, –Η–≥―Ä–Α–≤―à–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –≤–Ψ–Μ―΄–Ϋ–Κ–Β, ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α –Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Η –≤―΄―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Η –Η–Ζ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±―É–Φ–Α–≥–Η –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ―¨ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ―΅–Η–Κ–Α, –±–Β–Ζ―Ä―É–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α–Μ–Μ–Η–≥―Ä–Α―³–Α–Φ–Η –Η ―¹–Μ–Β–Ω―΄–Φ–Η ―΅―²–Β―Ü–Α–Φ–Η. –û―Ö–Ψ―΅–Η–Β –¥–Ψ –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â –≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Μ–Α–Ζ–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä–Μ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Μ–Η –±–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―²―΄―Ö –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ, –Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Α―É–Κ–Η. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ζ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ω–Μ–Α―²―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨ –≤ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ω. –ù–Α –≤―΄–±–Ψ―Ä –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Ψ–±―ä–Β–Κ―²―΄: –±–Μ–Ψ―Ö–Η, ―¹―΄―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ–Μ–Β―â–Η, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Β–Ι―à–Η–Β –≤ –Κ–Α–Ω–Μ–Β –≤–Ψ–¥―΄, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹, –Ω–Ψ–Ω–Β―Ä–Β―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è –Μ―É–Ω–Η–Μ–Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ –Ω–Ψ ―Ä―É–Κ–Α–Φ, –Η –Κ―É―¹–Ψ―΅–Β–Κ –¥―É–±–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä―΄. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Α―² ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Β–Ι –Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Β –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―É–±–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ζ–Α―²–Φ–Β–≤–Α–Β―² ―É–Ζ–Ψ―Ä―΄ –Ϋ–Α –Η–Ϋ–¥–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―à–Α–Μ―è―Ö.
–¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―Ü―΄ –Μ―é–±–Η–Μ–Η –Ε–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Β – –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―²–Α–Ϋ―Ü―É―é―â–Η―Ö ―¹–Ψ–±–Α–Κ –Η–Μ–Η –Κ–Α–Ϋ–Α―Ä–Β–Β–Κ –≤ –Ω–Β―¹―²―Ä―΄―Ö –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Α―Ö. –£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β XIX –≤–Β–Κ–Α –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―²–Η–Ω –Ζ–≤–Β―Ä–Η–Ϋ―Ü–Α –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ «―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Β ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ». –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤―΄, –¥–Ψ–Ε–Η–¥–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α, –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Η–±–Μ–Η–Β–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Μ–Κ –±―É–¥–Β―² –Ω–Α―¹―²–Η―¹―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―è–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ. –€–Ψ–Ε–Β―², ―¹―²–Ψ–Η―² –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ö–Ψ–¥―É –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η? –î–Α –Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨. –Γ―É―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Β―Ä–Η–Ϋ―Ü–Α –±―΄–Μ–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α―¹―É–Ϋ―É―²―¨ –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É –Κ–Μ–Β―²–Κ―É ―²–Β―Ö –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β –Ψ―Ö–Ψ―²―è―²―¹―è –¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Α, –Η –Ω―Ä–Η―É―΅–Η―²―¨ –Η―Ö –Κ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é.
–£–Η–¥―΄ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω―²–Η―Ü, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η―Ö «―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Β ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ», –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Η –Ψ―² –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –¥―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Α. –Θ –¥―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Α, –¥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é –€―ç–Ι―Ö―¨―é, –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Β―²–Κ–Β –Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Μ–Η―¹―¨ 3 –Κ–Ψ―à–Κ–Η, 2 ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η (―¹–Ω–Α–Ϋ–Η–Β–Μ―¨ –Η ―²–Β―Ä―¨–Β―Ä), 2 –Ψ–±–Β–Ζ―¨―è–Ϋ―΄, 2 ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η, 2 –≥–Α–Μ–Κ–Η, 2 ―¹–Ψ–Ι–Κ–Η, 10 ―¹–Κ–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤, 6 –≥–Ψ–Μ―É–±–Β–Ι, 2 ―è―¹―²―Ä–Β–±–Α, 2 –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η–Β –Ω―²–Η―Ü―΄ (–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –≥―É―¹–Η –Η–Μ–Η ―É―²–Κ–Η), 1 ―³–Η–Μ–Η–Ϋ, 5 –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä―΄―¹, 5 –±–Β–Μ―΄―Ö –Κ―Ä―΄―¹, 8 –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–≤–Η–Ϋ–Ψ–Κ, 2 –Κ―Ä–Ψ–Μ–Η–Κ–Α, –Β–Ε –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ω–Α―Ö–Α. –ü–Ψ –Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥―Ä–Β―¹―¹―É―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―è―¹―²―Ä–Β–±―΄ –Η –Κ―Ä―΄―¹―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Ω–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Ψ–Κ–Α–Φ–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤… ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Η –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η. –‰–Ζ –Ω―²–Η―Ü –Ω―Ä–Ψ―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≥–Ψ–Μ―É–±–Β–Ι, –Η–Ζ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö – –Ψ–±–Β–Ζ―¨―è–Ϋ. –ù–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤, –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä–Β–Ϋ―² –Ζ–Α―è–≤–Μ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –¥―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ–±–Β–Ζ―¨―è–Ϋ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –≤–Β–¥―¨ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Η–≥―Ä―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―É―¹–Κ–Α―é―² –≤ ―Ö–Ψ–¥ –Ζ―É–±―΄ –Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ –Κ―Ä―΄―¹―É –Ζ–Α ―Ö–≤–Ψ―¹―².
–û–±–Α –¥―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Α –Κ–Μ―è–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–±–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ψ–Ω–Α–Η–≤–Α―é―² –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Ω–Η―É–Φ–Ψ–Φ, –Ϋ–Β –±―¨―é―² –Η―Ö –Η –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Η―Ä–Α―é―² –Η–Φ –Ζ―É–±―΄. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ―è―è―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Κ‑―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Η―Ö –±–Β–Ζ –Β–¥―΄ –Ϋ–Α 36 ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ―É―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Α! –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―² –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ –≤ –ö–Β–Φ–±―Ä–Η–¥–Ε–Β –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ‑―²–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α, ―Ö–Ψ―²―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β –Ε–Β –Ϋ–Α–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².
–Γ―Ä–Β–¥–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―²–≤–Ψ―Ä―΄ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ―É–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―²–Β–Α―²―Ä–Ψ–≤. –‰―Ö –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –±―΄–Μ –Φ–Η―¹―²–Β―Ä –ü–Α–Ϋ―΅, –Ζ–Α–¥–Η―Ä–Α –Η –≥―Ä―É–±–Η―è–Ϋ, –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è –Κ –±―É―²―΄–Μ–Κ–Β, –Α –Ϋ–Α –¥–Ψ―¹―É–≥–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Β–Ϋ―É―à–Κ―É –î–Ε―É–¥–Η. –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Κ―É–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Α―²―Ä –±–Β―Ä–Β―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –≤ –‰―²–Α–Μ–Η–Η XIV –≤–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –ü–Α–Ϋ―΅ –±―΄–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Β–Ι –ö–Ψ–Φ–Φ–Β–¥–Η–Α –¥–Β–Μ –ê―Ä―²–Β –Η –Ζ–≤–Α–Μ―¹―è –ü―É–Μ―¨―΅–Η–Ϋ–Β–Μ–Μ–Α. –£–Ψ –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ψ–Ϋ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Η–Φ―è –Ϋ–Α –ü–Ψ–Μ–Η―à–Β–Ϋ–Β–Μ―è, –Α –≤ XVII –≤–Β–Κ–Β –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –Η –Ψ–±―Ä–Β–Μ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Η–Φ―è. –ï–≥–Ψ ―¹–≤–Α―Ä–Μ–Η–≤―É―é –Ε–Β–Ϋ―É –Ω–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Ζ–≤–Α–Μ–Η «–î–Ε–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α», –Ϋ–Ψ –≤ XIX –≤–Β–Κ–Β –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α –Κ–Α–Κ –î–Ε―É–¥–Η. –î–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ―É–Κ–Μ―΄ –±―΄–Μ–Η –≥―Ä―É–±–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α–Μ–Β–≤–Α–Ϋ―΄ –Η –Ψ–¥–Β―²―΄ –≤ ―è―Ä–Κ–Ψ–Β ―²―Ä―è–Ω―¨–Β – ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―Ü–≤–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Μ–Ω–Α–Κ ―É –ü–Α–Ϋ―΅–Α, –≤ –Ω―Ä–Η–¥–Α―΅―É –Κ –Κ―Ä―é―΅–Κ–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Ψ―¹―É –Η –≤–Ϋ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –±―Ä―é―à–Κ―É, ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Ω–Β―Ü ―É –Β–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―΄. –ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι ―΅–Β―²―΄, –≤ –Κ―É–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Η – –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²–Β–±–Μ―¨, –±–Η–¥–Μ―¨, –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä, –Κ–Μ–Ψ―É–Ϋ, –Ω–Α–Μ–Α―΅, –Ω―Ä–Η–Ζ―Ä–Α–Κ, –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Η ―¹–Α–Φ –¥―¨―è–≤–Ψ–Μ. –ü–Β―Ä–Β–¥ ―à–Η―Ä–Φ–Ψ–Ι, –Ϋ–Α–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹–Α–Ε–Α–Μ–Η –Ω―¹–Α –Δ–Ψ–±–Η –≤ ―à–Μ―è–Ω–Β –Η –≥–Ψ―³―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Β.
–ö―É–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―΄–≥―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö –Η ―è―Ä–Φ–Α―Ä–Κ–Α―Ö. –ï―¹–Μ–Η –¥–Ψ XIX –≤–Β–Κ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ―΄ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –Ϋ–Α –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Η–Φ–Ω–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ―΄–Β ―à―É―²–Κ–Η –Η ―¹―Ü–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―¹–Η–Μ–Η―è, –≤ –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é ―ç–Ω–Ψ―Ö―É –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –ü–Α–Ϋ―΅–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –¥–Β―²–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –¥―Ä–Α–Κ–Η –Η ―Ä―É–≥–Α–Ϋ―¨ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨.

–ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –ü–Α–Ϋ―΅–Α –Η –î–Ε―É–¥–Η. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –™―é―¹―²–Α–≤–Α –î–Ψ―Ä–Β –Η–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η «–ü–Α–Μ–Ψ–Φ–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ». 1877
–Δ–Η–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η–Ι –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –î–Ε―É–¥–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² –ü–Α–Ϋ―΅–Α –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ζ–Α –Η―Ö –Φ–Α–Μ―΄―à–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ–Ϋ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―², –Ϋ–Ψ –ü–Α–Ϋ―΅―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ω–Μ–Β―΅―É ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è:
«–ü–Α–Ϋ―΅ –Κ–Α―΅–Α–Β―² –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―Ü–Α, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨, –±–Β―Ä–Β―² –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Η, –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―è: „–ö–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―¹–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ! –Δ–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É!“ –û–Ϋ ―²―Ä―è―¹–Β―² –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―Ü–Α, –±―¨–Β―² –Β–≥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ ―¹―²–Β–Ϋ―É –Η ―à–≤―΄―Ä―è–Β―² –Η–Ζ –Ψ–Κ–Ϋ–Α. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –î–Ε―É–¥–Η.
–î–Ε―É–¥–Η: –™–¥–Β –Ϋ–Α―à –Φ–Α–Μ―΄―à?
–ü–Α–Ϋ―΅ (–Φ–Β–Μ–Α–Ϋ―Ö–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ): –Γ –Ϋ–Η–Φ –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, –Ψ–Ϋ ―²–Α–Κ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ –Ψ―Ä–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―è –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Β–≥–Ψ –≤ –Ψ–Κ–Ψ―à–Κ–Ψ.
–î–Ε―É–¥–Η –Η―¹―²–Β―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ–Ω–Μ–Α–Κ–Η–≤–Α–Β―² ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ζ–Α –¥―É–±–Η–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –Η –±―¨–Β―² –ü–Α–Ϋ―΅–Α –Ω–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β.
–ü–Α–Ϋ―΅: –ù–Β –Ζ–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Κ, –Φ–Η–Μ–Α―è, ―è –Ε–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ.
–î–Ε―É–¥–Η: –Δ―΄ –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Α –≤―¹–Β –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η―à―¨!
–û–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –±–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β, –Ϋ–Ψ –ü–Α–Ϋ―΅ –≤―΄―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―É –Ϋ–Β–Β –¥―É–±–Η–Ϋ–Κ―É –Η –Η–Ζ–±–Η–≤–Α–Β―² –î–Ε―É–¥–Η» [28].
–î–Α–Μ–Β–Β –ü–Α–Ϋ―΅ –Ζ–Α–±―¨–Β―² –î–Ε―É–¥–Η –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―Ä―²―¨, –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―è–≤–Η―²―¹―è –Β–Β –Ω―Ä–Η–Ζ―Ä–Α–Κ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹―É–±―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ―²–≤–Β–¥–Α–Β―² –¥―É–±–Η–Ϋ–Κ–Η. –ü–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α―²―¨ ―É–±–Η–Ι―Ü―É –Κ –Ψ―²–≤–Β―²―É –Ϋ–Β ―É–≤–Β–Ϋ―΅–Α―é―²―¹―è ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ: –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η―² –Η –±–Η–¥–Μ―è, –Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²–Β–±–Μ―è, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Β ―É–≤–Ψ–Μ–Ψ–Κ―É―² –Ϋ–Α ―ç―à–Α―³–Ψ―², –¥–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è –Η –Ω–Α–Μ–Α―΅―É. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤, –ü–Α–Ϋ―΅ –Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Β―² –Γ–Α―²–Α–Ϋ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –¥―É―à―É, –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―² ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―¨ ―²―Ä–Η―É–Φ―³–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ.
–î–Β―²–Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤ ―Ä–Ψ―², ―²–Ψ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α―è―¹―¨ ―¹–Φ–Β―Ö–Ψ–Φ. –ö–Α–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ―Ü―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –Φ–Η―¹―²–Β―Ä –ü–Α–Ϋ―΅ –Ψ―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Ω–Α–Μ–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²–Β–±–Μ―è –Η–Μ–Η –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―Ö–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―¹―É–¥―¨–Β–Ι? –£–Ψ―² –±―΄ –Η –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―²–Α–Κ! –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –±–Η―²―¨―è –Ε–Β–Ϋ, –¥–Μ―è –Ζ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α―²–Α–Β–≤ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ–Ϋ–Ψ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―à–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η―Ü–Α―Ö –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η ―¹–Η–Ϋ―è–Κ–Η. –ù–Α―¹–Η–Μ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –Ω–Α―Ä –Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨―¹―è ―¹ –±―΄―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ϋ–Β–≤–Ζ–≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η.
–û―² ―à―É–Φ–Α –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Α ―É ―΅―É–Ε–Α–Κ–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Η–≥―Ä–Β–Ϋ―¨. –†–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι, –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―É–Κ –Κ–Ψ–Μ–Β―¹ –Ω–Ψ –±―É–Μ―΄–Ε–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Ψ–≤―΄–Φ, –Ζ―΄―΅–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Η–Κ–Η ―É–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Η –Ϋ―΄―²―¨–Β –Ϋ–Η―â–Η―Ö, –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η–Ι –≥–Ψ–≥–Ψ―² –Η–Ζ –Ω–Η―²–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―â–Β–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α–Φ–Α –±―΄–Μ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α. –Δ–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Ι―²–Η –Ζ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É. –ù–Β –≤―¹–Β ―É–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Β–≤―Ü―΄ –Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ–Η, –Ζ–Α―²–Ψ –Ϋ–Α–¥―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―² –¥―É―à–Η – –Β―â–Β –±―΄, –Ϋ–Β ―à―É―²–Κ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Α―Ä!
–ö―²–Ψ –Φ–Ψ–≥, –Η–≥―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö – –±–Α―Ä–Α–±–Α–Ϋ–Α―Ö, ―¹–Κ―Ä–Η–Ω–Κ–Α―Ö, –±–Α–Ϋ–¥–Ε–Ψ, ―²–Α―Ä–Β–Μ–Κ–Α―Ö –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, ―à–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Κ–Β. –£ 1860‑―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ϋ–Α –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö –Ϋ–Α―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―²―΄―¹―è―΅–Η ―à–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ―â–Η–Κ–Ψ–≤! –£–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―à–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ―â–Η–Κ–Α –Ω―Ä―΄–≥–Α–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Η―²–Α–Ϋ―Ü–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Η–Β–Ϋ―²―΄, ―É–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η. –‰–Φ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –Φ–Β–Μ–Ψ–¥–Η–Η, ―É–Ε–Η–Φ–Κ–Η –Ψ–±–Β–Ζ―¨―è–Ϋ, –≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η―Ü ―à–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ―â–Η–Κ–Ψ–≤, –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ ―¹–Α–Φ–Η–Φ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Κ―Ä―É―²–Η―²―¨ ―Ä―É―΅–Κ―É –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α. –û―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―à–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ―â–Η–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ‑―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É – –Κ―²–Ψ ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Α –Κ―²–Ψ ―¹ ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –®–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Κ–Η –Κ―Ä―è―Ö―²–Β–Μ–Η, –≤–Η–Ζ–Ε–Α–Μ–Η –Η ―²–Α―Ä–Α―Ö―²–Β–Μ–Η ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ–≤–Μ–Β–Κ–Α–Β–Φ―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ζ–≤―É–Κ–Η –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ψ–≤–Β―à―¨ –±–Α–Μ―¨–Ζ–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Μ―è ―É―à–Β–Ι. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –≤ ―à–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ―â–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―Ü―΄, ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―΄, –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Η –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―Ü―΄, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β ―É–Κ―Ä–Α―à–Α–Μ–Ψ –Η―Ö –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ – –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α –Η–Φ –Ϋ–Β―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α. –½–Α―²–Ψ ―à–Ψ―²–Μ–Α–Ϋ–¥―Ü―΄ –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Ψ –±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ–Η –Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Α–Φ, –Η–≥―Ä–Α–≤―à–Η–Φ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Μ―΄–Ϋ–Κ–Β. –ö–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η―à–Κ–Α‑–Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―², –≥–Β―Ä―Ü–Ψ–≥ –ê―Ä–≥–Α–Ι–Μ –¥–Α–Ε–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–≥–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―É–≥–Ψ―â–Α–Μ–Η –Ψ–±–Β–¥–Ψ–Φ –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Β.

–®–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ―â–Η–Κ –Η –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α «–ü–Α–Ϋ―΅». 1853
–¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―Ü―΄ –Ε–Α–Μ–Β–Μ–Η ―¹–Μ–Β–Ω―΄―Ö –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Ω–Ψ –Ψ–±―â–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Ϋ–Α–±–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –™–Β–Ϋ―Ä–Η –€―ç–Ι―Ö―¨―é ―¹ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ ―¹―²–Α―Ä―É―à–Κ–Β –Γ–Α―Ä–Β, –Η–≥―Ä–Α–≤―à–Β–Ι –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―Ä–Β. –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ϋ–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Η –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―²–Η–Ω–Η―΅–Ϋ–Α. –Γ–Α―Ä–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β XVIII –≤–Β–Κ–Α, –Β–Β –Ψ―²–Β―Ü –±―΄–Μ ―à–Μ―è–Ω–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Φ–Α―²―¨ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Α –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ü–≤–Β―²―΄. –Γ―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―É –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Α–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≥–Μ–Α–Ζ–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Α, –Η–Ζ‑–Ζ–Α ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ–Ϋ―è–Κ–Α. –ù―è–Ϋ―¨–Κ–Α –Ϋ–Α―à–Μ–Α –Ψ―Ä–Η–≥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–± –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α–Φ–Α–Ζ–Α–≤ –Β–Ι –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹–Φ–Β―¹―¨―é –Φ–Α―¹–Μ–Α, –≤–Ψ―¹–Κ–Α, –Ψ–Κ―¹–Η–¥–Α ―Ü–Η–Ϋ–Κ–Α –Η –Ψ–Κ―¹–Η–¥–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α. –Δ–Α–Κ –Γ–Α―Ä–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ–Η―à–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Β–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ―É –¥–Μ―è ―¹–Μ–Β–Ω―΄―Ö, –≥–¥–Β –¥–Β–≤–Ψ―΅–Β–Κ ―É―΅–Η–Μ–Η ―à–Η―²―¨ –Η –Ω―Ä―è―¹―²―¨, –Ϋ–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–¥–Β–Μ–Η–Β –Γ–Α―Ä–Β –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –†–Β―à–Β–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―É―΅–Η―²―¨ –Β–Β –Η–≥―Ä–Β –Ϋ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Β, ―΅―²–Ψ –Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―΄―Ä–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ, –Η–≥―Ä–Α―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―Ä–Β –Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―è –Ω–Ψ–¥–Α―è–Ϋ–Η–Β, –Θ–≤―΄, ―¹―²–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―É–Μ–Η―Ü―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄ –Η –¥–Μ―è –Ζ―Ä―è―΅–Η―Ö, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε–Β –Ψ ―¹–Μ–Β–Ω―΄―Ö ―¹―²–Α―Ä―É―à–Κ–Α―Ö. –Γ–Α―Ä―É –Η –Β–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―²―É―é ―¹–±–Η–Μ –Κ―ç–±, –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ –≤―΄–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η–Ι –Η–Ζ‑–Ζ–Α ―É–≥–Μ–Α. –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―²–Α―è ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β, –Γ–Α―Ä–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–¥–Η–Μ–Α ―Ä―É–Κ–Η, ―΅―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Η–≥―Ä–Α―²―¨. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Ψ–Ϋ–Α ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Α –≤ –Ϋ–Η―â–Β―²–Β.
–î–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η
–£ –Ϋ–Α―à–Η –¥–Ϋ–Η –¥–Β―²–Β–Ι –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Ψ–±–Β―Ä–Β–≥–Α―²―¨ –Ψ―² ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α. –ê –≤–Ψ―² –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Α–Φ, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–≤―à–Η–Φ –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β XIX –≤–Β–Κ–Α, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Α–Φ–Η–Φ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ―é –Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ –±–Β–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –Δ―è–Ε–Κ–Η–Ι ―²―Ä―É–¥ –±―΄–Μ ―É–¥–Β–Μ–Ψ–Φ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β―Ö –¥–Β―²–Β–Ι. –û―² ―é–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ―Ä–¥–Ψ–≤ –Η –Μ–Β–¥–Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ―é –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ―¨, –≤–Β–¥―¨ –≤―¹–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―Ä–Β–±―è―²–Η―à–Κ–Η –Η–Ζ ―¹–Β–Φ–Β–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Η –Φ–Β–Μ–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü–Β–≤ ―¹ –Φ–Α–Μ–Ψ–Μ–Β―²―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ. –£ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―²―è–Ε–Κ–Η–Φ –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –¥–Β―²–Β–Ι –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Α–Μ–Α –±–Β–¥–Α. –ï―¹–Μ–Η –≤ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β ―É–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Ψ―²–Β―Ü, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–±―΄―²―΅–Η–Κ, ―²–Ψ ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Β–Ζ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Κ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –€–Α―²–Β―Ä–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤–Β–Μ–Α –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―¹–Ω–Β―à–Κ–Β –Η―¹–Κ–Α―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²―É ―É–±–Ψ―Ä―â–Η―Ü―΄, –Ω―Ä–Α―΅–Κ–Η –Η–Μ–Η ―à–≤–Β–Η. –ê –¥–Β―²–Η, –Ψ―² –Φ–Α–Μ–Α –¥–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α, ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥―Ä–Ψ―à–Β–Ι.
–ù–Α –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö, –Η –±–Β–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ ―à―É–Φ–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Κ―Ä–Η–Κ–Α–Φ–Η –≤–Β―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ‑–≥–Α–Ζ–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤, ―²–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨: «–Γ―ç―Ä, ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β, ―è –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Ψ―²―Ä―é –Ζ–Α –≤–Α―à–Β–Ι –Μ–Ψ―à–Α–¥―¨―é?» –Η–Μ–Η «–€―ç–Φ, –¥–Α–≤–Α–Ι―²–Β ―è –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹―É –≤–Α―à ―¹–≤–Β―Ä―²–Ψ–Κ!»
–î–Β―²–Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Κ―É–¥–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ. –£–Ζ―è―²―¨, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ ―Ä–Β–Κ–Η –Δ–Β–Φ–Ζ―΄ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ–≤. –†–Β–±―è―²–Η―à–Β–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η «mud‑larks» – «–Ε–Α–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Η –Η–Ζ –≥―Ä―è–Ζ–Η». –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ – –Ψ–¥–Ϋ–Η –Ε–Α–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Η –Ω–Α―Ä―è―² –≤ –Ϋ–Β–±–Β―¹–Α―Ö, –Α –≤–Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ–Ψ–Ω–Ψ―à–Η―²―¨―¹―è –≤ –≥―Ä―è–Ζ–Η. «–•–Α–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Η» –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –≤ –¥–Ψ–Φ–Α―Ö –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Β–Κ―É –Ψ―² ―Ä–Β–Κ–Η. –î–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―²–Μ–Η–≤–Α, –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η –Κ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ –Η, –Ζ–Α–Κ–Α―²–Α–≤ ―à―²–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―É―é –≥―Ä―è–Ζ―¨. –½–Α–¥–Α―΅–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―É–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Η, –Ψ–±―Ä―΄–≤–Κ–Η –≤–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―¹―²–Η –Η –Φ–Β–¥–Ϋ―΄–Β –≥–≤–Ψ–Ζ–¥–Η, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Ε–Α–≤―΄–Β –Ϋ–Ψ–Ε–Η –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ―²–Κ–Η. –Γ–≤–Ψ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Κ–Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―¨–Β–≤―â–Η–Κ–Α–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Φ―É―¹–Ψ―Ä – –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤–Α―Ä–Η–Μ–Η –Κ–Μ–Β–Ι –Η–Ζ –Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ê ―É–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ϋ–Β―¹―²–Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –¥–Μ―è ―Ä–Α―¹―²–Ψ–Ω–Κ–Η –Κ–Α–Φ–Η–Ϋ–Α.
–†–Α–±–Ψ―²–Α –±―΄–Μ–Α ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Ϋ―É―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι, –≤–Β–¥―¨ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Ψ–¥–Α, –Η –Μ–Β―²–Ψ–Φ, –Η –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι, –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –±–Ψ―¹–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ψ–¥–Β―²―΄–Β –Μ–Η―à―¨ –≤ ―Ä–≤–Α–Ϋ―¨–Β. –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–¥–Η―²―¨―¹―è. –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ «–Ε–Α–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Η» –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ –Η–Μ–Η ―Ä–Ε–Α–≤―΄–Β –≥–≤–Ψ–Ζ–¥–Η. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η –Κ–Ψ–≤―΄–Μ―è–Μ–Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Β―Ä–Β–≤―è–Ζ–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ϋ―É, –Ϋ–Ψ ―²―É―² –Ε–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Κ―É – –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –±―É–¥–Β―à―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―²―¨ –¥–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ―²–Μ–Η–≤–Α! –ü–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ –™–Β–Ϋ―Ä–Η –€―ç–Ι―Ö―¨―é, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Φ «–Ε–Α–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–≤» –Κ–Α–Κ‑―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ζ–Α–≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ –≤ –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Φ, –≥–¥–Β –Β–Φ―É –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –Δ–Α–Φ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Β –≤―΄–¥–Α–Μ–Η –Ψ–¥–Β–Ε–¥―É –Η –Ψ–±―É–≤―¨, –Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Β–Ε–Κ–Α –±―΄–Μ–Α ―Ö–Ψ―²―¨ ―¹–Κ―É–¥–Ϋ–Ψ–Ι, –Ζ–Α―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–¥―²–Η ―¹–Ω–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ε–Β–Μ―É–¥–Ψ–Κ. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ζ–Η–Φ―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –≥―Ä―è–Ζ―¨ ―²–Α–Κ –Η –Ψ–±–Ε–Η–≥–Α–Β―² –±–Ψ―¹―΄–Β –Ϋ–Ψ–≥–Η.

–€–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è ―Ü–≤–Β―²–Ψ―΅–Ϋ–Η―Ü–Α. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –™–Β–Ϋ―Ä–Η –€―ç–Ι―Ö―¨―é «–†–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Η –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ–Η –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Α». 1861–1862
–£ XIX –≤–Β–Κ–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Η –¥–Β―²–Η –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤ ―à–Α―Ö―²–Α―Ö, –Ω–Ψ 12 –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –£ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―à–Α―Ö―²–Α―Ö –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ―΄ ―¹ ―É–≥–Μ–Β–Φ, –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö – ―²―è–Ϋ―É―²―¨ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Β―²–Κ―É, –≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―É–≥–Μ–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―Ü–Β–Ω―¨―é –Κ ―²–Α–Μ–Η–Η. –ü–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―Ö. –î–Β―²–Η ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Β―²–Κ–Η –Ϋ–Α―Ä–Α–≤–Ϋ–Β ―¹–Ψ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Φ–Η –Η–Μ–Η –Ε–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α―²–≤–Ψ―Ä–Κ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Β―²–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β―Ö–Α―²―¨.
–£ 1842 –≥–Ψ–¥―É –≤ ―à–Α―Ö―²–Α―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η 2350 –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ, –Ψ–¥–Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –≤ –¦–Α–Ϋ–Κ–Α―à–Η―Ä–Β, ―Ö–Ψ―²―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ι ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Α. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü―΄ ―à–Α―Ö―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Α –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –¥–Β―²–Β–Ι –Φ–Μ–Α–¥―à–Β –¥–Β―¹―è―²–Η –Μ–Β―². –ê –¥–Β―¹―è―²―¨―é –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, –≤ 1833 –≥–Ψ–¥―É, –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ―΄ ―΅–Α―¹―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –¥–Μ―è –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Η―Ö – –¥–Β―²–Η –Φ–Μ–Α–¥―à–Β 13 –Μ–Β―² –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―²―Ä―É–¥–Η―²―¨―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β 8 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨, –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Η –¥–Ψ 18 –Μ–Β―² – ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ 12 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –¥–Β―²―è–Φ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–Ϋ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Φ–Α―Ö–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Ι. –†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –¥–Β―²―è–Φ –Ω–Α―Ä―É –Μ–Β―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –¥–Ψ–Μ―¨―à–Β, –Α ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β XIX –≤–Β–Κ–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Η –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η ―²―Ä―É–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―è―¹―¨ ―¹–Ψ―Ä―²–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι ―É–≥–Μ―è.
–Γ–Α–Φ–Ψ–Ι –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Β–Ι XIX –≤–Β–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è ―²―Ä―É–±–Ψ―΅–Η―¹―²–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –≤ –Κ–Α–Φ–Η–Ϋ–Α―Ö ―¹–≥–Ψ―Ä–Α–Μ–Ψ, –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ–Ω–Ψ―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Β–¥–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Α―Ö ―²―Ä―É–±―΄. –ß―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Φ–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –¥―΄–Φ–Η–Μ–Η, ―²―Ä―É–±―΄ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Κ–Α–Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–±―΄ –±―΄–Μ–Η ―É–Ζ–Κ–Η–Φ–Η, ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ –Η―Ö –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β―²–Η.
–£ –Ω–Ψ–¥–Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¨―è –Κ ―²―Ä―É–±–Ψ―΅–Η―¹―²–Α–Φ –Ψ―²–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Ψ–≤‑―¹–Η―Ä–Ψ―² –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β –Ψ―² 4‑―Ö –Μ–Β―². –†–Α–±–Ψ―²–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ―²―¨ –≤ ―²―Ä―É–±―É –Η –Ω–Ψ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ –Β–Β ―¹–Κ―Ä–Β–±–Κ–Ψ–Φ –Η–Μ–Η ―â–Β―²–Κ–Ψ–Ι. –ù–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä–Α―Ö –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η –±–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Β–Ζ―²―¨ –≤–≤–Β―Ä―Ö –Ω–Ψ ―²―Ä―É–±–Β, –≤–¥―Ä―É–≥ –Β―â–Β –Ζ–Α―¹―²―Ä―è–Ϋ―É―². –Δ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Κ–Α–Φ–Η–Ϋ–Β –Ζ–Α–Ε–Η–≥–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ―΄, –Η ―²―Ä―É–±–Ψ―΅–Η―¹―², –±–Ψ―è―¹―¨ –Ψ–±–Ε–Β―΅―¨―¹―è, –≤–Ψ–Μ–Β–Ι‑–Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ–Β–Ι –Κ–Α―Ä–Α–±–Κ–Α–Μ―¹―è –≤–≤–Β―Ä―Ö. –£ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β –ß–Α―Ä–Μ―¨–Ζ–Α –î–Η–Κ–Κ–Β–Ϋ―¹–Α «–ü―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –û–Μ–Η–≤–Β―Ä–Α –Δ–≤–Η―¹―²–Α» –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –û–Μ–Η–≤–Β―Ä–Α ―΅―É―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η –≤ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η ―²―Ä―É–±–Ψ―΅–Η―¹―²―É –Φ–Η―¹―²–Β―Ä―É –™―ç–Φ―³–Η–Μ–¥―É. –ê –Ψ–Ϋ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ―É―é –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η–Κ―É: «–€–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η – –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–Ω―Ä―è–Φ―΄–Ι –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ–Β–Ϋ–Η–≤―΄–Ι, –¥–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ―΄, –Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―² –Μ―É―΅―à–Β ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Η―Ö –±―΄―¹―²―Ä–Β―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ω―É―¹―²–Η―²―¨―¹―è. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β ―ç―²–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, –¥–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Κ–Α–Κ, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α―¹―²―Ä―è–Ϋ―É―² –≤ –¥―΄–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β, –Α –Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Ϋ–Β―à―¨ –Ω–Ψ–¥–Ε–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ω―è―²–Κ–Η, –Ψ–Ϋ–Η –Η–Ζ–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä–Α―é―²―¹―è –≤―΄―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è» [29]. –ö ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é –¥–Μ―è –û–Μ–Η–≤–Β―Ä–Α, –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β –Ε–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ―Ü–Α –™―ç–Φ―³–Η–Μ–¥–Α. –î―Ä―É–≥–Η–Φ ―Ä–Β–±―è―²–Η―à–Κ–Α–Φ –≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α―¹―²―Ä–Β–≤–Α–Μ–Η –≤ ―²―Ä―É–±–Α―Ö, ―¹―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ϋ–Η–Ζ –Η–Μ–Η –≥–Η–±–Μ–Η –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ ―²―Ä―É–±–Β, –Ζ–Α–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―² –Ω―΄–Μ–Η.
–Ξ–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¨–Β–≤. –î–Β―²–Η ―¹–Ω–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ–Α―Ö –Η –Ϋ–Α ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ–Α―Ö. –ö–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ, –≤–Β–¥―¨ ―΅–Β–Φ ―²–Ψ–Ϋ―¨―à–Β ―²―Ä―É–±–Ψ―΅–Η―¹―², ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄. –Δ―Ä―É–±–Ψ―΅–Η―¹―²―΄ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Φ―΄–Μ–Η―¹―¨, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≥–Ψ–¥ –Ζ–Α –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Η―Ö ―²–Β–Μ–Β –Ϋ–Α–Κ–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Μ–Ψ–Η ―¹–Α–Ε–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Κ ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ.
–£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β XIX –≤–Β–Κ–Α –≤ ―¹―³–Β―Ä–Β –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Η –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –ï―â–Β –≤ 1804, 1817 –Η 1819 –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α–Β–Φ –¥–Β―²–Β–Ι –¥–Ψ 10 –Μ–Β―², –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²―΄ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η. –¦–Η―à―¨ –≤ 1840 –≥–Ψ–¥―É –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―² –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η–Μ –Ζ–Α–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ ―²―Ä―É–±―΄ –Μ–Η―Ü–Α–Φ –¥–Ψ 21 –≥–Ψ–¥–Α. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―à―²―Ä–Α―³―΄ –±―΄–Μ–Η ―²–Α–Κ –Φ–Α–Μ―΄, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ –Φ–Α–Μ–Ψ –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ. –ù–Ψ –≤ 1864 –≥–Ψ–¥―É ―à―²―Ä–Α―³ –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η–Μ–Η –¥–Ψ 10 ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ – –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹―É–Φ–Φ–Α –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ. –ù–Ψ–≤–Α―è –Φ–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Κ–Α–Κ ―é―Ä–Η–¥–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é, ―²–Α–Κ –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É, –Η ―ç–Κ―¹–Ω–Μ―É–Α―²–Α―Ü–Η―è –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö ―²―Ä―É–±–Ψ―΅–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹–Ω–Α–¥.
–Θ ―Ä–Β–±―è―²–Η―à–Β–Κ, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β, –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–±–Η―²―¨―¹―è –≤ –Μ―é–¥–Η. –£ 1840‑―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ 20 % –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ―É –Η–Μ–Η –Ψ–±―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Φ―É. –£ 1860‑―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö ―ç―²–Α ―Ü–Η―³―Ä–Α –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α, –Η ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β –Ψ―² 5 –¥–Ψ 15 –Μ–Β―² –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ–Α ―à–Κ–Ψ–Μ―É. –ß–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–Β―²–Η ―É–Μ–Η―Ü ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β «ragged schools» – «―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –¥–Μ―è –Ψ–±–Ψ―Ä–≤―΄―à–Β–Ι», –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η ―²–Α―Ä–Β–Μ–Κ―É ―¹―É–Ω–Α –≤ –Ω―Ä–Η–¥–Α―΅―É. –Γ 1880 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –¥–Β―²–Β–Ι –¥–Ψ 10 –Μ–Β―² ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ.
–ü–Ψ –Φ–Β―Ä–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ü–Η–Η –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α–Μ–Ψ, –Α ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―É–Μ―É―΅―à–Α–Μ–Η―¹―¨, –≤ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ ―²―Ä―É–¥–Β –Ψ―²–Ω–Α–Μ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨.
–û―² –Ϋ–Β–Κ―Ä–Ψ–Ζ–Α –¥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³―¹–Ψ―é–Ζ–Α: –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η ―¹–Ψ ―¹–Ω–Η―΅–Κ–Α–Φ–Η
–û ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ–Η–Φ ―²―è–Ε–Κ–Η–Φ, –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Η ―É–Ϋ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –±―΄–Μ ―²―Ä―É–¥ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –≤ XIX –≤–Β–Κ–Β, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Β―â–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è―² –Ω–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α–Φ –€–Α―Ä–Κ―¹–Α –Η –≠–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Α, –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹–Β –Ω–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –ö–ü–Γ–Γ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Φ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―³―¹–Ψ―é–Ζ―΄ –Η ―Ä–Ψ―¹―² ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä–Η–Α―²–Α –Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―è―Ö. –Δ–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β, –Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ϋ–Β―². –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ϋ–Α–Φ –≤―¹–Β –Ε–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Κ―Ä–Ψ–Ζ ―΅–Β–Μ―é―¹―²–Η –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–±–Α―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Κ XIX –≤–Β–Κ–Α. –ü–Ψ–≤–Μ–Η―è–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Κ―Ä–Ψ–Ζ ―΅–Β–Μ―é―¹―²–Η –±―΄–Μ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö.
–£ XIX –≤–Β–Κ–Β –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η―è ―¹―²–Α–Μ–Α –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ. –£ –®–Β―³―³–Η–Μ–¥–Β, –ë–Η―Ä–Φ–Η–Ϋ–≥–Β–Φ–Β, –£―É–Μ–≤–Β―Ä–≥–Α–Φ–Ω―²–Ψ–Ϋ–Β, –ê–±–Β―Ä–≥–Α–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ―É―Ä–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―΄, –≤ –Θ―ç–Μ―¨―¹–Β –¥–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η ―É–≥–Ψ–Μ―¨ –Η –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ, –≤ –Γ―²–Ψ–Κ–Β‑–Ϋ–Α‑–Δ―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η ―³–Α―Ä―³–Ψ―Ä –Η –Κ–Β―Ä–Α–Φ–Η–Κ―É, –¦–Β―¹―²–Β―Ä –Η –ù–Ψ―²―²–Η–Ϋ–≥―ç–Φ ―¹–Μ–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β–Κ―¹―²–Η–Μ–Β–Φ, –Α –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Β, –≤ –¦–Η–¥―¹–Β, –ë―Ä–Α–¥―³–Ψ―Ä–¥–Β, –€–Α–Ϋ―΅–Β―¹―²–Β―Ä–Β, –Ε―É–Ε–Ε–Α–Μ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Κ–Ψ–Ω―Ä―è–¥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö. –ü–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹ ―Ü–≤–Β―²―É―â–Η–Φ ―é–≥–Ψ–Φ, ―¹–Β–≤–Β―Ä –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –±―΄–Μ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è «–ß–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Α–Ι», ―É–Κ―Ä―΄―²―΄–Ι ―²―Ä–Α―É―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―΄–Φ–Α.
–£–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Α ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η―è –€–Α―Ä–≥–Α―Ä–Β―² –Ξ–Β–Ι–Μ, –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ϋ–Η ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α «–Γ–Β–≤–Β―Ä –Η –°–≥» –™–Α―¹–Κ–Β–Μ–Μ, –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―É–≤–Η–¥–Β–≤―à–Β–Ι ―É–Ϋ―΄–Μ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥: «–½–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Μ―¨ –¥–Ψ –€–Η–Μ―²–Ψ–Ϋ–Α –Ψ–Ϋ–Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤―É―é ―²―É―΅―É, –Ϋ–Α–≤–Η―¹―à―É―é –Ϋ–Α–¥ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ. –û–Ϋ–Α –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α―¹―²–Β ―¹ –±–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ‑–≥–Ψ–Μ―É–±―΄–Φ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ–Φ –Ξ–Β―¹―²–Ψ–Ϋ–Α, – ―É –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Κ–Η. –ë–Μ–Η–Ε–Β –Κ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―¹–Μ–Α–±―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Α―Ö –¥―΄–Φ–Α, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―â―É―²–Η–Φ―΄–Ι –Η–Ζ‑–Ζ–Α –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è –Ζ–Α–Ω–Α―Ö–Α ―²―Ä–Α–≤ –Η –¥–Β―Ä–Β–≤―¨–Β–≤… –Δ–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨, ―²–Ψ ―²–Α–Φ, –Κ–Α–Κ –Κ―É―Ä–Η―Ü–Α ―¹―Ä–Β–¥–Η ―Ü―΄–Ω–Μ―è―², –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è, –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Α ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―è ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι „–Ϋ–Β–Ω–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Ι“ –¥―΄–Φ. –≠―²–Ψ―² –¥―΄–Φ ―¹―²―è–≥–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –≤–Η―¹–Β–≤―à―É―é –Ϋ–Α–¥ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ ―²―É―΅―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –€–Α―Ä–≥–Α―Ä–Β―² –Ω–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Α –Ζ–Α –¥–Ψ–Ε–¥–Β–≤―É―é» [30].
–ö–Α–Κ –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Β, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α ―é–≥–Β, ―É―΅–Α―¹―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―΄–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²–Β―¹–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Β–Ϋ–Κ–Α―Ö, –¥―É―à–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―²–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ζ–≥–Μ―΄―Ö –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι, –Η –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ ―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―³–Α–±―Ä–Η–Κ―É, –Ω–Ψ―Ä–Ψ―é –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –¥–Ψ–Ε–¥–Β–Φ. –ù–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Η―Ö –Ω–Ψ–¥–Ε–Η–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Β, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―²―Ä–Η–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è, –≥–¥–Β –Η–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η 12, 14, –Α ―²–Ψ –Η 16 ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –û ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α–Φ –Β–¥–≤–Α –Μ–Η ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―²―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―² –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ―É―é –Ψ–¥–Β–Ε–¥―É –Η–Μ–Η –¥―É―à –¥–Μ―è ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö. –ü―É―¹―²―¨ ―Ä–Α–¥―É―é―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Α–Ϋ―è–Μ–Η. –ê –Β―¹–Μ–Η –≤–Ζ–¥―É–Φ–Α―é―² ―Ä–Ψ–Ω―²–Α―²―¨, –Η―Ö –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Η―Ä–Μ–Α–Ϋ–¥―Ü–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―É–¥―É―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ζ–Α –Μ―é–±―΄–Β –≥―Ä–Ψ―à–Η. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ – –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ 1864 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―² –Λ–Α–±―Ä–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Α–Κ―², –¥–Β–Μ–Α–≤―à–Η–Ι ―É–Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Α –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―Ü–Η―é –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η–≥–Ϋ–Ψ―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, –Η –Ϋ–Α ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α –±―΄–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η.
–Θ―΅–Η―²―΄–≤–Α―è ―É–Ε–Α―¹–Α―é―â–Η–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è ―²―Ä―É–¥–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β―É―é―²–Ϋ–Ψ–Β –Ε–Η–Μ―¨–Β –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ–Κ –Ω–Η―â–Η, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η ―²–Α–Κ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄. –®–Α―Ö―²–Β―Ä―΄ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Η –Ψ―² –Α―¹―²–Φ―΄, –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥–Β «―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Β–≤–Κ–Η», ―²―Ä―É–±–Ψ―΅–Η―¹―²―΄ – –Ψ―² ―Ä–Α–Κ–Α, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –±―É–Φ–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö –Η –Μ–Η–Ϋ–Ψ–Μ–Β―É–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö – –Ψ―² –Ψ―²―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–Φ, –Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η –Ϋ–Α ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Κ–Ψ–Ω―Ä―è–¥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö – –Ψ―² ―²―É–±–Β―Ä–Κ―É–Μ–Β–Ζ–Α. –£ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β «–Γ–Β–≤–Β―Ä –Η –°–≥» ―³–Α–±―Ä–Η―΅–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü–Α –ë–Β―¹―¹–Η ―²–Α–Κ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―² ―¹–≤–Ψ―é –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨: «–· –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ ―΅–Β―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ü–Β―Ö–Β, –Ω―É―Ö –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ –Φ–Ψ–Η –Μ–Β–≥–Κ–Η–Β –Η –Ψ―²―Ä–Α–≤–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è… –€–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ϋ–Α ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Κ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Β―¹―΄–≤–Α―é―², –Ψ–Ϋ–Η –Μ–Β―²–Α―é―² –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β, –±―É–¥―²–Ψ –Φ–Β–Μ–Κ–Α―è –±–Β–Μ–Α―è –Ω―΄–Μ―¨. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ψ–Ϋ –Ψ―¹–Β–¥–Α–Β―² –Ϋ–Α –Μ–Β–≥–Κ–Η―Ö –Η ―¹–Ε–Η–Φ–Α–Β―² –Η―Ö. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β, –Κ―²–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –≤ ―΅–Β―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ü–Β―Ö–Β, ―΅–Α―Ö–Ϋ―É―², –Κ–Α―à–Μ―è―é―² –Η –Ω–Μ―é―é―² –Κ―Ä–Ψ–≤―¨―é, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω―É―Ö–Ψ–Φ» [31].
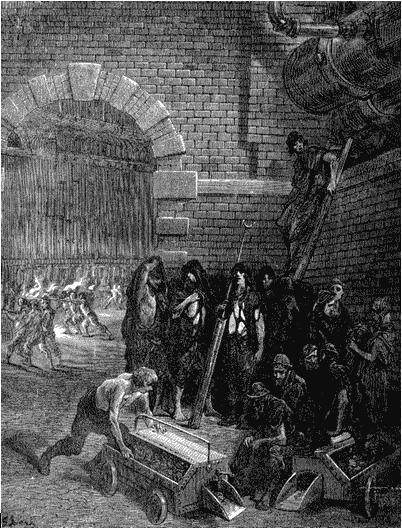
–†–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Ϋ–Α –≥–Α–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –≤ –¦–Α–Φ–±–Β―²–Β, –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –™―é―¹―²–Α–≤–Α –î–Ψ―Ä–Β –Η–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η «–ü–Α–Μ–Ψ–Φ–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ». 1877
–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –≤ 1840‑―Ö –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–Ζ–Η―²―¨ –Α–Μ―¨–Ω–Α–Κ―É, –≤–Β―Ä–±–Μ―é–Ε―¨―é ―à–Β―Ä―¹―²―¨ –Η –Φ–Ψ―Ö–Β―Ä, ―¹―Ä–Β–¥–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–≤―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―ç–Ω–Η–¥–Β–Φ–Η―è ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―è–Ζ–≤―΄, –Η –≤―¹–Ω―΄―à–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ 1890‑―Ö. –£ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β, –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–±, –±–Ψ–Μ―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Μ–Β, ―Ä–≤–Ψ―²―É –Η ―¹–Ψ–Ϋ–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Μ–Β–Ε–Α–Μ –Ω–Μ–Α―¹―²–Ψ–Φ, –Α –Κ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ―É ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ ―É–Φ–Β―Ä–Β―²―¨.
–ï―â–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ―΄―à―¨―è–Κ–Ψ–Φ. –û―² –Φ―΄―à―¨―è–Κ–Α ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ―É–Ε―¨―è –Η–Μ–Η –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Β ―²–Β―²―É―à–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Ϋ–Α ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Φ―΄―à―¨―è–Κ–Ψ–Φ, –¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―΄–Ι ―Ü–≤–Β―², –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ: –Ψ–±–Ψ–Η –Η –Α–±–Α–Ε―É―Ä―΄ –¥–Μ―è –Μ–Α–Φ–Ω, ―à―²–Ψ―Ä―΄ –Η –Ψ–±–Η–≤–Κ―É –¥–Μ―è –Φ–Β–±–Β–Μ–Η, –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Κ–Η –Η –Η–≥―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä―²―΄, ―³–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Η –¥–Μ―è –Μ–Β–¥–Β–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Η ―¹–Α–Φ–Η –Μ–Β–¥–Β–Ϋ―Ü―΄, –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Η –Η–≥―Ä―É―à–Κ–Η, –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ü–≤–Β―²―΄ –Η –≤–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Β–Μ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―² ―¹ –Φ―΄―à―¨―è–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Κ –Κ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è ―Ä–Α–Κ, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε –Ψ –Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―΄–Ω–Η –Η –Ϋ–Α―Ä―΄–≤–Α―Ö –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –≥–Β–Ϋ–Η―²–Α–Μ–Η–Ι.
–ù–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ –Ω―É–≥–Α–Μ –Ϋ–Β–Κ―Ä–Ψ–Ζ ―΅–Β–Μ―é―¹―²–Η – –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β–¥―É–≥ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü ―¹–Ω–Η―΅–Β―΅–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤. –Γ–Ω–Η―΅–Κ–Η –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Α–Κ –≤ ―Ü–Β―Ö–Α―Ö, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Φ―É. –ü–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –ê―Ä–Φ–Η–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è, ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –¥–Α–Ε–Β –≤ 1890‑―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω–Η―΅–Β–Κ. –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Φ–Α―²―¨ –Η –¥–≤–Ψ–Β –Β–Β –¥–Β―²–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –¥–Β–≤―è―²–Η –Μ–Β―², ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ 16 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –Η –Ϋ–Α–±–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ω–Η―΅–Κ–Α–Φ–Η ―²―΄―¹―è―΅―É –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―è –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ 1 ―à–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥ 4 –Ω–Β–Ϋ―¹–Α, –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Φ ―΅―²–Ψ ―³–Ψ―¹―³–Ψ―Ä–Ϋ―É―é –Φ–Α―¹―¹―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ–Η–Φ!
–û ―³–Ψ―¹―³–Ψ―Ä–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι – –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ψ–Ϋ –Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η. –ù–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –Ψ–≥–Ϋ–Η–≤―É –Η ―¹–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Η―΅–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η ―¹–Ω–Η―΅–Κ–Η –Η–Ζ ―³–Ψ―¹―³–Ψ―Ä–Α, –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ 1830 –≥–Ψ–¥―É ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ–Ψ–Φ –®–Α―Ä–Μ–Β–Φ –Γ–Ψ―Ä–Η–Α. –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι ―Ö–Η–Φ–Η–Κ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ –±–Β–Μ―΄–Ι ―³–Ψ―¹―³–Ψ―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Β–Μ, –Ϋ–Ψ –±―΄–Μ –Ψ–Ω–Α―¹–Β–Ϋ –¥–Μ―è –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è. –£ 1850‑―Ö –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω–Η―΅–Κ–Η –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –Α–Φ–Ψ―Ä―³–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Ψ―¹―³–Ψ―Ä–Α, –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ –±–Β–Μ―΄–Ι –±―΄–Μ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β. –‰―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹―²–Α–Μ–Α –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―è. –½–¥–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹–Ω–Η―΅–Κ–Η –Η–Ζ –±–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ, –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Β―à–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―³–Ψ―¹―³–Ψ―Ä–Α, –Α ―¹―Ä–Β–¥–Η –Η―Ö –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α–Μ –Ϋ–Β–Κ―Ä–Ψ–Ζ ―΅–Β–Μ―é―¹―²–Η.

–‰–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω–Η―΅–Β–Κ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Φ―É. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ «–ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α». 1892
–†–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –≤–¥―΄―Ö–Α–Μ–Η ―³–Ψ―¹―³–Ψ―Ä, –Β–Μ–Η, ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ ―³–Ψ―¹―³–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―¹–Ψ–Ι, –Ϋ–Α―¹–Ω–Β―Ö –Φ―΄–Μ–Η ―Ä―É–Κ–Η, –Α –Ω―Ä–Η –Ζ―É–±–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ–Η –Ϋ–Α―²–Η―Ä–Α–Μ–Η –¥–Β―¹–Ϋ―΄ –≤―¹–Β ―²–Ψ–Ι –Ε–Β ―³–Ψ―¹―³–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Η―΅–Κ–Ψ–Ι. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ ―Ü–≤–Β―²–Η―¹―²―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω–Α―Ü–Η–Β–Ϋ―² –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ζ―É–±–Ϋ―É―é –±–Ψ–Μ―¨ –Η –Ϋ–Α―Ä―΄–≤―΄ –Ϋ–Α –¥–Β―¹–Ϋ–Α―Ö. –‰–Ζ –Ϋ–Α―Ä―΄–≤–Ψ–≤ ―¹–Ψ―΅–Η–Μ―¹―è –≥–Ϋ–Ψ–Ι, –≤―΄–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –Ζ―É–±―΄, –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ―¹―²–Η ―΅–Β–Μ―é―¹―²–Η, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β–Κ―Ä–Ψ–Ζ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ω–Α―Ü–Η–Β–Ϋ―² ―É–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –Α –Β―¹–Μ–Η –≤―¹–Β –Ε–Β –Η–Ζ–Μ–Β―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è, –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Β―΅–Α―²―¨ ―É―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Α.
–¦―é–±–Η―²–Β–Μ–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹–Β–Ϋ―¹–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹–Β–Ϋ―²–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―Ü―΄ ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ ―¹–Ω–Η―΅–Β―΅–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η–Φ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α–Φ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―à–≤–Β―è–Φ. –£ –Η―é–Ϋ–Β 1888 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤‑―³–Α–±–Η–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ (–Λ–Α–±–Η–Α–Ϋ―Ü―΄ – –Ω―Ä–Η–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ―Ü―΄ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Ψ‑―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α –≤ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ. – –†–Β–¥.), –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ö–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ë–Μ―ç–Κ, –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Α –≠–Μ–Β–Ψ–Ϋ–Ψ―Ä―΄ –€–Α―Ä–Κ―¹, –Ζ–Α―΅–Η―²–Α–Μ–Α –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Ψ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―²―Ä―É–¥–Β –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Β–Β ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –±―΄–Μ–Α –¥―Ä―É–≥–Α―è ―³–Β–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²–Κ–Α, –≠–Ϋ–Ϋ–Η –ë–Β–Ζ–Α–Ϋ―². –®–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –ë–Β–Ζ–Α–Ϋ―² –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Ω–Η―΅–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ «–ë―Ä–Α–Ι–Α–Ϋ―² –Η –€―ç–Ι», –≥–¥–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è ―²―Ä―É–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥–Ϋ―΄–Φ–Η. –î–Α–Φ–Β –Η–Ζ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü, –Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –≤―²―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –±–Β―¹–Β–¥―É, ―²–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Β–Ι –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ε–Η―²―¨–Β‑–±―΄―²―¨–Β –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ.
–½–Α ―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η 1 ―à–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥ 4 –Ω–Β–Ϋ―¹–Α. –£―¹–Β –±―΄ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –±―΄–Μ–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Β ―à―²―Ä–Α―³―΄. –®―²―Ä–Α―³–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α –≤―¹–Β – –Ζ–Α –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β, –Ζ–Α ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β, –Ζ–Α –Ψ―²–Μ―É―΅–Κ―É –≤ ―²―É–Α–Μ–Β―², –Ζ–Α ―É―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ―É ―¹–Ω–Η―΅–Β–Κ, –Ζ–Α –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ―É―é –Ψ–±―É–≤―¨. –‰–Ζ –Κ―Ä–Ψ―à–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―΄ –≤―΄―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Ψ―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Ω–Β–Ϋ―¹–Ψ–≤ –¥–Ψ ―à–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥–Α, –Α –≤–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –Φ–Β–Ε–¥―É ―Ö―Ä―É–Ω–Κ–Η–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Β–Φ –Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ. –£―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤–Κ–Μ–Α–¥ –≤ –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ – –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―à–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä―É –™–Μ–Α–¥―¹―²–Ψ–Ϋ―É (–≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄ –Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é). –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ü–Β―Ö–Α –Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü –Η ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―²―É–Φ–Α–Κ–Η, ―¹―²–Α–Ϋ–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄ –≤ ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –¥―É―à–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Ζ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η.
–½–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Ε–Β–Μ–Α―²―¨ –Μ―É―΅―à–Β–≥–Ψ, –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―è–¥–Ψ–≤–Η―²―΄–Ι –±–Β–Μ―΄–Ι ―³–Ψ―¹―³–Ψ―Ä. –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―¹―²―¨ ―Ö–Μ–Β–±, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ–Α, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ ―Ü–Β―Ö–Β, –≥–¥–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ –Ψ―¹–Β–¥–Α–Μ–Η ―΅–Α―¹―²–Η―Ü―΄ ―³–Ψ―¹―³–Ψ―Ä–Α. –û–Ω–Α―¹–Α―è―¹―¨ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ζ―É–±–Ϋ―É―é –±–Ψ–Μ―¨ –Η –Ψ–Ω―É―Ö―à–Η–Β –¥–Β―¹–Ϋ―΄. –ù–Ψ―¹–Η–Μ―¨―â–Η―Ü–Α–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Α―¹–Κ–Α―²―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ–Η –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―É–Ε–Β –Κ –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –≥–Ψ–¥–Α–Φ –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ψ–±–Ζ–Α–≤–Β―¹―²–Η―¹―¨ –Ω–Μ–Β―à―¨―é.
23 –Η―é–Ϋ―è 1888 –≥–Ψ–¥–Α –ë–Β–Ζ–Α–Ϋ―² –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β «–¦–Η–Ϋ–Κ» ―¹―²–Α―²―¨―é «–ë–Β–Μ–Ψ–Β ―Ä–Α–±―¹―²–≤–Ψ –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β», –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η–≤ –Ψ –Ϋ–Β–Ι ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β –±–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―³–Α–±―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―²―΄ –Ω–Ψ–¥–Α–¥―É―² –≤ ―¹―É–¥ –Ζ–Α –Κ–Μ–Β–≤–Β―²―É. –ù–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Η ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Α. –™―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Ψ –±―΄ –Β–Ι –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ―É. –ù–Ψ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α, –Ψ–Ω–Α―¹–Α―è―¹―¨ –Ψ–≥–Μ–Α―¹–Κ–Η, –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄ –Η –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Α–Φ–Η, –Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ–Η ―²―Ä―É–¥–Α.
–ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –Ϋ–Α–Ψ―²―Ä–Β–Ζ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –±―É–Φ–Α–≥―É. –ö–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –ë–Β–Ζ–Α–Ϋ―²: «–£―΄ –Ζ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨, ―²–Α–Κ –Η –Φ―΄ –≤–Α―¹ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β–¥–Β–Φ». –ë―É–Ϋ―²–Ψ–≤―â–Η―Ü―΄ –±―΄–Μ–Η ―²―É―² –Ε–Β ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ―΄, –Α –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ–Η ―¹ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ – ―É–Ε ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨‑―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η―¹–Ω―É–≥–Α―é―²―¹―è. –ö–Ψ–Φ―É –Ψ―Ö–Ψ―²–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β? –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –Ψ–Ω―É―¹―²–Β–Μ. 1400 ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α «–ë―Ä–Α–Ι–Α–Ϋ―² –Η –€―ç–Ι» ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ζ–Α–±–Α―¹―²–Ψ–≤–Κ―É. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤―É―é ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Η–Μ–Η –Ε–Β –Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ψ–Ω–Ψ―¹―²―΄–Μ–Β–Μ–Η ―à―²―Ä–Α―³―΄ –Η –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä―΄. –Θ –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η―è –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ.
–½–Α–±–Α―¹―²–Ψ–≤–Κ–Α –¥–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²―Ä–Η –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Β –Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω―Ä–Β―¹―¹–Β. –ë–Α―¹―²―É―é―â–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ –¥―Ä–Α–Φ–Α―²―É―Ä–≥ –î–Ε–Ψ―Ä–¥–Ε –ë–Β―Ä–Ϋ–Α―Ä–¥ –®–Ψ―É –Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―² –Θ–Η–Μ―¨―è–Φ –Γ―²―ç–¥, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤―΄ –Β―â–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ε–Β. –û–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Μ–Ψ―¹―¨: ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―Ü―΄ ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ, ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Α ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ω–Μ–Β–Κ–Α –Ζ–Α–±–Α―¹―²–Ψ–≤–Κ–Η – –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―³―¹–Ψ―é–Ζ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ–Α –≠–Ϋ–Ϋ–Η –ë–Β–Ζ–Α–Ϋ―². –ü–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –≥–Ϋ―É–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é –Μ–Η–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ ―¹–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –±–Α―¹―²―É―é―â–Η―Ö. –Θ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β, –Α ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α ―à―²―Ä–Α―³–Ψ–≤ –Κ–Α–Ϋ―É–Μ–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Β. –Δ–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―Ü–Β―Ö, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Κ–Α–Φ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ –≤ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β ―¹–Η–Μ–Α.
–ê ―΅―²–Ψ –Ε–Β –Ϋ–Β–Κ―Ä–Ψ–Ζ ―΅–Β–Μ―é―¹―²–Η?
–Θ–≤―΄, ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―Ä–Α–¥―É–Ε–Ϋ–Ψ. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―É―¹–Η–Μ–Η―è –≠–Ϋ–Ϋ–Η –ë–Β–Ζ–Α–Ϋ―² –Η ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η «–ê―Ä–Φ–Η―è ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è», «–ë―Ä–Α–Ι–Α–Ϋ―² –Η –€―ç–Ι», –Κ–Α–Κ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –±–Β–Μ―΄–Φ ―³–Ψ―¹―³–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α XX –≤–Β–Κ–Α. –¦–Η―à―¨ –≤ 1910 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―² –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η–Μ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹–Ω–Η―΅–Κ–Η –Η–Ζ –±–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ ―³–Ψ―¹―³–Ψ―Ä–Α –Η ―³–Ψ―¹―³–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β–Κ―Ä–Ψ–Ζ –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Κ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–Ζ–Α–±―΄―²―΄–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―è–Φ –Ϋ–Β–¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ.
–ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α –ö–Ψ―É―²–Η
–‰–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η «–ù–Β–¥–Ψ–±―Ä–Α―è ―¹―²–Α―Ä–Α―è –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―è»
[1] –‰–Ζ –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Β–Κ –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―É–≤–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η ―³–Β―Ä―Ä–Ψ―Ü–Η–Α–Ϋ–Η–¥ –Κ–Α–Μ–Η―è, –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–≤―à–Η–Ι―¹―è –¥–Μ―è –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Η–≥–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ‑―¹–Η–Ϋ–Β–≥–Ψ.
[2] «–Λ–Β―Ä–Φ–Α –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―Ü–Β–≤» (baby farm) – ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η–Β –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–¥–Α, –Κ―É–¥–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Α–Μ―΄―à–Β–Ι –Ζ–Α –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Α―²―É –Η ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η―Ö –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β―²―¨. –ü–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –Ψ ―³–Β―Ä–Φ–Α―Ö –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ –Η ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η ―¹–Κ–Α–Ϋ–¥–Α–Μ–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β―¹―²―¨ –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –ï. –ö–Ψ―É―²–Η –Η –ù. –Ξ–Α―Ä―¹–Α «–Γ―É–Β–≤–Β―Ä–Η―è –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η» (–€.: –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Ω–Ψ–Μ–Η–≥―Ä–Α―³, 2011).
–‰–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Η–±–Μ–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è
–‰―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β
Abbott, Geoffrey. Execution: the guillotine, the pendulum, the thousand cuts, the Spanish donkey, and 66 other ways of putting someone to death. New York: St. Martin’s Press, 2006.
Abbott, Geoffrey. The executioner always chops twice: ghastly blunders on the scaffold. New York: St. Martin’s Press, 2004.
Ackroyd, Peter. London: the biography. London Chatto & Windus, 2000.
Acton, William. Prostitution considered in its moral, social and sanitary aspects, in London and other large cities and garrison towns: with proposals for the control and prevention of its attendant evils. London: John Churchill and Sons, 1870. [39]
Allaby, Michael. Fog, smog, and poisoned rain. New York: Facts On File, 2003. [6]
Anstruther, Ian. The scandal of the Andover Workhouse. London: Bles, 1973.
Begg, Paul. Jack the Ripper: the definitive history. London: Longman, 2003.
Blindage, Anthony. The English poor laws, 1700–1930. New York: Palgrave, 2002.
Bronte Anne. The tenant of Wildfell Hall and Agnes Grey. New York: Norton, 1954.
Bronte Charlotte. Jane Eyre. New York: Random House, 1943.
Broomfield, Andrea. Food and cooking in Victorian England: a history. Westport, Conn.: Praeger Publishers, 2007.
Burford, E. J. Of bridles and burnings: the punishment of women. New York: St. Martin’s Press, 1992. [36]
Burnett, John. Plenty and want: a social history of food in England from 1815 to the present day. London: Routledge, 1989.
Carpenter, William. Hone, William. A political pilot. 26 –Φ–Α―Ä―²–Α, 1831. [37]
Cassell’s Household Guide: being a complete encyclopaedia of domestic and social economy and forming a guide to every department of practical life. London: Cassell, Petter and Galpin, 1869–1871.
Cleland, John. Memoirs of Fanny Hill. New York: New American Library, 1965.
Cocks, H. G. Nameless offences: speaking of male homosexual desire in nineteenth‑century England. London; New York: I. B. Tauris, 2003. [47]
Cohen, William A. Filth: dirt, disgust, and modern life. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005.
Crompton, Frank. Workhouse children. Thrupp, Stroud, Gloucestershire: Sutton, 1997.
Dawes, Frank. Not in front of the servants: a true portrait of English upstairs/downstairs life. New York: Taplinger, 1974.
Fido, Martin. Oscar Wilde. New York: Viking Press, 1973.
Fisher, Trevor. Scandal: the sexual politics of late Victorian Britain. Stroud: A. Sutton, 1995.
Flanders, Judith. Inside the Victorian home: a portrait of domestic life in Victorian England. New York: W. W. Norton, 2004. [12]
Foldy, Michael. The trials of Oscar Wilde: deviance, morality, and late‑Victorian society. New Haven: Yale University Press, 1997. [51]
Gaskell, Elizabeth Cleghom. The life of Charlotte Bronte. Edinburgh: J. Grant, 1924.
Gibson, Ian. The English vice: beating, sex, and shame in Victorian England and after. London: Duckworth, 1978.
Gordon, Michael. The Thames torso murders of Victorian London. Jefferson: McFarland Publishers, 2002.
Grant, James. Sketches in London. London: W. S. Orr & Co., 1838. [3] [27]
Greenwood, James. The seven curses of London. London: S. Rivers, 1870.
Halliday, Stephen. The great filth: disease, death and the Victorian city. Stroud: History Press, 2011.
Hammerton A. J. Cruelty and companionship: conflict in nineteenth‑century married life. London, New York: Routledge, 1992.
Harrison, John. Late Victorian Britain, 1875–1901. London; New York: Routledge, 1991.
Hickman, Katie. Courtesans: money, sex, and fame in the nineteenth century. New York: Morrow, 2003.
Hoff, Joan. Yeates, Marian. The cooper’s wife is missing: the trials of Bridget Cleary, New York: Basic Books, 2000.
Honeycombe, Gordon. The murders of the Black Museum, 1870–1970. London: Hutchinson, 1982.
Hughes, Kristine. The writer’s guide to everyday life in Regency and Victorian England, from 1811–1901. Cincinnati: Writer’s Digest Books, 1998.
Hyde, Montgomery. Oscar Wilde: a biography. New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1975.
Jackson, Lee. A dictionary of Victorian London: an A‑Z of the great metropolis. London; New York: Anthem Press, 2006. [7] [10]
Jackson, Louise. Child sexual abuse in Victorian England. London: Routledge, 1999.
Kaplan, Morris. Sodom on the Thames: sex, love, and scandal in Wilde times. Ithaca: Cornell University Press, 2005.
Kenyon, Karen Smith. The Bronte family: passionate literary geniuses. Minneapolis: Lemer Publications Co., 2003.
Koven, Seth. Slumming: sexual and social politics in Victorian London. Princeton: Princeton University Press, 2004.
Krafft‑Ebing, R. von. Psychopatia sexualis, with especial reference to the antipathic sexual instinct; a medico‑forensic study. London: Staples Press, 1965.
LeFanu, Joseph Sheridan. Best ghost stories of J. S. LeFanu. New York: Dover Publications, 1964.
Lutz, Debora. Pleasure bound: Victorian sex rebels and the New Eroticism. New York: W. W. Norton & Company, 2011. [43]
May, Trevor. The Victorian domestic servant. Princes Risborough: Shire, 1998.
Mayhew, Henry. London labour and the London poor. London: Griffin, Bohn, and Company, 1861–62. [19] [21] [24] [26] [28] [34]
Mayhew, Henry. The criminal prisons of London and scenes of prison life. London: Griffin, Bohn, 1862. [38]
Mason, Michael. The making of Victorian sexuality. Oxford; New York: Oxford University Press, 1994.
McClintock, Anne. Imperial leather: race, gender and sexuality in the colonial contest. New York: Routledge, 1995. [18] [45] [46]
McKenzie, Andrea. Tyburn’s martyrs: execution in England, 1675–1775. London: Hambledon Continuum, 2007.
Mitchell, Sally. Daily life in Victorian England. Westport: Greenwood Press, 1996.
Perkin, Joan. Victorian women. London: J. Murray, 1993.
Picard, Liza. Victorian London: the life of a city, 1840–1870. New York: St. Martin’s Press, 2006.
Punch: the London charivari. London: Punch Publ., 1841–1901. [15]
Raw, Louise. Striking a light: the Bryant and May Matchwomen and their place in history. London; New York: Continuum, 2011.
Robb, Graham. Strangers: homosexual love in the nineteenth century. New York: W. W. Norton, 2004.
Rosner, Liza. The anatomy murders. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010.
Rowe, Richard. Life in the London streets: or, struggles for daily bread. London: J. C. Nimmo and Bain, 1881.
Sacher‑Masoch, Leopold. Venus in furs. New York: Penguin Books, 2000.
Schneer, Jonathan. The Thames. New Haven: Yale University Press, 2005. [9]
Seaman, L. C. Life in Victorian London. London: Batsford, 1973.
Simpson, Colin. The Cleveland street affair. Boston: Little, Brown, 1976. [48] [49] [50]
Smith, Albert. Sketches of London life and character. London: Dean and sons, 1859.
Smith, Charles Manley. A treatise on the law of master and servant: including therein masters and workmen in every description of trade and occupation: with an appendix of statutes. London: S. Sweet, 1852. [16]
Speaight, George. Punch and Judy. Boston: Plays, Inc., 1970.
Spencer, Colin. British food: an extraordinary thousand years of history. New York: Columbia University Press, 2003. [11]
Stead, William. The Maiden Tribute of Modem Babylon: the report of the Secret Commission. Lambertville: The True Bill Press, 2007. [41] [42]
Stewart, John. Stable economy: a treatise on the management of horses in relation to stabling, grooming, feeding, watering and working. London: Blackwood, 1860.
Tannahill, Reay. Sex in history. New York: Stein and Day, 1980.
The servants’ guide and family manual. London: J. Limbard, 1831. [17]
Thomas, Donald. The Victorian underworld. New York: New York University Press, 1998.
Thomson, J. Smith, A. Street life in London. London: Sampson Low, Marston, Searle and Rivigton, 1877.
Treble, James. Urban poverty in Britain, 1830–1914. New York: St. Martin’s Press, 1979.
Walkowitz, Judith. City of dreadful delight: narratives of sexual danger in late‑Victorian London. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
Walkowitz, Judith. Prostitution and Victorian society: women, class, and the state. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1980.
White, Jerry. London in the nineteenth century. London: Jonathan Cape, 2007.
Wise, Sarah. The blackest streets: the life and death of a Victorian slum. London: Bodley Head, 2008.
Wohl, Anthony. Endangered lives. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983.
–‰―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β
–ë–Μ–Β–Ι–Κ –Θ. –‰–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β / –ü–Β―Ä. –Γ. –€–Α―Ä―à–Α–Κ–Α. – –€.: –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α, 1969. [40]
–™–Α―¹–Κ–Β–Μ –≠. –Γ–Β–≤–Β―Ä –Η –°–≥ / –ü–Β―Ä. –£. –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Ψ–Ι –Η –ï. –ü–Β―Ä–≤―É―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι. – –Γ–ü–±.: –ê–Ζ–±―É–Κ–Α, 2011. [30] [31]
–î–Β―³–Ψ –î. –†–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Η –≥–Ψ―Ä–Β―¹―²–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι –€–Ψ–Μ–Μ―¨ –Λ–Μ–Β–Ϋ–¥–Β―Ä―¹ / –ü–Β―Ä. –ê. –Λ―Ä–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι. – –€.: –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α, 1991. [33]
–î–Η–Κ–Κ–Β–Ϋ―¹ –ß. –ù–Α―à –Ψ–±―â–Η–Ι –¥―Ä―É–≥. –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η ―²–Ψ–Φ–Α―Ö. –Δ. XXIV / –ü–Β―Ä. –£. –Δ–Ψ–Ω–Β―Ä. – –€.: –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α, 1962. [20]
–î–Η–Κ–Κ–Β–Ϋ―¹ –ß. –û―΅–Β―Ä–Κ–Η –ë–Ψ–Ζ–Α. –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η ―²–Ψ–Φ–Α―Ö. –Δ. I / –ü–Β―Ä. –€. –¦–Ψ―Ä–Η–Β –Η –£. –Δ–Ψ–Ω–Β―Ä. – –€.: –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α, 1957. [1]
–î–Η–Κ–Κ–Β–Ϋ―¹ –ß. –ü–Ψ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ–Η –ü–Η–Κ–≤–Η–Κ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α / –ü–Β―Ä. –ê. –£. –ö―Ä–Η–≤―Ü–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –¦–Α–Ϋ–Ϋ–Α. – –€.: –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α, 1984. [13]
–î–Η–Κ–Κ–Β–Ϋ―¹ –ß. –ü―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –û–Μ–Η–≤–Β―Ä–Α –Δ–≤–Η―¹―²–Α / –ü–Β―Ä. –ê. –ö―Ä–Η–≤―Ü–Ψ–≤–Ψ–Ι. – –€.: –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α, 1976. [2] [4] [29] [32]
–î–Η–Κ–Κ–Β–Ϋ―¹ –ß. –Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Φ. –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η ―²–Ψ–Φ–Α―Ö. –Δ. XVII / –ü–Β―Ä. –€. –ö–Μ―è–≥–Η–Ϋ–Ψ–Ι‑–ö–Ψ–Ϋ–¥―Ä–Α―²―¨–Β–≤–Ψ–Ι. – –€.: –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α, 1960. [5] [22] [23]
–ö―Ä–Η―¹―²–Η –ê. –ê–≤―²–Ψ–±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è / –ü–Β―Ä. –£. –ß–Β–Φ–±–Β―Ä–¥–Ε–Η –Η –‰. –î–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Ι. – –€.: –≠–Κ―¹–Φ–Ψ, 2007. [8]
–¦―ç–Φ –ß. –û―΅–Β―Ä–Κ–Η –≠–Μ–Η–Η / –ü–Β―Ä. –ê. –Γ. –ë–Ψ–±–Ψ–≤–Η―΅–Α –Η –ù. –·. –î―¨―è–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι. – –€.: –ù–Α―É–Κ–Α, 1979. [14]
–Δ–≤–Β–Ϋ –€. –ü―Ä–Η–Ϋ―Ü –Η –Ϋ–Η―â–Η–Ι. –·–Ϋ–Κ–Η –Η–Ζ –ö–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Κ―²–Η–Κ―É―²–Α –Ω―Ä–Η –¥–≤–Ψ―Ä–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ―è –ê―Ä―²―É―Ä–Α / –ü–Β―Ä. –ö. –ß―É–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –ù. –ß―É–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. – –€.: –≠–Κ―¹–Φ–Ψ, 2009. [25]
–Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–Ι –¦. –ê–Ϋ–Ϋ–Α –ö–Α―Ä–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α. – –€.: ACT, 2008. [44]
–Θ–Α–Ι–Μ―¨–¥ –û. «–ë–Α–Μ–Μ–Α–¥–Α –†―ç–¥–Η–Ϋ–≥―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―é―Ä―¨–Φ―΄». –‰–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –¥–≤―É―Ö ―²–Ψ–Φ–Α―Ö. –Δ–Ψ–Φ –‰. – –€.: –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α, 1993. [53]
–Θ–Α–Ι–Μ―¨–¥ –û. –ü–Ψ―Ä―²―Ä–Β―² –î–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ–Α –™―Ä–Β―è. –Γ–Κ–Α–Ζ–Κ–Η. – –€.: ACT, 2008. –Θ–Α–Ι–Μ―¨–¥ –û. –ü–Η―¹―¨–Φ–Α / –ü–Β―Ä. –¦. –€–Ψ―²―΄–Μ–Β–≤. – –€.: –ê–Ζ–±―É–Κ–Α‑–ö–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Α, 2010. [52]
–Λ―É–Κ–Ψ –€. –ù–Α–¥–Ζ–Η―Ä–Α―²―¨ –Η –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨: ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―²―é―Ä―¨–Φ―΄ / –ü–Β―Ä. –£. –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤. – –€.: Ad Marginem, 1999. [35]
–ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≤ –Γ. –ë–Β–Ι–Κ–Β―Ä‑―¹―²―Ä–Η―² –Η –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. – –€.: –Λ–Ψ―Ä―É–Φ, 2007.
–‰―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Ι
Andrews, William. Bygone punishments. London: W. Andrews & ―¹–Ψ., 1899.
Brooks, Shirley. The Gordian knot: a story of good and of evil. With illustrations by John Tenniel. London: R. Bentley, 1860.
Cassell’s Household Guide: being a complete encyclopaedia of domestic and social economy and forming a guide to every department of practical life. London: Cassell, Petter and Galpin, 1869–1871.
Dore, Gustave. London, a pilgrimage. London: Grant & Co., 1872.
Mayhew, Henry. London labour and the London poor. London: Griffin, Bohn, and Company, 1861–62.
Mayhew, Henry. The criminal prisons of London and scenes of prison life. London: Griffin, Bohn, 1862.
Punch: the London charivari. London: Punch Publ., 1841–1901.
Sikes, Wirt. British goblins. Boston: J. R. Osgood and company, 1881.
Stuart J. A. The Bronte country. London: Longmans, Green, 1888.
The cyclopedia of wit and humour. New York, London: D. Appleton and company, 1864.
The English illustrated magazine. London; New York: Macmillan & Co., 1881–1892.
The illustrated London news. London: William Little, 1888.
The illustrated police news. London: George Purkess, 1870, 1895.
World noted women celebrated in history, poetry, and romance for beauty, character, and heroism. New York: D. Appleton, 1881.