–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤—Б–µ —В–µ–≥–Є
–Ь–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П
–Ъ–∞–Ї —Г–ґ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л—И–µ, –Љ–Є—Д –Њ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–Љ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–µ –±—Л–ї –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –њ—А–Є—Б—Г—Й–Є–Љ–Є –µ–Љ—Г —З–µ—А—В–∞–Љ–Є, –Ї —З–Є—Б–ї—Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Є –љ–µ–Њ–±—Г–Ј–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ь—Л –≤–Є–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ –≤ —А—П–і–µ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є—Д–Њ–≤ –Ю—А–Є–Њ–љ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В—М –≤—Б–µ—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, —З—В–Њ —П–≤–љ–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П —Б–µ–±—П –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Є—Й–µ–є –Є –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≥–љ–µ–≤ –±–Њ–≥–Њ–≤. –С—М—О—Й–∞—П —З–µ—А–µ–Ј –Ї—А–∞–є –≥–Є–њ–µ—А—Б–µ–Ї—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –ї–µ–≥–Ї–Њ –Њ–±–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–µ–Ї—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –Є –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В —Б–≤–Њ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –≤ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е, –Є –≤ –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є—Д–∞—Е. –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ —Б–µ–Ї—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є –њ–Є—Й–µ–≤–Њ–µ –љ–∞—Б–Є–ї–Є–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –љ–µ –≤—Л–Ј–≤–∞—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –Х—Б–ї–Є –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ–Њ–µ –Є –њ–Њ–і—З–∞—Б –±–µ—Б—Ж–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –љ–∞—А—Г—И–∞–ї–Њ —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є–µ –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М —Б —В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —В–Њ —Б–µ–Ї—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–Є–ї–Є–µ –≤ –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–∞–≤—И–µ–Љ—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±—Л—Б—В—А–µ–µ. –Ь—Б—В–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ј–∞ –љ–µ–≥–Њ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–≥–Є–љ–Є-–ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –Є —Б–ї–µ–і—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Љ–Є—Д–∞—Е. –°–∞–Љ—Л–є –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Љ–Є—Д –Њ –≥–Є–±–µ–ї–Є –Ю—А–Є–Њ–љ–∞ –њ–Њ –≤–Є–љ–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ —Г–ґ–µ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є –Ј–∞—А–µ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ —Г —И—Г–Љ–µ—А–Њ–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Љ–Є—Д —Н—В–Њ—В –µ—Й–µ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –≤–Є–љ–µ –Ю—А–Є–Њ–љ–∞ — –≤ –љ–µ–Љ –Њ–љ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–≤–Є–љ–љ–Њ–є –ґ–µ—А—В–≤–Њ–є –Ї–Њ–≤–∞—А–љ–Њ–є –Ш–љ–∞–љ–љ—Л-–Т–µ–љ–µ—А—Л. –Я–Њ –≤–Є–љ–µ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є –і–µ–≤—Л –≥–Є–±–љ–µ—В –Є –њ–Њ–ї–Є–љ–µ–Ј–Є–є—Б–Ї–Є–є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї –Ґ–∞–Њ—В–Њ—А—Г.
–С–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ–Њ –Є –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В —Б—О–ґ–µ—В –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є—Д–∞—Е. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–і–Њ—А —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В: «–Р—А—В–µ–Љ–Є–і–∞ –ґ–µ —Г–±–Є–ї–∞ –Ю—А–Є–Њ–љ–∞ –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –Ф–µ–ї–Њ—Б–µ. (...) –Ю—А–Є–Њ–љ –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ... –±—Л–ї –Ј–∞—Б—В—А–µ–ї–µ–љ –Р—А—В–µ–Љ–Є–і–Њ–є –Є–Ј –ї—Г–Ї–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М –љ–∞—Б–Є–ї–Є–µ –љ–∞–і –Ю–њ–Є–і–Њ–є, –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –і–µ–≤, –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є—Е –Њ—В –≥–Є–њ–µ—А–±–Њ—А–µ–є—Ж–µ–≤»163. –Т –і—А—Г–≥–Њ–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ –Љ–Є—Д–∞ –Ю—А–Є–Њ–љ –њ–Њ–Ї—Г—И–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —З–µ—Б—В—М —Г–ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–Є:
–°—В–Њ–Є—В –љ–∞—З–∞—В—М –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В—М –°–Ї–Њ—А–њ–Є–Њ–љ—Г — —Г–ґ–µ –љ–Є–Ј–≤–µ—А–≥–∞–µ—В –С–µ–Ј –њ—А–Њ–Љ–µ–і–ї–µ–љ—М—П –†–µ–Ї–∞ –≤ –Ю–Ї–µ–∞–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–Њ–і–љ—Л–є –Є–Ј–≥–Є–±—Л,
–Ш –≤–µ–ї–Є–Ї–∞–љ –Ю—А–Є–Њ–љ —Б–њ–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –±–µ–≥—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Л–і–љ—Л–Љ.
–Я—А–µ–і–Ї–Њ–≤ –њ—А–µ–і–∞–љ—М–µ –≥–ї–∞—Б–Є—В — –і–∞ –њ–Њ–Љ–Є–ї—Г–µ—В –љ–∞—Б –Р—А—В–µ–Љ–Є–і–∞! — –І—В–Њ –Ю—А–Є–Њ–љ –њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ—Г—В—М—Б—П –њ–Њ—Б–Љ–µ–ї –Ї –µ–µ –Њ–і–µ—П–љ—М—О,
–•–Є–Њ—Б–∞ –і–Є—З—М –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Б—В—А–µ–±–ї—П–ї –±—Г–ї–∞–≤–Њ—О —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є,
–≠–љ–Њ–њ–Є–Њ–љ—Г —Б—В—А–µ–Љ—П—Б—М —Г–≥–Њ–і–Є—В—М –±–µ—Б–њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ–є –Њ—Е–Њ—В–Њ–є.
–Э–Њ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–Њ–ї–∞ —В–Њ—В—З–∞—Б –±–Њ–≥–Є–љ—П —Е–Є–Њ—Б—Б–Ї–Є–µ —Е–Њ–ї–Љ—Л,
–Я—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і—П –Є–Ј –Ч–µ–Љ–ї–Є –љ–µ–≤–Є–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Ї–Њ—А–њ–Є–Њ–љ–∞:
–Ю–љ—Л–є, –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ—Г –Ю—А–Є–Њ–љ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–Є–ї –Р—А—В–µ–Љ–Є–і—Г,
–Ц–∞–ї–Њ–Љ —Г–і–∞—А–Є–≤, —В–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ –±—Л–ї –љ–µ–Њ—Б–Є–ї–Є–Љ, –Њ—Б–Є–ї–Є–ї.
–Т–Њ—В –њ–Њ—З–µ–Љ—Г, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–∞ –Ч–≤–µ—А—П —Б–µ–≥–Њ –Ю—А–Є–Њ–љ –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Ч–µ–Љ–ї–Є —Г–±–µ–≥–∞–µ—В164.
–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –µ—Б—В—М –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –Љ–Є—Д–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ю—А–Є–Њ–љ–∞ –Ї–∞—А–∞–µ—В –±–Њ–≥–Є–љ—П –Ч–µ–Љ–ї–Є –Ј–∞ –µ–≥–Њ –љ–µ—З–µ—Б—В–Є–≤–Њ–µ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В—М –≤—Б–µ –ґ–Є–≤–Њ–µ –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є –њ–ї–∞–љ–µ—В–µ: «...–Ю—А–Є–Њ–љ, –±—Г–і—Г—З–Є —Б—В—А–∞—Б—В–љ—Л–Љ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —Б—З–µ–ї –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–љ—П—В–Є–Є —Б–µ–±—П –Є—Б–Ї—Г—Б–љ–µ–є—И–Є–Љ –ї–Њ–≤—З–Є–Љ –Є —Б—В–∞–ї –њ–Њ—Е–≤–∞–ї—П—В—М—Б—П –њ–µ—А–µ–і –Ф–Є–∞–љ–Њ–є –Є –Ы–∞—В–Њ–љ–Њ–є, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В—М –≤—Б–µ –ґ–Є–≤–Њ–µ, —З—В–Њ —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —А–∞—Б—Б–µ—А–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Ґ–µ–ї–ї—Г—Б (“–Љ–∞—В—М-–Ј–µ–Љ–ї—П” –≤ —А–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. — Af.C.) –љ–∞—Б–ї–∞–ї–∞ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ —Б–Ї–Њ—А–њ–Є–Њ–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —Г–±–Є–ї –µ–≥–Њ»165. –Ф–Є–∞–љ–∞ –ґ–µ, –Є–Ј-–Ј–∞ –ї—О–±–≤–Є –Ї –Ю—А–Є–Њ–љ—Г, –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Ѓ–њ–Є—В–µ—А–∞ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞ –љ–µ–±–Њ. –Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ —Г–±–Є–є—Ж–µ–є –Ю—А–Є–Њ–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Р—А—В–µ–Љ–Є–і–∞, —Б—В–∞–≤—И–∞—П —Б–∞–Љ–∞ –±–Њ–≥–Є–љ–µ–є-–Њ—Е–Њ—В–љ–Є—Ж–µ–є. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –Ї–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ, –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г –Њ—Е–Њ—В–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ–Љ, –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ–Љ –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ю—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –Р—А—В–µ–Љ–Є–і–∞ —Г–Ј—Г—А–њ–Є—А—Г–µ—В –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Г—О —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О, —Б–∞–Љ–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—Б—М –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—Ж–µ–є. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Є—Ж–µ–є –≥–Є–±–µ–ї–Є –Ю—А–Є–Њ–љ–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –±–Њ–≥–Є–љ—П –Ч–µ–Љ–ї–Є, —Е—А–∞–љ—П—Й–∞—П —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є–µ —Б—А–µ–і–Є –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞–µ–Љ—Л—Е –µ—О —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤. –Ъ–∞–Ї –Љ—Л —Г–≤–Є–і–Є–Љ –і–∞–ї–µ–µ, –Њ–±–µ–Є–Љ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –±–Њ–≥–Є–љ—П–Љ –Є–Љ–µ—О—В—Б—П —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є—П –Є–Ј –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–µ—Б—П –Ї –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–µ–Љ—Г, –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є, –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞.
–Ъ–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є –≥–ї–∞–≤–µ, –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Љ–Њ—В–Є–≤ –≥–Є–±–µ–ї–Є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –Њ—В —А—Г–Ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –Њ —З–µ–Љ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Є —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–∞—П —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –≤ XIX—XX –≤–≤., –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л —В–∞–Љ —Г–ґ–µ –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –±–Њ–≥–Є–љ—П–Љ–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–Є—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ—П–µ—В –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —Б—Е–µ–Љ—Г —Б—О–ґ–µ—В–∞. –Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–ї–µ–і –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ «–Ш—Б—В–Є–љ–љ–∞—П –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М –Њ–± –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –љ–∞ –Ы—Л—Б–Њ–є –≥–Њ—А–µ». –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –µ–є, —Н—В–∞ –≥–Њ—А–∞ –≤ –Я–Њ–ї—М—И–µ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ –≤ —З–µ—Б—В—М –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –Ы—Л—Б–µ—Ж, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –ґ–Є–ї–∞ –≥–Њ—Б–њ–Њ–ґ–∞, –њ–Њ–±–µ–і–Є–≤—И–∞—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ь–∞–Ї–µ–і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л –Њ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–≥–Њ—А–і–Є–ї–∞—Б—М –Є –≤–µ–ї–µ–ї–∞ –њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї –±–Њ–≥–Є–љ—О –Ф–Є–∞–љ—Г, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –≥—А–Њ–Љ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї –Є –µ–µ, –Є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, «–Я–Њ–≤–µ—Б—В—М» –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ–є –≥–Њ—А–µ —Б—В–Њ—П–ї–Є —В—А–Є –Є–і–Њ–ї–∞ — –Ы–∞–і–∞, –С–Њ–і–∞ –Є –Ы–µ–ї—П, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–∞—А–Њ–і –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї 1 –Љ–∞—П166. –° —Г—З–µ—В–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Ы—Л—Б—Л–µ –≥–Њ—А—Л –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є—Б—М –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ —Б–±–Њ—А–∞ –≤–µ–і—М–Љ, —В–Њ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —Н—В–∞ –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М –Є–Љ–µ–µ—В –њ–Њ–і —Б–Њ–±–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –≤ –≤–Є–і–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–є –Њ –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–µ–і—М–Љ–µ –Є–ї–Є –±–Њ–≥–Є–љ–µ. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞–µ—В —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–µ–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞, –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ –Ь–∞–Ї–µ–і–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ (–≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–≥–Њ–≤ –Ї–∞–Ї —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –Њ–±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є), –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г–µ—В –љ–∞ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б—В–∞—В—Г—Б, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≥–Є–±–љ–µ—В –Њ—В —Г–і–∞—А–∞ –≥—А–Њ–Љ–∞. –Ґ–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –µ–µ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–±–µ–і–∞ –љ–∞–і «–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ –Ь–∞–Ї–µ–і–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ» —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤—Л—И–µ –љ–Є–Ј–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—О –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ю—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –Є –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ –Њ–љ–∞ —В—А–µ–±—Г–µ—В –њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї –±–Њ–≥–Є–љ—О, –∞ –≥–Є–±–µ–ї—М –Њ—В –≥—А–Њ–Љ–∞ — –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤–µ—А—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –≤ –њ–∞–љ—В–µ–Њ–љ–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –Ї –±–Њ–≥—Г-–≥—А–Њ–Љ–Њ–≤–µ—А–ґ—Ж—Г. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б—О–ґ–µ—В –≥–Є–±–µ–ї–Є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В —А—Г–Ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б—З–Є—В–∞—В—М –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –∞—А—Е–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ, –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–Љ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ—Г —Б –≥–Є–њ–µ—А—В—А–Њ—Д–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —Б–µ–Ї—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Љ–µ—Б—В–∞.
–£ –і—А—Г–≥–Є—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–∞—П –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –љ–∞—И–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —Г–Ј—Г—А–њ–∞—Ж–Є–Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –∞—В—А–Є–±—Г—В–Њ–≤, —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є –Є–ї–Є –Є–Љ–µ–љ, –њ–Њ–і –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –±—Л–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –Э–µ–±–µ—Б–љ—Л–є –Ю—Е–Њ—В–љ–Є–Ї —Г —В–µ—Е –Є–ї–Є –Є–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Я–Њ—П—Б –Ю—А–Є–Њ–љ–∞ —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Т–µ—А–µ—В–µ–љ–Њ–Љ –§—А–Є–≥–≥–Є167, –±—Л–≤—И–µ–є –ґ–µ–љ–Њ–є –Ю–і–Є–љ–∞. –Ю –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–µ —З–∞—Б—В–Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є —Б –Ю—А–Є–Њ–љ–∞ –љ–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Є —В–Њ, —З—В–Њ —Г –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Ж–µ–≤ –Ф–Є–Ї–∞—П –Ю—Е–Њ—В–∞ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Т–Њ—В–∞–љ–Њ–Љ, –љ–Њ –Є –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–Њ–є –•–Њ–ї—М–і–Њ–є168. –Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Л —Г–Ј—Г—А–њ–∞—Ж–Є–Є –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –Є –≤ –°–µ—А–±–Є–Є, –≥–і–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є –Ю—А–Є–Њ–љ–∞ –±—Л–ї–Њ –њ–≥–≥–∞–њ–Є, —И—В–∞–њ—Ж–Є, —И—В–∞–њ–Њ–≤–Є, –±–∞–±–Є–љ–Є —И—В–∞–њ–Њ–≤–Є, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Њ—В —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ–≥–≥–∞–њ — «—В—А–Њ—Б—В—М, –њ–∞–ї–Ї–∞» –Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –ї–µ–≥–µ–љ–і–Њ–є –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Т–ї–∞—И–Є—З–Є (—Б–Њ–Ј–≤–µ–Ј–і–Є–µ –Я–ї–µ—П–і) —Г–Ї—А–∞–ї–Є —Г —Б—В–∞—А—Г—Е–Є –і–Њ—З—М, –∞ —В–∞ –≤—Б–ї–µ–і –њ–Њ—Е–Є—В–Є—В–µ–ї—П–Љ –±—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –њ–∞–ї–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –≤–Є–і–љ–∞ –љ–∞ –љ–µ–±–µ. –Ю –±—Л–ї–Њ–є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–≤–µ–Ј–і–Є—П –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ—Г –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –і–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Є –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤. –Я–Њ–ї—П–Ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Ю—А–Є–Њ–љ –Я–∞–ї–Є—Ж–µ–є –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Ш–∞–Ї–Њ–≤–∞, –∞ —Г —Б–ї–Њ–≤–µ–љ—Ж–µ–≤ –Њ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Ї–∞–Ї palica sv. Jakova –Є–ї–Є palica sv. Petra169. –Ю –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–≤–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ—Г —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Є —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –≤ —А—П–і–µ –Љ–µ—Б—В –љ–∞ –†—Г—Б–Є –і–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ј–≤–µ–Ј–і–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –°—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Ґ—А–Њ—Б—В–Њ—З–Ї–∞ (–Ї–∞–Љ—З., –Њ—А–µ–љ–±., —З–µ–ї—П–±.)170. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—П –і–∞–µ—В –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ –њ—А–Є–Љ–µ—А –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–µ–є –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –Э–∞ –Ф–Њ–љ—Г –Є –≤ –Ґ—Г–ї–µ —Б–Њ–Ј–≤–µ–Ј–і–Є–µ –Ю—А–Є–Њ–љ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ф–µ–≤–Є—З—М–Є –Ч–Њ—А–Є. –Р.–Э. –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П: «–£ –љ–∞—Б –ґ–µ –µ—Б—В—М –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ –Њ —В—А–µ—Е –≤–µ—Й–Є—Е —Б–µ—Б—В—А–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ, –њ–Њ—Б–ї–µ –Є—Е –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л, –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –≤–µ—Б—М –≤–µ–Ї –≥–Њ—А–µ—В—М —В—А–µ–Љ—П –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ–Є –≤–Њ–Ј–ї–µ –Ь–ї–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –Я—Г—В–Є — –љ–∞ –і–Њ—А–Њ–≥–µ, –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –≤ –¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ; –Ј–≤–µ–Ј–і—Л —Н—В–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Ф–µ–≤–Є—З—М–Є –Ч–Њ—А–Є»171. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ —Б–ї–µ–і—Л —Г–Ј—Г—А–њ–∞—Ж–Є–Є –≤–Є–і–љ—Л –Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є —Г –њ–Њ–ї—П–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–≥ –Ц–Є–≤–µ, —В–Њ —Г –Є—Е –±–Њ–ї–µ–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞—В—М–µ–≤ —Г–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ «–Ц–Є–≤–∞, –±–Њ–≥–Є–љ—П –њ–Њ–ї–∞–±–Њ–≤»172. –•–Њ—В—М —Н—В–Њ –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ –≤–∞—А–Є–∞—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–ї–∞, –њ–Њ–і—З–∞—Б –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—Й–µ–є—Б—П –≤ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є, –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є –њ—А–Є–Љ–µ—А –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–±–µ–і–Є–≤—И–Є–Љ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—В–∞, –љ–Њ –Є –Є–Љ–µ–љ–Є —Г–±–Є—В–Њ–≥–Њ –Є–Љ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞.
–Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Г–Ј—Г—А–њ–∞—Ж–Є–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ю—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П. –£–ґ–µ –≤ –І–∞—В–∞–ї-–•—О—О–Ї–µ, –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–µ–Љ –Є–Ј –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М –≥–Њ—А–Њ–і–µ –≤ –°—В–∞—А–Њ–Љ –°–≤–µ—В–µ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–Љ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і 6500—5700 –≥–≥. –і–Њ –љ.—Н., –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л–є –Ї—Г–ї—М—В –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–Є-–Ь–∞—В–µ—А–Є, –≤–Ї–ї—О—З–∞–≤—И–Є–є –≤ —Б–µ–±—П –Є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є: «–Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –±–Њ–≥–Є–љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і–Є–Ї–Є–Љ–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ–Є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –µ–µ –і—А–µ–≤–љ—О—О —А–Њ–ї—М —Б–Њ–Ј–Є–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–≥—А –≤ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–Є—Е —Б–Њ—Ж–Є—Г–Љ–∞—Е –Є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤»173. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –С–Њ–≥–Є–љ—П-–Ь–∞—В—М –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї–∞—Б—М —В–∞–Љ –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –ї–µ–Њ–њ–∞—А–і–Њ–≤. –Т –і—А—Г–≥–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —А–µ–ї—М–µ—Д—Л –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г—О—В –љ–∞–Љ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –µ—О –±–∞—А–∞–љ–∞ –Є–ї–Є –±—Л–Ї–∞, —П–≤–ї—П—П—Б—М, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ—А–µ–і—В–µ—З–µ–є –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Д–∞ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Ь–Є–љ–Њ—В–∞–≤—А–∞. –Ъ–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤, —В–∞–Ї–ґ–µ –С–Њ–≥–Є–љ—П-–Ь–∞—В—М –±—Л–ї–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ –≤ –І–∞—В–∞–ї-–•—О—О–Ї–µ —Б –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–Љ–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ–Є, –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є–µ–Љ (–µ–µ —Б—В–∞—В—Г—Н—В–Ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –≤ –Ј–µ—А–љ–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–∞—Е), —В–Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М—О. «–†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–µ —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–∞ —Б –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є, –љ–Њ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–є —А–∞–љ–љ–µ–є —Б—В–∞–і–Є–Є –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є, —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –±–Њ–≥–Є–љ—П-–њ—А–∞—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞, –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–≤–∞—О—Й–∞—П —Б—В–Є—Е–Є–є–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ–Є, —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —Г–љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–∞—П —Б–≤–Њ–Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В –њ–∞–ї–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е “–Т–µ–љ–µ—А”, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–∞–Ї–ґ–µ —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Є –≤–Є—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —Н–љ–µ—А–≥–Є–є –Є –Љ—А–∞—З–љ–Њ–≤–∞—В—Л–Љ –љ–∞–Љ–µ–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –њ–Њ—В—Г—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–µ —Б–Є–ї—Л»174. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –С–Њ–≥–Є–љ—П-–Ь–∞—В—М —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–љ—М—И–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–µ–і–Ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–є –І–∞—В–∞–ї-–•—О—О–Ї–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Њ—Е–Њ—В–Њ–є –Є –≤–µ–ї–Є –њ–Њ–ї—Г–Ї–Њ—З–µ–≤–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П? –Ь–Є—Д –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П—О—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–≤–µ–Ј–і–Є–µ –Ю—А–Є–Њ–љ –Ф—Г–Љ—Г–Ј–Є –њ–Њ –≤–Є–љ–µ –µ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є –Ш–љ–∞–љ–љ—Л –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ —Г–ґ–µ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є—Е –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–є –Љ–Є—А–∞, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —И—Г–Љ–µ—А—Б–Ї–Њ–є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Є–Љ–µ—А —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –І–∞—В–∞–ї-–•—О—О–Ї–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В, —З—В–Њ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —А–∞–љ–љ–µ–Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ —Г–ґ–µ –≤ VII —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є–Є –і–Њ –љ.—Н. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є —Н—В–Њ –µ—Й–µ –љ–µ –Ї—А–∞–є–љ–Є–є —Б—А–Њ–Ї. –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –≥–ї–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —А–∞–љ—М—И–µ, –µ—Й–µ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –њ–∞–ї–µ–Њ–ї–Є—В–∞. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –љ–∞–≥–ї—П–і–љ—Л—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–є —Н—В–Њ–≥–Њ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Є —Б—В–∞—В—Г—Н—В–Њ–Ї –С–Њ–≥–Є–љ–Є-–Ь–∞–≥–µ—А–Є, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –Т–µ–љ–µ—А –њ–∞–ї–µ–Њ–ї–Є—В–∞, –≤ –њ–µ—Й–µ—А–љ–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ –њ—А–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤. –Ъ–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є, —Н—В–Є –Т–µ–љ–µ—А—Л –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –љ–∞ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞—Е –Њ—В –Ф–Њ–љ–∞ –і–Њ –†–µ–є–љ–∞, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—П—Б—М –≤ –≤–Є–ї–ї–µ–љ–і–Њ—А—Д–Њ-–Ї–Њ—Б—В–µ–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ. –Т—А–µ–Љ—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–Є—Е —Н—В–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –Љ–∞–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Х–≤—А–Њ–њ—Л –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П 28—27 —В—Л—Б—П—З–∞–Љ–Є –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і175. –Ъ–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї –Т. –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤, —Н—В–Є —В—Г—З–љ—Л–µ –±–Њ–≥–Є–љ–Є –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞–ї–Є –Є—А—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ-–≤–Є—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –њ—А–Є—А–Њ–і—Л. –Х—Й–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–µ–є –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Є—Е –Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤ –љ–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е –њ–µ—Й–µ—А. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ 63 –≥—А–Њ—В–Њ–≤ –Р. JIepya-–У—Г—А–∞–љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї, —З—В–Њ «–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤ —Б–∞–Ї—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ- –љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–∞ (—Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П —Б—В–µ–љ–∞ –Ј–∞–ї–∞, –∞–ї—М–Ї–Њ–≤), —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Є–µ —В—П–≥–Њ—В–µ—О—В –Ї “–њ—А–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–Љ” —З–∞—Б—В—П–Љ –њ–µ—Й–µ—А—Л»176. –Э–Њ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≤—Л–≤–Њ–і, —З—В–Њ –≥–ї–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –њ–µ—Й–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≥–ї–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є —Б—В–∞–ї–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –С–Њ–≥–Є–љ—П-–Ь–∞—В—М, –∞ –њ—А–Њ –љ–Є–Ј–≤–µ—А–≥–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ю—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –±—Л–ї —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ –Љ–Є—Д –Њ –µ–≥–Њ –≥–Є–±–µ–ї–Є –Њ—В —А—Г–Ї –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 30 —В—Л—Б—П—З –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і. –°–ї–µ–і—Г–µ—В, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Њ –љ–Є–ґ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –µ—Й–µ —А–∞–љ—М—И–µ.
–С–Њ–≥–Є–љ–Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–∞
–Ъ–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ—П—В—М—Б—П –љ–∞—И–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і–Ї–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Ї—Г–ї—М—В –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ю—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –±—Л–ї –Ј–∞–Љ–µ—Й–µ–љ –Ї—Г–ї—М—В–Њ–Љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–Є? –Ю—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ–Њ –і–∞—В—М —В–Њ—З–љ—Л–є –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ —Н—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є—В—М –і–∞–љ–љ—Л–µ, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–µ—Б—П –Ї —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤—Г, –љ–∞ —Н–њ–Њ—Е—Г –њ–∞–ї–µ–Њ–ї–Є—В–∞, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є — —Г –љ–∞—Б –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Љ–∞–ї–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Є –Њ —Б–∞–Љ–Є—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–≥–Є–љ—П—Е. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤—Б–µ —Н—В–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Л –±–Њ–≥–Є–љ—М –±—Л–ї–Є –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —Г —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –°—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Н–њ–Њ—Е–∞ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞ —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –Є –≤—Б–µ —Н—В–Є –±–Њ–≥–Є–љ–Є –±—Л–ї–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л —Г—Б—В—Г–њ–Є—В—М –њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –±–Њ–≥–∞–Љ-–Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞–Љ. –Т —Б–Є–ї—Г —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ –Њ–љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П, –њ–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –ї–Є—И—М —Б–ї–∞–±—Л–Љ–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–Є-–Ь–∞—В–µ—А–Є. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Њ—В–≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Ї –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–µ–є –Є–Љ —А–Њ–ї–Є –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї –і–∞—В—М –∞–≤—В–Њ—А «–°–ї–Њ–≤–∞ —Б–≤. –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –њ–Њ–≥–∞–љ–Є —Б—Г—Й–µ —П–Ј—Л—Ж–Є –Ї–ї–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –Є–і–Њ–ї–Њ–Љ—К»: «–Ш —В–Є –љ–∞—З–∞—В–∞ —В—А–µ–±—Л –Ї–ї–∞—Б—В–Є —А–Њ–і—Г –Є —А–Њ–ґ–∞–љ–Є—Ж–∞–Љ –њ—А–µ–ґ–µ –Я–µ—А–Њ—Г–љ–∞, –±–Њ–≥–∞ –Є—Е—К. –Р –њ—А–µ–ґ–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞–ї–Є —В—А–µ–±—Л –Њ—Г–њ–Є—А–µ–Љ –Є –±–µ—А–µ–≥—Л–љ—П–Љ. –Я–Њ —Б–≤—П—В–µ–Љ—К –ґ–µ –Ї—А–µ—Й–µ–љ—М–Є –Я–µ—А–Њ—Г–љ–∞ –Њ—В—А–Є–љ—Г—И–∞, –∞ –њ–Њ –•—А–Є—Б—В–∞ –±–Њ–≥–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —П—И–∞—Б—П. –Э–Њ –Є –љ–Њ–љ–µ –њ–Њ –Њ—Г–Ї—А–∞–Є–љ–∞–Љ—К –Љ–Њ–ї—П—В—Б—П –µ–Љ—Г –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Њ–Љ—Г –±–Њ–≥—Г –Я–µ—А–Њ—Г–љ–Њ—Г –Є –•—К—А—Б–Њ—Г –Є –Ь–Њ–Ї–Њ—И–Є –Є –≤–Є–ї–∞–Љ—К —В–Њ —В–≤–Њ—А—П—В –Њ—В–∞–Є; —Б–µ–≥–Њ –ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В—М —Б—П –ї–Є—И–Є—В–Є.. .»177 –Ш—В–∞–Ї, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є—О –њ—А–Њ—В–Є–≤ —П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–∞, —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П —Б–ї–∞–≤—П–љ –±—Л–ї–Є —Г–њ—Л—А–Є –Є –±–µ—А–µ–≥–Є–љ–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ –†–Њ–і —Б —А–Њ–ґ–∞–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є, –Є –ї–Є—И—М –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –Є—Е –њ–∞–љ—В–µ–Њ–љ–µ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –≥—А–Њ–Љ–Њ–≤–µ—А–ґ–µ—Ж –Я–µ—А—Г–љ. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ–≤–µ—А—П—В—М —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є—О –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ –Љ—Л –≤—А—П–і –ї–Є –Љ–Њ–ґ–µ–Љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—А—П–і—Г —Б —Г–њ—Л—А—П–Љ–Є –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–Љ–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ–Є –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є—П –љ–∞—И–Є—Е –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Ї–љ–Є–ґ–љ–Є–Ї —Б—З–Є—В–∞–ї –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –ї–Є—Ж–µ –±–µ—А–µ–≥–Є–љ—М. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Е–µ—В—В—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–Ї—Б—В–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г —Б—В–∞–љ–µ—В —В—П–ґ–Ї–Њ, –Њ–љ –њ—А–Є–і–µ—В –Ї –С–Њ–≥—Г –†–µ–Ї–Є, «–Є –Ї –С–Њ–≥–Є–љ—П–Љ –°—Г–і—М–±—Л –С–µ—А–µ–≥–∞ —А–µ–Ї–Є, –Є –Ї –С–Њ–≥–Є–љ—П–Љ-–Ч–∞—Й–Є—В–љ–Є—Ж–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞»178. –Ъ–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—М –Є—Е –Ї—Г–ї—М—В–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ-—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Њ—Б—М —Г —Б–ї–∞–≤—П–љ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ґ–∞–Ї, –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–µ –љ–∞ —Н—В–Є –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –±–µ—А–µ–≥–Є–љ–µ-—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ –љ–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј —Б–≤. –°–Њ—Д–Є–Є, —Б—В–∞–≤—И–Є–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –≤–Њ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –•–Њ—В—М –Њ–љ–∞ –Є —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –њ–µ—А—Б–Њ–љ–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–µ–є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –∞–±—Б—В—А–∞–Ї—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П, –Ї–∞–Ї –Я—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М –С–Њ–ґ–Є—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –Ї–∞–Ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –±—Л–ї–∞ –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ–Љ —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –°—В–∞–ї–Њ –Ї—А—Л–ї–∞—В—Л–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–µ–є —Б—З–µ—В –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є: «–Ъ—К–і–µ —Б–≤—П—В–∞—П –°–Њ—Д–Є—П, —В—Г –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—К»179. –Э–∞—А—П–і—Г —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ –°–Њ—Д–Є—П –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є—Ж–∞ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Є —Б–ї–µ–і—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Њ —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є–Є –≤ 1327 –≥., –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–Є –Њ–њ—Г—Б—В–Њ—И–Є–ї–Є –≤—Б—О –†—Г—Б—М, «—В–Њ–ї–Ї–Њ –Э–Њ–≤—К–≥–Њ—А–Њ–і —Г–±–ї—О–і–µ –±–Њ–≥—К –Є —Б–≤—П—В–∞—П –°–Њ—Д—М—П»180. –≠—В–∞ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ–∞—А–∞ –±–µ—А–µ–≥–ї–∞ –≥–Њ—А–Њ–і –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–Є—Ж –Є —Б—В–Є—Е–Є–є–љ—Л—Е –±–µ–і—Б—В–≤–Є–є. –Я–Њ–і 1384 –≥. –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ «—Г–±–ї—О–і–µ –±–Њ–≥—К –Є —Б–≤—П—В–∞—П –°–Њ—Д–ђ—П –Њ—В —Г—Б–Њ–±–љ—Л—П —А–∞—В–Є»181, –∞ –≤ 1390 –≥. «–±–Њ–ґ—М–µ—О –ґ–µ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М—О –Є —Б–≤—П—В—Л—П –°–Њ—Д–ђ—П»182 –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–Њ—А–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–≤–µ—В—А–Є–µ. –Х—Б–ї–Є –Є–Ј–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В –≥—А–Њ–Ј—П—Й–µ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –°—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –С–Њ–≥—Г, —В–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –°–Њ—Д–Є–Є –Ї–∞–Ї –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б–≤–µ—А—Е—К–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–µ–є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤ –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е. –Т —Б–Є–ї—Г —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Б –Љ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —В–µ—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В, —З—В–Њ –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–µ –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –°–Њ—Д–Є–Є —Б–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ–µ–і–Є–љ–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–Є-–±–µ—А–µ–≥–Є–љ–Є –Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–љ–≥–µ–ї–∞-—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—П –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –°—Г–і—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, –і–∞–љ–љ—Л–є «–і–≤–Њ–µ–≤–µ—А–љ—Л–є» –Њ–±—А–∞–Ј –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–ї —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ–Ї–Њ–µ –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ, —П–≤–ї—П–≤—И–µ–µ—Б—П –≤ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г –±–µ—А–µ–≥–Є–љ–µ–є —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –†—Г—Б–Є.
–Я—А–Є–≤–Њ–і–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –≤—Л—И–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –У–µ–ї—М–Љ–Њ–ї—М–і–∞ –Њ –Ц–Є–≤–µ, –±–Њ–≥–Є–љ–µ –њ–Њ–ї–∞–±–Њ–≤, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–љ–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є. –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–∞—П –±–Њ–≥–Є–љ—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –µ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П, –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –Ї–∞–Ї –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –Ї–∞–Ї —Г–ґ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ–±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –∞–±—Б—В—А–∞–Ї—В–љ—Л—Е –њ–Њ–љ—П—В–Є–є –±—Л–ї–Њ —П–≤–љ–Њ –љ–µ —Б–∞–Љ—Л–Љ —А–∞–љ–љ–Є–Љ —Н—В–∞–њ–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, –Ц–Є–≤—Г –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –љ–∞–њ—А—П–Љ—Г—О –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Є—В—М —Б –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–µ–є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞—И–Є—Е –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤, —Е–Њ—В—П, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –Њ–љ–∞ –Є –і–∞–µ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –µ–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П—Е. –ѓ–≤–љ—Л–є –Њ—В–≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Ї –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–∞–ґ–µ –≤ –°—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М–µ –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –Є –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. –Т –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ «–Ц–Є—В–Є–Є –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ», –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—Й–µ–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П 1056 –≥., –Љ–Є–Љ–Њ—Е–Њ–і–Њ–Љ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ґ–Є–≤—И–Є—Е –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Р—Д–Њ–љ–∞ —Б–ї–∞–≤—П–љ: «[–Т —Б. –Ы–Є–≤–Є–Ј–і–Є—П (–Ы–Є–≤–∞–і–Є—П?) –љ–∞ –Р—Д–Њ–љ–µ] –ґ–Є–ї–Є –±–Њ–ї–≥–∞—А—Л, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ—Л–µ —Б–ї–∞–≤—П–љ–∞–Љ–Є. (...) –Т —В–Њ–Љ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–Є (...) —Б –і–∞–≤–љ–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Є –і–Њ –љ–∞—И–Є—Е –і–љ–µ–є —Б—В–Њ—П–ї –Њ–і–Є–љ –Є–і–Њ–ї, –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л–є, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–≤—И–Є–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г. –≠—В–Є –љ–µ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–µ –ї—О–і–Є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –µ–є –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є: “–°–Њ–ї–љ—Ж–µ –Є –і–Њ–ґ–і—М, –Є –≤—Б—П–Ї–Њ–µ –±–ї–∞–≥–Њ –і–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ –Њ—В –љ–µ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Є–Љ–µ–µ—В –≤–ї–∞—Б—В—М –і–∞—А–Њ–≤–∞—В—М –ґ–Є–Ј–љ—М –Є —Б–Љ–µ—А—В—М –Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–µ—В. (...) –Я–Њ–Љ–Њ–ї–Є—Б—М –љ–∞—И–µ–є –±–Њ–≥–Є–љ–µ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–∞ —В–µ–±–µ –њ–µ—А–µ–і —Ж–∞—А–µ–Љ”»183. –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –±—Л–ї–Њ, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –і—А–µ–≤–љ–µ–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞—В—Г–µ–є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Б–ї–∞–≤—П–љ–µ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–µ. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ –±–Њ–ї–≥–∞—А, –≤ –µ–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –ґ–Є–Ј–љ—М –Є —Б–Љ–µ—А—В—М, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –Њ–љ–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є –≤–ї–∞–≥–Њ–є –Є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П—Е –і–∞–љ–љ–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–Є. –°–ї–µ–і—Л –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. «–Ъ–∞—В–∞–ї–Њ–≥ –Љ–∞–≥–Є–Є –†—Г–і–Њ–ї—М—Д–∞» –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –µ—Й–µ –≤ –•–® –≤. –≤ –°–Є–ї–µ–Ј–Є–Є «–≤ –љ–Њ—З—М —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б—В–Њ–ї (–љ–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ) –і–ї—П –≤–ї–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –љ–µ–±–∞, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –Ј–і–µ—Б—М “–Я–Њ—З—В–µ–љ–љ–Њ–є –≥–Њ—Б–њ–Њ–ґ–Њ–є” (“Pania holda”), —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–∞ –Є–Љ (–≤–Њ –≤—Б–µ–Љ) –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–∞»184.
–Т—Б–µ —Н—В–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —Г –љ–∞—И–Є—Е –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Њ–±—А–∞–Ј –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–Є. –Х—Б–ї–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Б –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј –±–Њ–≥–Є–љ–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї «—В–µ–Љ –∞—А—Е–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—Б–∞–і–Ї–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—В –≤–µ–Ї–∞ —Е—А–∞–љ—П—В –≤ —Б–µ–±–µ —Б–ї–µ–і—Л –Љ–Њ—Й–љ—Л—Е –љ–µ–Є–Ј–≥–ї–∞–і–Є–Љ—Л—Е –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–є –Њ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л — –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Ї–∞–Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Ї–∞–Ї –ґ–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–є –і–µ–≤—Л. –≠—В–Є –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Є –Љ–Њ–≥—Г—З–Є, —З—В–Њ –Ї–∞–Ї –≤ –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–µ, —В–∞–Ї –Є –≤ –Ј—А–µ–ї–Њ–Љ –Љ—Г–ґ–µ –Њ–љ–Є —А–∞–Ј—А—П–ґ–∞–ї–Є —Б–Є–ї—Л, –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –∞—В—А–Є–±—Г—В–∞ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –љ–µ–њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–Є–Љ–Њ–≥–Њ, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ»185. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –≤ —Е–Њ–і–µ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –±—Л–ї –љ–Є–Ј–≤–µ—А–≥–љ—Г—В –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞, –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –љ–Њ–≤—Л–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ—Б–ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Ъ.–У. –Ѓ–љ–≥–∞, –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ «–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–Є–ї–Њ –Љ—Г–ґ—Б–Ї—Г—О –і—Г—И—Г –Ї–∞–Ї –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—В–Њ—А; –Є–±–Њ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ –≤ –≤–Є–і—Г –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –і—Г—И–µ»186.
–Ю—В–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –±–Њ–≥–Є–љ—П —Н—В–∞ –±—Л–ї–∞ –Є –≤–ї–∞–і—Л—З–Є—Ж–µ–є –≤–Њ–і. –Ъ–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –і–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і—Л —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –≤–Њ–і–Њ–є. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –°–µ–≤–µ—А–µ –µ—Й–µ –≤ XX –≤. –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –і–Њ—Б–Ї–∞—Е —Б–Є—А–µ–љ-—А—Г—Б–∞–ї–Њ–Ї –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –±–µ—А–µ–≥–Є–љ—П–Љ–Є187, —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Ї–∞–Ї –Њ–± –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤, —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є—П—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ —П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–∞, —В–∞–Ї –Є –Њ–± –Є—Е —Б–≤—П–Ј—П—Е —Б –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–Є—Е–Є–µ–є. –Я–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М –±—Л–ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Є –≤–Њ–і–Њ–є, –Є —Н—В–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є «–Я–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Њ –Я–µ—В—А–µ –Є –§–µ–≤—А–Њ–љ–Є–Є» –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ: «–Т –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б—Г–і–љ–µ —Б –§–µ–≤—А–Њ–љ–Є–µ–є –њ–ї—Л–ї –љ–µ–Ї–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –ґ–µ–љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ —Б—Г–і–љ–µ. –Ш —Н—В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є—Б–Ї—Г—И–∞–µ–Љ—Л–є –ї—Г–Ї–∞–≤—Л–Љ –±–µ—Б–Њ–Љ, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ —Б–≤—П—В—Г—О —Б –њ–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ. –Ю–љ–∞ –ґ–µ, —Б—А–∞–Ј—Г —Г–≥–∞–і–∞–≤ –µ–≥–Њ –і—Г—А–љ—Л–µ –Љ—Л—Б–ї–Є, –Њ–±–ї–Є—З–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ, —Б–Ї–∞–Ј–∞–≤ –µ–Љ—Г: “–Ч–∞—З–µ—А–њ–љ–Є –≤–Њ–і—Л –Є–Ј —А–µ–Ї–Є —Б —Н—В–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Б—Г–і–љ–∞ —Б–µ–≥–Њ”. –Ю–љ –њ–Њ—З–µ—А–њ–љ—Г–ї. –Ш –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–ї–∞ –µ–Љ—Г –Є—Б–њ–Є—В—М. –Ю–љ –≤—Л–њ–Є–ї. –Ґ–Њ–≥–і–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞: ‘–Ґ–µ–њ–µ—А—М –Ј–∞—З–µ—А–њ–љ–Є –≤–Њ–і—Л —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Б—Г–і–љ–∞ —Б–µ–≥–Њ”. –Ю–љ –њ–Њ—З–µ—А–њ–љ—Г–ї. –Ш –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–ї–∞ –µ–Љ—Г —Б–љ–Њ–≤–∞ –Є—Б–њ–Є—В—М.
–Ю–љ –≤—Л–њ–Є–ї. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞: “–Ю–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–∞ –≤–Њ–і–∞ –Є–ї–Є –Њ–і–љ–∞ —Б–ї–∞—Й–µ –і—А—Г–≥–Њ–є?” –Ю–љ –ґ–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: “–Ю–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–∞—П, –≥–Њ—Б–њ–Њ–ґ–∞, –≤–Њ–і–∞”. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–Љ–Њ–ї–≤–Є–ї–∞: “–Ґ–∞–Ї –Є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –ґ–µ —В—Л, –њ–Њ–Ј–∞–±—Л–≤ –њ—А–Њ —Б–≤–Њ—О –ґ–µ–љ—Г, –Њ —З—Г–ґ–Њ–є –њ–Њ–Љ—Л—И–ї—П–µ—И—М?”»188 –С–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М –≤–Њ–і—Л –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –Є —Г –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ «–і–≤–Њ–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ» –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞ –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–≥–Є–љ—П—Е: «–°–≤. –Я–∞—А–∞—Б–Ї–µ–≤–∞ (–Я—П—В–љ–Є—Ж–∞. — –Ь.–°.) —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –≤–Њ–і—Л –Є –Є–Љ–µ–µ—В, –њ–Њ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –≤–Ј–≥–ї—П–і—Г, –Њ—Б–Њ–±—Г—О –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М –Ї –љ–µ–є. –Э–∞ —Н—В–Њ –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј —Б–≤. –Я–∞—А–∞—Б–Ї–µ–≤—Л —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –≤–Њ–і–∞—Е, –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –Є–ї–Є –Ї–Њ–ї–Њ–і—Ж–µ, –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —З–µ–≥–Њ –≤–Њ–і–∞ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–∞ –Њ—Б–Њ–±—Г—О —Б–Є–ї—Г. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є, –Є —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –Є–Ї–Њ–љ—Л —Б–≤. –Я–∞—А–∞—Б–Ї–µ–≤—Л –њ—А–Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е, –љ–∞–і –Ї–ї—О—З–∞–Љ–Є –Є –Ї–Њ–ї–Њ–і—Ж–∞–Љ–Є. –Ф–∞–ї–µ–µ, –Њ–љ–∞ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Г –њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–Є–Љ–љ–µ–є —А–∞–±–Њ—В—Л — –њ—А—П–ґ–Є»189.
–°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–≤—Г—Й–Є–Љ –≤ –≤–Њ–і–µ —А—Г—Б–∞–ї–Ї–∞–Љ –±—Л–ї–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ –Є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П —Г —Б–ї–∞–≤—П–љ —Г–ґ–µ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –≤—Л—И–ї–Є –љ–∞ –∞—А–µ–љ—Г –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –£–ґ–µ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М VI –≤. –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ–Є–є –Ъ–µ—Б–∞—А–Є–є—Б–Ї–Є–є, —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–≤ –Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–Є–Љ–Є –њ—А–µ–і–Ї–∞–Љ–Є –±–Њ–≥–∞ — «—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –Љ–Њ–ї–љ–Є–є», —В.–µ. –Я–µ—А—Г–љ–∞, –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–µ—В: «–Ю–љ–Є –њ–Њ—З–Є—В–∞—О—В —А–µ–Ї–Є, –Є –љ–Є–Љ—Д, –Є –≤—Б—П–Ї–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П—В –ґ–µ—А—В–≤—Л –≤—Б–µ–Љ –Є–Љ –Є –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —Н—В–Є—Е –ґ–µ—А—В–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П—В –Є –≥–∞–і–∞–љ–Є—П»190. –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–∞—П —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ —А—Г—Б–∞–ї–Ї–∞—Е JI.H. –Т–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–Њ–≤–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ–љ–Є –њ—А–µ—Б–ї–µ–і—Г—О—В –ї—О–і–µ–є, —В–Њ–њ—П—В, –Ј–∞–Љ—Г—З–Є–≤–∞—О—В –Є—Е —Й–µ–Ї–Њ—В–Ї–Њ–є, –њ–Њ—А—В—П—В –њ–Њ—Б–µ–≤—Л –Є —Б–Ї–Њ—В–Є–љ—Г, –≤–Њ—А—Г—О—В –і–µ—В–µ–є, –љ–Њ, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Є—Е —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–µ–є –≤ –њ–Њ–ї–µ—Б—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ј–∞—Й–Є—В–∞ —Ж–≤–µ—В—Г—Й–Є—Е –Ј–ї–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–ї–µ–є –Є–ї–Є —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —Ж–≤–µ—В–µ–љ–Є—О –Є —Г—А–Њ–ґ–∞—О. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ —В–∞–Ї –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ —Г —Н—В–Є—Е –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є: «–Ґ–∞–Ї–∞—П –і–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –Є –≤—А–µ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А—Г—Б–∞–ї–Ї–Є –≤—А–µ–і—П—В –љ–∞—А—Г—И–Є—В–µ–ї—П–Љ —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–њ—А–µ—В–Њ–≤, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л—Е –і–ї—П —В—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ-—А—Г—Б–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞, –Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—О—В —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ—В –Є—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –Є —Б–Њ–±–ї—О–і–∞–µ—В –≤—Б–µ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–µ–є –љ–Њ—А–Љ—Л –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П»191. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, JI.H. –Т–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–Њ–≤–∞ –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А—Г–µ—В, —З—В–Њ –њ–Њ —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ —Б–≤—П–Ј—М —А—Г—Б–∞–ї–Њ–Ї —Б –њ—А—П–і–µ–љ–Є–µ–Љ, –њ—А—П–ґ–µ–є, –љ–Є—В–Ї–∞–Љ–Є, –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ–Љ –Є–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ—В–љ—П–љ–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–Њ–є. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –≤ –Я–Њ–ї–µ—Б—М–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ–љ –Ј–∞–њ—А–µ—В —В–Ї–∞—В—М, –њ—А—П—Б—В—М –Є–ї–Є —И–Є—В—М, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —А—Г—Б–∞–ї–Ї–∞ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ –Є –њ—А—П—Б—В—М –≤ —Е–∞—В–µ. –Т —А—П–і–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ —А—Г—Б–∞–ї–Ї–∞–Љ –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –Ј–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–њ—А–µ—В–∞ –њ—А—П—Б—В—М –њ–Њ –њ—П—В–љ–Є—Ж–∞–Љ. –Э–µ—З–µ–≥–Њ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –Љ—Л —Г–≤–Є–і–Є–Љ —З—Г—В—М –љ–Є–ґ–µ, —Б–±–ї–Є–ґ–∞—О—В —А—Г—Б–∞–ї–Њ–Ї —Б –Ь–Њ–Ї–Њ—И—М—О –Є —Г–љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є —Н—В–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–Є «–і–≤–Њ–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є» –Я–∞—А–∞—Б–Ї–µ–≤–Њ–є –Я—П—В–љ–Є—Ж–µ–є.
–Х—Й–µ –Њ–і–љ–Њ –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–∞, «–°–ї–Њ–≤–Њ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В–∞ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–≥–∞–љ—Л–µ –≤–µ—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Є–і–Њ–ї–∞–Љ», –≥–Њ–≤–Њ—А—П –њ—А–Њ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–ї–∞–≤—П–љ, –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А—Г–µ—В —Г –љ–Є—Е –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –≥—А—Г–њ–њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤: «–Ш –љ–∞—З–∞—В–∞ –ґ—А–µ—В–Є –Љ–Њ–ї–љ–Є–Є, –Є –≥—А–Њ–Љ—Г –Є —Б–Њ–ї–љ—Ж—О –Є –ї—Г–љ–ђ. –Р –і—А—Г- –Ј–Є–Є –њ–µ—А—Г–љ—Г, —Е–Њ—Г—А—Б—Г, –≤–Є–ї–∞–Љ—К –Є –Љ–Њ–Ї–Њ—И–Є, –Њ—Г–њ–Є—А–µ–Љ—К –Є –±–µ—А–µ–≥–Є–љ—П–Љ—К, –Є—Е–ґ–µ –љ–∞—А–Є—Ж–∞—О—В—М —В—А–Є –і–µ–≤—П—В—М —Б–µ—Б—В—А–µ–љ–Є—Ж—М, –∞ –Є–љ–Є–Є –≤—К –°–≤–∞—А–Њ–ґ–Є—Ж–∞ –≤–™—А–Њ—Г—О—В—М –Є –≤—К –∞—А—В–µ–Љ–Є–і—Г»192. –Ш—В–∞–Ї, –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ, —З—В–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –±–Њ–≥–Є–љ–µ–є –Ь–Њ–Ї–Њ—И—М—О —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –≤–Є–ї—Л, –ї–µ—Б–љ—Л–µ —А—Г—Б–∞–ї–Ї–Є –≤ —О–ґ–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ, –Є —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ –љ–∞–Љ –±–µ—А–µ–≥–Є–љ–Є. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г–µ—В –Є –Р—А—В–µ–Љ–Є–і–∞, –љ–Њ –Є–Ј —В–µ–Ї—Б—В–∞ –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М, –±—Л–ї–∞ –ї–Є —Г —Б–ї–∞–≤—П–љ –µ—Й–µ –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –±–Њ–≥–Є–љ—П, —З–µ—А—В—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї–Є —Б—Е–Њ–і–љ—Л —Б –∞–љ—В–Є—З–љ–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–µ–є-–Њ—Е–Њ—В–љ–Є—Ж–µ–є, –ї–Є–±–Њ –Є–Љ—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ –≤ —В–µ–Ї—Б—В –Є–Ј –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤.
–Ф–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –µ—Й–µ –Ь–Њ–Ї–Њ—И—М –Є–ї–Є –Ь–∞–Ї–Њ—И—М, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–∞. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є–є –Њ–љ–∞ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –њ—А–Є –њ–µ—А–µ—З–µ—Б–ї–µ–љ–Є–Є –±–Њ–≥–Њ–≤ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ 980 –≥. –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ. –Ф–∞–љ–љ—Л—Е –Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ —Н—В–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–Є —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –Љ–∞–ї–Њ, –Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є—П—Е —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –ї–Є—И—М –Њ–і–Є–љ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В, —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—Й–Є–є –µ–µ: «–С–Њ–≥—Л–љ—О —Б–Є—О –ґ–µ –і–≤–Њ—Г —В–≤–Њ—А—П—В—М –Є –Љ–Њ–Ї–Њ—И—М —З—В–Њ—Г—В—М –Є –Ї—Л–ї–Њ—Г –Є –Љ–∞–ї–∞–Ї—Л—П –Є–ґ–µ –µ—Б—В—М —А–Њ—Г—З—М–љ—Л–є –±–ї–Њ—Г–і—К»193. –Т –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ XTV –≤. —Н—В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ —З–Є—В–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї: «–±–≥–Є–љ—О —Б–Є—О–ґ–µ –і–™–≤—Г –≤–Љ–µ–љ—П—О—В i –Љ–Њ–Ї–∞—И—М —З—В—Г—В i –Љ–∞–ї–∞–Ї–Є—О –≤–µ–ї–Љ–Є –њ–Њ—З–µ—В–∞—О—В»194. –Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—Л–≤–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –≤—Л—В–µ–Ї–∞–µ—В —Б–≤—П–Ј—М –Ь–Њ–Ї–Њ—И–Є —Б –±–ї—Г–і–Њ–Љ, —З—В–Њ —П–≤–љ–Њ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —Б –Њ–±—Й–µ–∞–љ—В–Є—З–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ –Т–µ–љ–µ—А–µ, –±–Њ–≥–Є–љ–µ –Є –њ–ї–∞–љ–µ—В–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ –ї—О–±–≤–Є. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Ь–Њ–Ї–Њ—И—М—О, –Ї–∞–Ї –Љ—Л —Г–≤–Є–і–Є–Љ —З—Г—В—М –љ–Є–ґ–µ, –≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–µ –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –љ–∞ –Я–∞—А–∞—Б–Ї–µ–≤—Г –Я—П—В–љ–Є—Ж—Г, –∞ –њ—П—В–љ–Є—Ж–∞ –≤ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –±—Л–ї–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –њ–ї–∞–љ–µ—В–Њ–є –Т–µ–љ–µ—А–Њ–є, —Н—В—Г –ґ–µ —Б–≤—П–Ј—М –Љ—Л –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Є –і–ї—П –Ь–Њ–Ї–Њ—И–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Њ—В–≥–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Є –µ–µ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї–Є—Б—М –≤ –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–µ, –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–є
–Т.–Ш. –Ф–∞–ї–µ–Љ: «–С–Њ–≥ –љ–µ –Ь–∞–Ї–µ—И—М, —З–µ–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М –і–∞ –њ–Њ—В–µ—И–Є—В». –†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –Є–Љ—П —Н—В–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–Є –Ї–∞–Ї —Н–њ–Є—В–µ—В, –У. –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ «Mokosa –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–∞ –ї–Є—И—М —Н–њ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –±–Њ–≥–Є–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞ –і—А–µ–≤–љ–µ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ю–ї–Є–Љ–њ–µ –Є–≥—А–∞–ї–∞ —А–Њ–ї—М –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –Є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –±—А–∞–Ї–∞. (...) –Ш—В–∞–Ї, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ь–Њ–Ї–Њ—И—М –±—Л–ї–∞ “—Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—Й–∞—П, —Б–њ–ї–µ—В–∞—О—Й–∞—П”»195.
–≠—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –Є–Љ–µ–љ–Є –Ь–∞–Ї–Њ—И—М –С.–Р. –†—Л–±–∞–Ї–Њ–≤ —В—А–∞–Ї—В—Г–µ—В –і–≤–Њ—П–Ї–Њ. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ–љ –µ–µ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ «–Ї—К—И—М» –Є–ї–Є «–Ї–Њ—Й—М», –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–Љ «–ґ—А–µ–±–Є–є» –Є–ї–Є «—Б—Г–і—М–±—Г». –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Н—В–Њ—В –ґ–µ –Ї–Њ—А–µ–љ—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –≤ —Б–ї–Њ–≤–∞—Е, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є—Е —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –µ–Љ–Ї–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –Ј–µ—А–љ–∞, —З—В–Њ –і–∞–ї–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—О –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–∞—В—М —Н—В—Г –±–Њ–≥–Є–љ—О –Ї–∞–Ї «–Љ–∞—В—М —Г—А–Њ–ґ–∞—П», –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –±–ї–∞–≥ –Є –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є—П196.
–Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї JI. –Э–Є–і–µ—А–ї–µ –Є —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є –Т.–Ш. –Ф–∞–ї—М –Є –Ь. –§–∞—Б–Љ–µ—А –≤—Л–≤–Њ–і–Є–ї–Є –µ–µ –Є–Љ—П –Њ—В –Ї–Њ—А–љ—П –Љ–Њ–Ї, –Љ–Њ—З–Є—В—М, –Љ–Њ–Ї—А—Л–є. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤ –§–∞—Б–Љ–µ—А –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –і—А.-–Є–љ–і. makhas — «–±–Њ–≥–∞—В—Л–є, –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–є», —В–∞–Ї–ґ–µ «–і–µ–Љ–Њ–љ», –Є –≥—А–µ—З. — «–њ–Њ—Е–Њ—В–ї–Є–≤—Л–є, –±—Г–є–љ—Л–є»197.0 —Б–≤—П–Ј–Є
—Н—В–Њ–≥–Њ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ —Б –≤–Њ–і–Њ–є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ: «–І–µ—Е–Є –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є –Ь–Њ–Ї–Њ—И—М –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –і–Њ–ґ–і—П –Є —Б—Л—А–Њ—Б—В–Є –Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ—А–Є–±–µ–≥–∞–ї–Є —Б –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞–Љ–Є –Є –ґ–µ—А—В–≤–Њ–њ—А–Є–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–∞—Б—Г—Е–Є»198. –° –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —З–µ—А—В—Л –Ь–∞–Ї–Њ—И–Є –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –љ–∞ «–±–∞–±—М—О —Б–≤—П—В—Г—О» –Я–∞—А–∞—Б–Ї–µ–≤—Г –Я—П—В–љ–Є—Ж—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –µ—Й–µ –≤ XIX –≤. –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –ґ–µ—А—В–≤—Л –≤ –≤–Є–і–µ –±—А–Њ—Б–∞–µ–Љ–Њ–є –≤ –Ї–Њ–ї–Њ–і–µ—Ж –Ї—Г–і–µ–ї–Є. –°–∞–Љ —Н—В–Њ—В –Њ–±—А—П–і –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П «–Љ–Њ–Ї—А–Є–і–∞» –Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Њ—В —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Ї–Њ—А–љ—П, —З—В–Њ –Є –Є–Љ—П –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–Є. –Х—Й–µ –Њ–і–Є–љ –њ—А–Є–Љ–µ—А –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –Ї –љ–Њ–≤—Л–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞–Љ —Б—В–∞—А—Л—Е —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –≤ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ–Њ–Љ –Р.–Э. –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤—Л–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ—А—М–µ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –¶–∞—А–Є—Ж–∞ –Э–µ–±–µ—Б–љ–∞—П —А–∞–і—Г–≥–Њ–є —З–µ—А–њ–∞–µ—В –Є–Ј –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞ –≤–Њ–і—Г –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ—А–Њ—И–∞–µ—В –µ—О –њ–Њ–ї—П –Є –љ–Є–≤—Л. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞ –љ–µ–µ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –±–Њ–≥–Є–љ–µ — –≤–ї–∞–і—Л—З–Є—Ж–µ –≤–Њ–і –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П: «–Ґ—Л, –Я—А–µ—Б–≤—П—В–∞—П –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞, –Є—Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–∞ –Љ–Њ—А—П –Є —А–µ–Ї–Є, –Є –Њ–Ј–µ—А–∞ –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞, –Є–Ј-–њ–Њ–і –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–љ—П»199. –Ю–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—П–Љ, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–Љ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—Д –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –±–Њ–≥–Є–љ–Є –ї—О–±–≤–Є –Р—Д—А–Њ–і–Є—В—Л, –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П—О—Й–µ–є —Б–Њ–±–Њ–є –њ–ї–∞–љ–µ—В—Г –Т–µ–љ–µ—А—Г, –Є–Ј –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ–љ—Л; —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є–Љ–∞—П —Б —Н—В–Є–Љ –ґ–µ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ–Љ –Р—А–і–≤–Є—Б—Г—А–∞ –Р–љ–∞—Е–Є—В–∞ —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –±–Њ–≥–Є–љ–µ–є –≤–Њ–і –≤ –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є.
–Ь–Њ–Ї–Њ—И—М –Є–Љ–µ–ї–∞ –Њ–±—Й–µ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Є –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–µ–љ—Ж–∞–Љ, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞ –Њ –Ї–Њ–ї–і—Г–љ—М–µ Mokoska, –Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–Љ —Б–ї–∞–≤—П–љ–∞–Љ, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ—Л —В–Є–њ–∞ «–Ь–Њ–Ї–Њ—И–Є–љ –≤–µ—А—Е». –° –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ —Н—В–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–Є –У. –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ –Ь–Њ–Ї–Њ—И–µ–≤–Њ –≤ –І–µ—А–µ–њ–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ, —Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ Mokos –≤ –Я–Њ–ї—М—И–µ –Є –≥–Њ—А—Г Mokosin –≤ –І–µ—Е–Є–Є. –Ю —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ–Љ —Б—В–∞—В—Г—Б–µ –Ь–Њ–Ї–Њ—И–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, —З–µ–є –Є–і–Њ–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ —А—П–і–Њ–Љ —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л—Е –±–Њ–≥–Њ–≤, –∞ –љ–∞ –Ч–±—А—Г—З—Б–Ї–Њ–Љ –Є–і–Њ–ї–µ –Њ–љ–∞, –њ–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –≤ –і–≤—Г—Е –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б—П—Е –Т–µ–љ–µ—А—Л –Ї–∞–Ї –Ј–≤–µ–Ј–і–∞ —Г—В—А–µ–љ–љ—П—П –Є –Ј–≤–µ–Ј–і–∞ –≤–µ—З–µ—А–љ—П—П. –Ю –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–Љ –µ–µ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ–Є, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Є–Ј –≤—Б–µ—Е —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–є, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —Б–Є–љ–Њ–і–∞–ї—М–љ–∞—П —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М XIV –≤.: «–Р —Б–µ –≤—В–Њ—А–Њ–µ –≤–Є–ї–∞–Љ—К, –Є –Љ–Њ–Ї–Њ—И–™ –Є –і–∞ —И—Ж–µ —Б—П –љ–µ –љ–∞ —П–≤–™ –Љ–Њ–ї—П—В—М –і–∞ –Њ—В–∞–є –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞—О—З–µ –Є–і–Њ–Љ–Њ–ї—Л–і–™ –±–∞–±—Л. –Ґ–Њ–ґ–µ —В–≤–Њ—А—П—В –љ–µ —В–Њ–Ї–Љ–Њ —Е—Г–і–Є–Є –ї—О–і–µ –љ—К –Є –±–≥–∞—В—Л—Е –Љ—Г–ґ–Є–Є –ґ–µ–љ—Л»200. –Х—Й–µ –≤ XVI –≤. –≤ «–•—Г–і—Л—Е—К —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е—К –љ–Њ–Љ–Њ–Ї–Њ–љ—Г–љ—Ж–∞—Е—К» —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б «–љ–µ —Е–Њ–і–Є–ї–∞ –ї–Є –µ—Б–Є –Ї—К –Ь–Њ–Ї–Њ—И–µ?», —З—В–Њ, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Х.–Т. –Р–љ–Є—З–Ї–Њ–≤–∞, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –Љ–Њ–Ї—И–Є—В—М, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤—Л–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—В—М, –Ј–∞–Ї–ї–Є–љ–∞—В—М, –≤–Њ—А–Њ–ґ–Є—В—М. –Т–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ XIX –≤. –љ–∞ –†—Г—Б–Є –±—Л—В–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –Ь–Њ–Ї–Њ—И–Є –Ї–∞–Ї –Њ «–і–Њ–Љ–Њ–≤–Њ–Љ –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –Є –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є»201, –њ—А—П–і—Г—Й–µ–Љ –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ –≤ –Є–Ј–±–µ, –Є –њ–Њ–≤–µ—А—М–µ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–ї–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –љ–µ—Г–±—А–∞–љ–љ–Њ–є –Ї—Г–і–µ–ї—М, –∞ —В–Њ «–Ь–Њ–Ї–Њ—И–∞ –Њ–њ—А—П–і–µ—В». –Т –Ю–ї–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є —Б—З–Є—В–∞–ї–Є, —З—В–Њ «–Ь–Њ–Ї—Г—И–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б—В–Њ–Љ –Њ–±—Е–Њ–і–Є—В –і–Њ–Љ–∞ –Є –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В –њ—А—П–і—Г—Й–Є—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –Х—Б–ї–Є –њ—А—П—Е–Є –і—А–µ–Љ–ї—О—В, –∞ –≤–µ—А–µ—В–µ–љ–Њ –Є—Е –≤–µ—А—В–Є—В—Б—П, —В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Ј–∞ –љ–Є—Е –њ—А—П–і–µ—В –Ь–Њ–Ї—Г—И–∞»202. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –У. –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–∞ —Б–≤—П–Ј—М —Б –њ—А—П–і–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –Є —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є–Љ–µ–љ–Є –±–Њ–≥–Є–љ–Є, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞–Ї —А—Г—Б—Б–Ї. –Љ–Њ—И–љ–∞, —В–∞–Ї –Є –ї–Є—В. maktyti — «–њ–ї–µ—Б—В–Є», —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ь–∞–Ї–Њ—И—К –Є–Љ–µ–ї–∞ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –Ї –њ—А—П–ґ–µ, —В–∞–Ї –Є –Ї «—Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—О» –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Є «–Ї —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—О –њ–Њ–ї–Њ–≤—Л–Љ–Є, –±—А–∞—З–љ—Л–Љ–Є —Г–Ј–∞–Љ–Є» –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞ —Ж–µ–ї—Л–є —А—П–і —З–µ—А—В —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–Є –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –љ–∞ –Я–∞—А–∞—Б–Ї–µ–≤—Г –Я—П—В–љ–Є—Ж—Г, —В–Њ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –†—Г—Б–Є –≤ –њ—П—В–љ–Є—Ж—Г –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А—П—Б—В—М, —В–Ї–∞—В—М –Є —И–Є—В—М, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Ј–∞–њ–Њ—А–Њ—И–Є—В—М –≥–ї–∞–Ј–∞ –Я—П—В–љ–Є—Ж–µ, –љ–µ –Є—Б–Ї–Њ–ї–Њ—В—М –µ–µ –Є–≥–ї–∞–Љ–Є –Є –≤–µ—А–µ—В–µ–љ–∞–Љ–Є –Є –љ–µ –љ–∞–≤–ї–µ—З—М –љ–∞ —Б–µ–±—П –Љ–µ—Б—В—М —Н—В–Њ–є —Б–≤—П—В–Њ–є. –Ґ–∞–Ї, –≤ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –±—Л—В–Њ–≤–∞–ї–∞ –±—Л–ї–Є—З–Ї–∞ –њ—А–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А—П–ї–∞ –Є —В–Ї–∞–ї–∞ –≤ –њ—П—В–љ–Є—Ж—Г –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —П–≤–Є–≤—И–∞—П—Б—П –µ–є –Я—П—В–љ–Є—Ж–∞ –≤ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –і–Њ –њ–Њ–ї—Г—Б–Љ–µ—А—В–Є –Є—Б—В—Л–Ї–∞–ї–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є —Б–њ–Є—Ж–µ–є. «–°—В–Њ–ї—М –ґ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ –Є –і—А—Г–≥–Њ–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–±–Є–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Я—П—В–љ–Є—Ж–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞ “–±–∞–±—Г-–љ–µ–њ–Њ—З–µ—В–љ–Є—Ж—Г” –≤ –ї—П–≥—Г—И–Ї—Г——Б —В–µ—Е –њ–Њ—А –±—Г–і—В–Њ –±—Л –Є –ї—П–≥—Г—И–Ї–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –њ–Њ—И–ї–Є»203. –Ф–∞–љ–љ—Л–є —Б—О–ґ–µ—В –≤—Л–≤–Њ–і–Є—В –љ–∞—Б –Ї–∞–Ї –љ–∞ —Б–≤—П–Ј—М –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤ —Б –њ—А–µ—Б–Љ—Л–Ї–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П, —А–µ—З—М –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–є–і–µ—В –љ–Є–ґ–µ, —В–∞–Ї –Є –њ–µ—А–µ–Ї–ї–Є–Ї–∞–µ—В—Б—П —Б –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Ж–∞—А–µ–≤–љ—Л-–ї—П–≥—Г—И–Ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–Ї–∞–Ј–Њ–Ї. –Р.–Э. –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ—А–µ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ —Г –≤—Б–µ—Е –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ: «–Я–Њ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—О –њ–Њ –њ—П—В–љ–Є—Ж–∞–Љ –љ–µ –њ—А—П–і—Г—В –Є –љ–µ –њ–∞—И—Г—В, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Ј–∞–њ—Л–ї–Є—В—М –Љ–∞—В—Г—И–Ї—Г-–Я—П—В–љ–Є—Ж—Г –Є –љ–µ –Ј–∞—Б–Њ—А–Є—В—М –µ–є –Ї–Њ—Б—В—А–Є–Ї–Њ—О –Є –њ—Л–ї—М—О –≥–ї–∞–Ј»204. –Я–Њ –ї–µ–≥–µ–љ–і–µ, –±–∞–±–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А—П–ї–∞ –≤ –њ—П—В–љ–Є—Ж—Г, —П–≤–Є–ї–∞—Б—М —Б–≤—П—В–∞—П –Я—П—В–љ–Є—Ж–∞ –Є –Ј–∞–њ–Њ—А–Њ—И–Є–ї–∞ –µ–є –Њ—З–Є, –љ–Њ –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–Є–ї–∞—Б—М –Є –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞ –µ–є –Ј—А–µ–љ–Є–µ. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ —В–∞–±—Г, –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –Ї –Ь–Њ–Ї–Њ—И–Є, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М –Є –Ї –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—П –Њ —В–µ—Б–љ–µ–є—И–µ–є —Б–≤—П–Ј–Є –Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Ј–∞–Љ–µ–љ—П–µ–Љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ –Њ–±–Њ–Є—Е –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є: «–Т –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—П—Е –њ–Њ–≤–µ—А—М–µ, —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–µ —Б –Љ–∞—В—Г—И–Ї–Њ–є –Я—П—В–љ–Є—Ж–µ—О, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В –Ї –Я—А–µ—З–Є—Б—В–Њ–є –Ф–µ–≤–µ; —В–∞–Ї –±–∞–±—Л –љ–µ –њ—А—П–і—Г—В –њ–Њ –њ—П—В–љ–Є—Ж–∞–Љ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Ј–∞–њ—Л–ї–Є—В—М –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л...»205 –Э–µ—З–µ–≥–Њ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –ї—О–і–Є —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –Љ–Њ–≥—Г—В –Ј–∞–њ—Л–ї–Є—В—М –Є –Ј–∞—Б–Њ—А–Є—В—М –≥–ї–∞–Ј–∞ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤—Г, –Є–Љ–µ–µ—В –љ–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї—Г—О, –∞ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ—А–Є—А–Њ–і—Г. –Т—Л—Б—И–Є–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–Є –Є –µ–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О –њ—А—П–і–µ–љ–Є—П: «–Э–∞ —В–Њ–Љ –љ–∞ —Б–≤—П—В–Њ–Љ –∞–Ї–Є–∞–љ-–Ь–Њ—А–µ —Б—В–Њ–Є—В —Б–≤—П—В –Ј–ї–∞—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї. –Э–∞ —В–Њ–Љ –љ–∞ —Б–≤—П—В–Њ–Љ –љ–∞ –Ј–ї–∞—В–µ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–µ —Б–Є–і–Є—В —Б–∞–Љ–∞ –Ь–∞—В–Є –Я—А–µ—З–Є—Б—В–∞—П –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞, –Ь–∞—В–Є –С–Њ–ґ–Є—П, –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Л–љ—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–∞—П; –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Ю–љ–∞ –і–µ—А–ґ–Є—В –Ј–Њ–ї–Њ—В—Г—О –њ—А—П–ї–µ–љ–Ї—Г –Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–µ –≤–µ—А–µ—В–µ–љ—Ж–Њ, –Є –њ—А—П–і–µ—В –Њ–љ–∞ –љ–Є—В–Є –±–µ–ї–∞–≥–Њ –Є –Ї—А–∞—Б–љ–∞–≥–Њ, –Є —З–µ—А–љ–∞–≥–Њ —И–Њ–ї–Ї—Г...»206 –Т–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ «–і–≤–Њ–µ–≤–µ—А–љ—Г—О» —Н–њ–Њ—Е—Г –Я—П—В–љ–Є—Ж–∞ –±—Л–ї–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –њ–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Є–µ–Љ –Ј–µ–Љ–ї–Є –Є –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є –≤–ї–∞–≥–Є: «–Я–Њ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—О, –Њ—В –Я—П—В–љ–Є—Ж—Л –Ј–∞–≤–Є—Б—П—В –Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–µ —А–Њ–і—Л –Ј–µ–Љ–ї–Є; –µ–µ –Љ–Њ–ї–Є–ї–Є –Њ–± –Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—Б—Г—Е–Є, –њ—А–Њ–ї–Є–≤–љ—Л—Е –і–Њ–ґ–і–µ–є, –љ–µ—Г—А–Њ–ґ–∞–µ–≤; –≤ –і–∞—А –µ–є –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –Ј–µ–Љ–љ—Л–µ –њ–ї–Њ–і—Л»207. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–±—А–∞–Ј –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –ї—О–±–≤–Є —П–≤–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є, —Н—В–∞ —З–µ—А—В–∞ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ь–Њ–Ї–Њ—И–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –Я—П—В–љ–Є—Ж—Г, –Є –љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є –Љ–Њ–ї–Є–ї–Є –Љ–∞—В—Г—И–Ї—Г –Я–∞—А–∞—Б–Ї–µ–≤—Г –Я—П—В–љ–Є—Ж—Г –њ–Њ–Ї—А—Л—В—М –Є—Е –њ–Њ—Б–Ї–Њ—А–µ–µ –ґ–µ–љ–Є—Е–∞–Љ–Є. –°–≤—П–Ј–∞–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Н—В–∞ –±–Њ–≥–Є–љ—П –Є —Б –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї, –њ—А–Є —Б—В—А–Є–ґ–Ї–µ –Њ–≤–µ—Ж –≤ –љ–Њ–ґ–љ–Є—Ж—Л –Ї–ї–∞–ї–Є –њ–Њ –Ї–ї–Њ–Ї—Г —И–µ—А—Б—В–Є –≤ –ґ–µ—А—В–≤—Г –Ь–Њ–Ї—Г—И–µ (–Ь–Њ–Ї–Њ—И–∞, –Ь–∞–Ї–Њ—И–∞ — –≤–∞—А–Є–∞–љ—В—Л –Є–Љ–µ–љ–Є). –Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–µ–Њ—Б—В—А–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–≤—Ж—Л –ї–Є–љ—П–ї–Є, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є: «–Ю–є, –Ь–∞–Ї—Г—И–∞ —Б—В—А–Є–ґ–µ—В –Њ–≤–µ—Ж».
–Ъ—А–Њ–Љ–µ –Ь–∞–Ї–Њ—И–Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –Ј–љ–∞–µ—В –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –µ—Й–µ –і–≤–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Е–Њ—В—М –Є –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—М –Є—Е –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —Г—Б—В–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –љ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Њ—Б–Њ–±—Л—Е —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є. –Я–µ—А–≤—Л–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ь–∞—В—М –°—Л—А–∞ –Ч–µ–Љ–ї—П. «–Я—А–∞–Љ–∞—В–µ—А—М –≤—Б–µ–≥–Њ –ґ–Є–≤—Г—Й–µ–≥–Њ, –Ј–µ–Љ–ї—П –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ.. ,»—И — –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Э.–Ь. –У–∞–њ—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –≤ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ: «–Ч–µ–Љ–ї—П — —Б–≤—П—В–∞ –Љ–∞—В–Є». –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б—Л –њ—А–Њ –љ–µ–µ –ї—О–±–Њ–≤–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є: «–°–≤—П—В–∞—П –Ј—П–Љ–µ–ї—М–Ї–∞ –Ї–Њ—А–Љ–є—Ж—М –љ–∞—Б i —Г—Б—П–Ї–∞–≥–Њ –Ј–≤–µ—А—П; –љ–Њ—Б—Й—М –љ–∞ CBoix –њ–ї—П—З–∞—Е, –љ–ґ–Њ–ї1 –љ–µ –љ–∞—А–∞–Ї–∞—О—З–Є, –љ–µ —Б—В–Њ–≥–љ—Г—З—Л, –∞ —П–Ї –±–Њ–≥ –њ–∞—И–ї–µ —Б–Љ–µ—А—Ж—М, —В–Њ —П–љ–∞ –њ—А—Л–≥–Њ—А–љ–µ i –љ–µ –њ–і–Ј—Й—Ж–∞, –Ї–Њ–ї1 –љ–∞—Б —З—Н—А–≤1 —В–Њ—З–∞—Ж—М»209. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –У. –§–µ–і–Њ—В–Њ–≤–∞ –Ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –≤—Л–≤–Њ–і—Г: «–Ь–Є—А, –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤ –Ї–Њ—Б–Љ–Њ–≥–Њ–љ–Є–Є... –≤–µ—Б—М –њ—А–Њ–љ–Є–Ј–∞–љ –°–≤—П—В—Л–Љ –Ф—Г—Е–Њ–Љ –Є–ї–Є “—Б–≤—П—В—Л–Љ–Є –і—Г—Е–∞–Љ–Є”, –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ. –Т —Б—В–Є—Е–µ –Њ 12 –њ—П—В–љ–Є—Ж–∞—Е –њ–Њ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –≤ –і–µ–љ—М –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л
–Я—Г—Й–∞–ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –°–≤—П—В—Л–є –Ф—Г—Е –њ–Њ –≤—Б–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ.
–≠—В–Њ –Є–Ј–ї–Є—П–љ–Є–µ –°–≤. –Ф—Г—Е–∞ –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Њ –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О... –Э–Њ –≤—Б—П –Ј–µ–Љ–ї—П –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ—В –°–≤. –Ф—Г—Е–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –њ–Њ –і—А–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–∞, –і–∞–ґ–µ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ–µ–є:
–Т–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–≤ –°–≤—П—В –Ф—Г—Е –Т–Њ —Б—Л—А—Г –Ј–µ–Љ–ї—О,
–Т–Њ –≤—Б—О –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О.
–Ц–Є–≤—Г—Й–Є–є –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ —Б–≤—П—В–Њ–є –і—Г—Е –Њ—Й—Г—Й–∞–ї—Б—П –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ –≤ –і—Л—Е–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞, –≤–µ—В—А–µ –Є –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–љ–Є—П—Е –Ј–µ–Љ–ї–Є»210. –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–µ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–≤—П—В–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –≤–љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –µ–µ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї—Г–ї—М—В–∞ —П–≤–љ–Њ –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤—Г, —Б—В—А–µ–Љ–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤—П—В–Њ—Б—В—М –≤ —Б—В–µ–љ–∞—Е —Б–≤–Њ–Є—Е —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є –Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є.
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Є—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –µ—Й–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П, –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –ї–Є –Њ–±—А–∞–Ј —Б–≤—П—В–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞, –љ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–≤—П—В–Њ—Б—В–Є –Ч–µ–Љ–ї–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ —Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј —Б–≤—П—В–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ –≤ –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є. –£–ґ–µ –≤ «–У–∞—В–∞—Е» —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –±–Њ–≥–Є–љ—П –Ј–µ–Љ–ї–Є –Ч–∞–Љ, –Є–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–ї–Њ–≤—Г –Ј–µ–Љ–ї—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –≤ —В–Њ–є –ґ–µ «–Р–≤–µ—Б—В–µ» –Њ–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ—В—В–µ—Б–љ–µ–љ–∞ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–ї–∞–љ –°–њ–µ–љ—В–∞ –Р—А–Љ–∞–Є- —В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –і—Г—Е–∞—–њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П –Ј–µ–Љ–ї–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–є –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞ –Р—Е—Г—А–∞ –Ь–∞–Ј–і—Л. –Т –∞–≤–µ—Б—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ —Б–њ–µ–љ—В–∞ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ «—Б–≤—П—В–Њ–є». –Т —Б—А–µ–і–љ–µ–Є—А–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –Ї–∞–Ї –°–њ–∞–љ–і–∞—А–Љ–∞—В –Є –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є, —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є—П –Є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ю–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –°–њ–∞–љ–і–∞—А–Љ–∞—В –Ї–∞–Ї –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–≤–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ —Б –Љ—Г—Б–Ї—Г—Б–љ–Њ–є —А–Њ–Ј–Њ–є –≤ —А—Г–Ї–µ, –∞ –Ч–∞—А–∞—В—Г—И—В—А–∞, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ–µ—Е–ї–µ–≤–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—О «–С–∞—Е–Љ–∞–љ- –ѓ—И—В» —Г–Ј—А–µ–ї –µ–µ –≤ –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —В—А–∞–љ—Б–µ, «–њ–Њ–Ї—А—Л—В—Г—О —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Є –≤—Б–µ –Є—Е –≤–Є–і—Л, –Є –Ї–Њ—А–µ–љ—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –≤ –Ј–µ–Љ–ї–µ — –°–њ–∞–љ–і–∞—А–Љ–∞—В»211.
–Ъ–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –µ–µ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –Ч–µ–Љ–ї—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Ь–∞—В–µ—А—М—О. –І—М–µ–є –ґ–µ –Ь–∞—В–µ—А—М—О —Б—З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М –Ч–µ–Љ–ї—П? –Э–∞ —Н—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –љ–∞–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –µ—Й–µ –≤ XIX –≤. –≤ –Э–Є–ґ–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –њ–µ—Б–љ—П- –Ј–∞–Ї–ї–Є–љ–∞–љ–Є–µ, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–µ—А–µ–і —Б–±–Њ—А–Њ–Љ –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–∞–≤ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –Ї –Ј–µ–Љ–ї–µ:
–У–Њ–є, –Ј–µ–Љ–ї—П –µ—Б–Є —Б—Л—А–∞—П,
–Ч–µ–Љ–ї—П –Љ–∞—В–µ—А–∞—П,
–Ь–∞—В–µ—А—М –љ–∞–Љ –µ—Б–Є —А–Њ–і–љ–∞—П!
–Т—Б–µ—Е –µ—Б–Є –љ–∞—Б –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–∞,
–Т—Б–њ–Њ–Є–ї–∞, –≤—Б–Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–∞ –Ш —Г–≥–Њ–і—М–µ–Љ –љ–∞–і–µ–ї–Є–ї–∞;
–†–∞–і–Є –љ–∞—Б, —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—В–µ–є,
–Ч–µ–ї–Є–є –µ—Б–Є –љ–∞—А–Њ–і–Є–ї–∞212...
–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г —Г—Е–Њ–і—П—Й–µ–Љ—Г –≤ –≥–ї—Г–±—М –≤–µ–Ї–Њ–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О, –Ь–∞—В—М –°—Л—А–∞ –Ч–µ–Љ–ї—П –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –Љ–∞—В–µ—А—М—О –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –љ–∞—Б–µ–ї—П—О—Й–Є—Е –µ–µ –ї—О–і–µ–є, –љ–Њ –Є –і–ї—П –њ—А–Њ–Є–Ј—А–∞—Б—В–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞ –љ–µ–є —В—А–∞–≤. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –њ–µ—А—Б–Њ–љ–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –µ–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –±–Њ–≥–Є–љ–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ–Њ. –Я—А–Є–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤—Л—И–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤ –µ—Й–µ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –њ–∞–ї–µ–Њ–ї–Є—В–∞. –Ъ–∞–Ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ—Й–µ B.JI. –Ъ–Њ–Љ–∞—А–Њ–≤–Є—З, –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є —Г —Б–ї–∞–≤—П–љ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –і–∞–≤–љ–Њ, –љ–∞ –µ—Й–µ –і–Њ–Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–і–Є–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П. –Э–∞ —Н—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–љ—Л–є —Б—В–Є—Е, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–Љ—Л–є –њ—А–Є «–Њ–±—А—П–і–µ –њ—А–Њ—Й–∞–љ–Є—П —Б –Ј–µ–Љ–ї–µ—О», –≥–і–µ –≤ —З–Є—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Є —В–Њ, —З—В–Њ –Ї–∞—О—Й–∞—П—Б—П
«—А–≤–∞–ї–∞ —В–≤–Њ—О (–Ј–µ–Љ–ї–Є) –≥—А—Г–і—Г—И–Ї—Г –°–Њ—Е–Њ—О –Њ—Б—В—А–Њ—О, —А–∞—Б–њ–ї—Л–≤—З–∞—В–Њ–є,
–І—В–Њ –љ–µ –Ї–∞—В–Њ–Љ —В–µ—П —П —Г–Ї–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞,
–Э–µ —Г—А—П–і–ї–Є–≤—Л–Љ –≥—А–µ–±–љ–µ–Љ —З–µ—Б—Л–≤–∞–ї–∞, —
–†–≤–∞–ї–∞ –≥—А—Г–і—Г—И–Ї—Г –±–Њ—А–Њ–љ—Г—И–Ї–Њ–є —В—П–ґ–µ–ї–Њ—О,
–°–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ –Ј—Г–±—М–µ–Љ –і–∞ —А–ґ–Є–≤—Л–µ–Љ.
–Я—А–Њ—Б—В–Є, –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞, –њ–Є—В–Њ–Љ–∞—П!»213
–Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ —П–≤–љ—Л–є –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В–Њ–Ї —Б–∞–Ї—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ—А–µ—В–∞ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є–µ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ. –Э–Њ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –Ї—Г–ї—М—В –Ч–µ–Љ–ї–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П —Г –љ–∞—И–Є—Е –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ –µ—Й–µ –≤ –і–Њ–Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і, –љ–∞ —Б—В–∞–і–Є–Є —Б–Њ–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.
- –Ю —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–Є –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞–Љ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –≥–ї–∞–≤—Л —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –±–ї–Є–Ј –Р—Д–Њ–љ–∞ –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є.
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Г—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –У. –§–µ–і–Њ—В–Њ–≤ —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –Њ —В–µ—Б–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –Ь–∞—В–µ—А–Є –°—Л—А–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є —Б –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –љ–∞—И–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞: «–Ь–Њ–ґ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –≤–Њ–є–і—П –≤ –Ї—А—Г–≥ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї —Б–ї–µ–і—Л –і—А–µ–≤–љ–µ–є –љ–∞—В—Г—А–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –љ–∞—И–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤. –Т –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В–Є—Е–∞—Е –Њ–± –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Ј–µ–Љ–ї–µ “–Љ–Њ–ї–Њ–і–µ—Ж” –Ї–∞–µ—В—Б—П –≤ —В—А–µ—Е –≥—А–µ—Е–∞—Е:
–ѓ –±—А–∞–љ–Є–ї –Њ—В—Ж–∞ —Б —А–Њ–і–љ–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А—М—О...
–£–ґ —П –ґ–Є–ї —Б –Ї—Г–Љ–Њ–є —Е—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ—О...
–ѓ —Г–±–Є–ї –≤ –њ–Њ–ї–µ –±—А–∞—В–Є–Ї–∞ —Е—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ,
–Я–Њ—А—Г–±–Є–ї –Є—И–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–∞–љ—М–Є—Ж–µ —Е—А–µ—Б—В–љ–Њ–µ.
–•–Њ—В—П –ї–Є—И—М —В—А–µ—В–Є–є –≥—А–µ—Е —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–њ—А–Њ—Й–∞–µ–Љ—Л–Љ, –љ–Њ –≤—Б–µ —В—А–Є –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—О—В—Б—П –Њ–±—Й–Є–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ: —Н—В–Њ –≥—А–µ—Е–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —А–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Ї—А–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ. –Ч–µ–Љ–ї—П, –Ї–∞–Ї –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –Є —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–µ, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –±–ї—О–і–µ—В –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. (...) –І—В–Њ –≥—А–µ—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ —А–Њ–і–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ—Л–Љ —В—П–ґ–Ї–Є–Љ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –љ–∞—А–Њ–і–∞, –≤–Є–і–љ–Њ –Є–Ј —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–Є—Е –≥—А–µ—Е–Њ–≤ –≤ –У–Њ–ї—Г–±–Є–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ:
–Ґ—А–µ–Љ –≥—А–µ—Е–∞–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ, —В—П–ґ–Ї–Њ–µ –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ:
–Ъ—В–Њ –±–ї—Г–і –±–ї—Г–і–Є–ї —Б –Ї—Г–Љ–Њ–є –Ї—А–µ—Б—В–Њ–≤—Л—П,
–Ъ—В–Њ –≤–Њ —З—А–µ–≤–µ —Б–µ–Љ–µ–љ–∞ –Ј–∞—В—А–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї,
–Ъ—В–Њ –±—А–∞–љ–Є–ї –Њ—В—Ж–∞ —Б –Љ–∞—В–µ—А—М—О...
–•–Њ—В—М –Є –µ—Б—В—М –≥—А–µ—Е–∞–Љ —В—Л–Љ –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ,
–Я—А–Є–ї–Њ–ґ–Є—В—М —В—А—Г–і—Л –љ–∞–і–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ»214.
–Ю—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В—П–ґ–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А–µ—Е–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –Р.–Я. –Ч–∞–±–Є—П–Ї–Њ: «–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і–ї—П –њ—А–∞—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –ґ–Є–≤–Њ—В–≤–Њ—А—П—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞ —Б–≤—П—В–∞, –≤—Б—П–Ї–Њ–µ –њ–Њ–Ї—Г—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–Є–ї—Г –ґ–Є–Ј–љ–Є, —А–Њ—Б—В–∞, –љ–∞ —З–∞–і–Њ- –Є –њ–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Є–µ — —Б–≤—П—В–Њ—В–∞—В—Б—В–≤–Њ, —В.–µ. —Г–Љ—Л–Ї–∞–љ–Є–µ —Б–Є–ї—Л, —В—П–ґ–Ї–Є–є –≥—А–µ—Е. –Я–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –Ї–Њ–ї–і—Г–љ — —Б–≤—П—В–Њ—В–∞–≤–µ—Ж –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–Њ –≥—А–µ—Е–Њ–Љ, —З—В–Њ, –њ–Њ –њ–Њ–≤–µ—А—М—П–Љ, –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є —Б–≤—П—В–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –µ–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Ї–Є, –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—П –Є—Е –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П»215.
–Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–≤—П–Ј—М –Ч–µ–Љ–ї–Є —Б –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –љ–∞—А–Њ–і–∞ –Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –≤ XIX –≤., —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ. –Ъ–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —Б—В—А–Є–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ–є –њ–µ—А–≤–Њ–є –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –µ—А–µ—Б–Є, –Ї–∞—П–ї–Є—Б—М –љ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г –Њ—В—Ж—Г, –∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ. –≠—В–Њ –љ–µ —Г–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є–Љ –≤ –≤–Є–љ—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є: «–Х—Й–µ –ґ–µ –Є —Б–Є—О –µ—А–µ—Б—М –њ—А–Є–ї–∞–≥–∞–µ—В–µ, —Б—В—А–Є–≥–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л, — –≤–µ–ї–Є—В–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є –Ї–∞—П—В–Є—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г... –Р –Ї—В–Њ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г–µ—В—Б—П –Ј–µ–Љ–ї–Є——В–Њ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є–µ –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є–µ –µ—Б—В—М: –Ј–µ–Љ–ї—П –±–Њ –±–µ–Ј–і—Г—И–љ–∞ —В–≤–∞—А—М –µ—Б—В—М — –љ–µ —Б–ї—Л—И–Є—В –Є –љ–µ —Г–Љ–µ–µ—В –Є –љ–µ —Г–Љ–µ–µ—В –Њ—В–≤–µ—З–∞—В–Є –Є –љ–µ –≤—К—Б–њ—А–µ—В–Є—В —Б—К–≥—А–µ—И–∞—О—Й–µ–Љ—Г»216. –Т —Н—В–Њ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Њ–±—Л—З–∞–µ –љ–∞—И–ї–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –Ь–∞—В–µ—А–Є –°—Л—А–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–µ –Ї–∞–Ї –≤—Л—Б—И–µ–є –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –Є—Б–Ї—Г–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ –≥—А–µ—Е–∞. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —П–≤–љ—Л–є –∞–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–±—Л—З–∞—П, –Њ—В—А–Є—Ж–∞—О—Й–Є–є, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ, –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –њ–Њ—Б—А–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є –Є –С–Њ–≥–Њ–Љ, –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ –Є –љ–∞—И–µ–ї –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е —Б—В–Є—Е–∞—Е. «–Ъ –Љ–∞—В–µ—А–Є-–Ј–µ–Љ–ї–µ –Є–і—Г—В –Ї–∞—П—В—М—Б—П –≤–Њ –≥—А–µ—Е–∞—Е:
–£–ґ –Ї–∞–Ї –Ї–∞—П–ї—Б—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ—Ж —Б—Л—А–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ:
–Ґ—Л –њ–Њ–Ї–∞–є, –њ–Њ–Ї–∞–є, –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞ —Б—Л—А–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П»217.
–°–ї–µ–і—Л —Н—В–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –Є —Г —З–∞—Б—В–Є —Б—В–∞—А–Њ–Њ–±—А—П–і—Ж–µ–≤. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–∞ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є —Г—Б—В—М-—Ж–Є–ї–µ–Љ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞—А–Њ–Њ–±—А—П–і—Ж—Л –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–Є —В–∞–Ї: «–ѓ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ—Г —Г—Е–Њ –Ї —Б—Л—А–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ, –±–Њ–≥ —Г—Б–ї—Л—И–Є—В –Љ–µ–љ—П –Є –њ—А–Њ—Б—В–Є—В»218. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ, —З—В–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤—Б–µ —Б—В–∞—А–∞–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –≤–љ—Г—И–Є—В—М —Б–≤–Њ–µ–є –њ–∞—Б—В–≤–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –Ь–∞—В–µ—А–Є –°—Л—А–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–µ –Ї–∞–Ї –Њ «–±–µ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–є —В–≤–∞—А–Є», –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –љ–∞—И–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤ –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ —Е—А–∞–љ–Є–ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–µ–є –Ї–∞–Ї –Њ –Ь–∞—В–µ—А–Є –Є –≤—Л—Б—И–µ–є –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –°–∞–Љ–∞ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –∞–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є–є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–± –Є—Е –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–Є –µ—Й–µ –≤ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г.
–Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є –Ч–µ–Љ–ї—П –Ј–∞–±–Њ—В–Є–ї–∞—Б—М –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—В—П—Е –Є –і–∞—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П –љ–∞ –њ—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ –Є –Є—Б—Ж–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ –Є —Б–Є–ї—Г –і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б –≤—А–∞–≥–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ—В –Љ–Њ—В–Є–≤ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ «–С—А–∞—В—М—П-–±–Њ–≥–∞—В—Л—А–Є»: «–£–і–∞—А–Є–ї –±–Њ–≥–∞—В—Л—А—М —В—А–µ—В–Є–є —А–∞–Ј — —Б—Б–µ–Ї —В—А–µ—В—М—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Ј–Љ–µ—П. –Ч–Љ–µ–є –≤—Б–µ —Б–ї–∞–±–µ–ї –Є —Б–ї–∞–±–µ–ї, –∞ –±–Њ–≥–∞—В—Л—А—О —Б–∞–Љ–∞ –Љ–∞—В—М-–Ј–µ–Љ–ї—П —Б–Є–ї—Л –њ—А–Є–±–∞–≤–ї—П–ї–∞»219. –Х—Й–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ —Б–Љ–µ—И–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ –Ь–∞—В–µ—А–Є –°—Л—А–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–µ –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є –С–Њ–≥–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–∞—П –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞ –Њ –Ь–µ—А–Ї—Г—А–Є–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–∞ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Њ–Є–љ—Г —Б–њ–∞—Б—В–Є –≥–Њ—А–Њ–і –Њ—В –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є—П —В–∞—В–∞—А. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –§.–Ш. –С—Г—Б–ї–∞–µ–≤, –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ –ї–µ–≥–µ–љ–і—Л –Ь–µ—А–Ї—Г—А–Є–є –±—М–µ—В—Б—П –љ–µ —Б —В–∞—В–∞—А–∞–Љ–Є, –∞ —Б –њ–µ—З–µ–љ–µ–≥–∞–Љ–Є, –∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л —В–∞–Љ —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г–µ—В –Ь–∞—В—М-–°—Л—А–∞-–Ч–µ–Љ–ї—П, —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–µ–є, —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П. –Т —Н—В–Њ–є –ї–µ–≥–µ–љ–і–µ –Њ–љ–∞ –≤ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Ї–∞–Ї –Љ–∞—В—М –ї—О–і–µ–є –Є —Е–Њ–і–∞—В–∞–є –Ј–∞ –љ–Є—Е –њ–µ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ: «–Ш –≤–Њ—Б–њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞—Б—М —В–Њ–≥–і–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П, –Ї–∞–Ї —З–∞–і–Њ–ї—О–±–Є–≤–∞—П –Љ–∞—В—М, –≤–Є–і—П —В—Г –±–µ–і—Г, –±—Л–≤—И—Г—О –љ–∞ –≤—Б–µ—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е. (...) –Ш –≤–Є–і—П –≤—Б–µ —В–Њ, –Њ–±—Й–∞—П –љ–∞—И–∞ –Љ–∞—В—М –Ј–µ–Љ–ї—П –≤–Њ–њ–Є—П–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –Є —Б—В–Њ–љ–∞–ї–∞: “–Ю —Б—Л–љ—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ! –Ъ–∞–Ї –ґ–µ –Љ–љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤–∞—Б, –Њ –ї—О–±–Є–Љ—Л–µ –Љ–Њ–Є –і–µ—В–Є, –њ—А–Њ–≥–љ–µ–≤–∞–≤—И–Є–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ, –Є –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Ґ–≤–Њ—А—Ж–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –С–Њ–≥–∞! –Т–Є–ґ—Г –≤–∞—Б –Њ—В—В–Њ—А–≥–љ—Г—В—Л—Е –Њ—В –Љ–Њ–µ–є –њ–∞–Ј—Г—Е–Є, –Є, —Б—Г–і–Њ–Љ –±–Њ–ґ–Є–Є–Љ, –≤ –њ–Њ–≥–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —А—Г–Ї–Є –љ–µ–Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–љ–Њ –≤–њ–∞–і—И–Є—Е –Є —А–∞–±—Б–Ї–Њ–µ –Є–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–Є—Е –љ–∞ —Б–Ј–Њ–Є—Е –њ–ї–µ—З–∞—Е. –Ш —Б—В–∞–ї–∞ —П –±–µ–і–љ–∞—П –≤–і–Њ–≤–∞: –Њ –Ї–Њ–Љ –ґ–µ –њ—А–µ–ґ–і–µ –±—Г–і—Г —П —Б–µ—В–Њ–≤–∞—В—М, –Њ –Љ—Г–ґ–µ –Є–ї–Є –Њ –ї—О–±–Є–Љ—Л—Е —З–∞–і–∞—Е? –Т–і–Њ–≤—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ–µ — –Ј–∞–њ—Г—Б—В–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П–Љ –Є —Б–≤—П—В—Л–Љ —Ж–µ—А–Ї–≤–∞–Љ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞–Љ. –Э–µ —В–µ—А–њ—П –ї—О—В–Њ–є –±–µ–і—Л, –≤–Њ–Ј–Њ–њ–Є—О –Ї –Ґ–≤–Њ—А—Ж—Г –Њ–±—Й–µ–Љ—Г –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г –С–Њ–≥—Г...” –°–ї—Л—И–Є—В–µ –ї–Є, –Ї–∞–Ї –Ј–µ–Љ–ї—П, –љ–µ —В–µ—А–њ—П —В–Њ–є –±–µ–і—Л, –≤–Њ–Ј–Њ–њ–Є–ї–∞ –≥–ї–∞—Б–Њ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ, –Љ–Њ–ї—П—Б—П –Ґ–≤–Њ—А—Ж—Г. –Ъ–Њ–ї—М–Љ–Њ –њ–∞—З–µ —Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –љ–∞—Б –і–Є–≤–љ–Њ–µ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–ґ–Є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л»220. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –љ–∞–ї–µ—В —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —А–Є—В–Њ—А–Є–Ї–Є, –њ—А–µ–ґ–љ—П—П —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ –Ь–∞—В–µ—А–Є –°—Л—А–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є –њ—А–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—В –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ, –∞ —Б–∞–Љ –µ–µ –Њ–±—А–∞–Ј –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –њ–µ—А–µ–Ї–ї–Є–Ї–∞–µ—В—Б—П —Б –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л.
–Ф–∞–ґ–µ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—И–Є–Љ –њ—А–µ–і–Ї–∞–Љ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –Њ–±—А–∞–Ј –Ь–∞—В–µ—А–Є –°—Л—А–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є –±—Л–ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї–µ–љ, —З—В–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤—Б–µ –≥–Њ–љ–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є, –љ–Њ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ. –Т —Б–≤–Њ–Є—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е —Б—В–Є—Е–∞—Е, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—П —Б—В–∞—А—Л–µ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є, –љ–∞—А–Њ–і –≤—Л–≤–µ–ї —Б–≤–Њ—О —В—А–Њ–Є—Ж—Г, –њ—А–∞–≤–і–∞, —А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–љ—Г—О –Њ—В –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л –±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Њ–є: «–Т –Ї—А—Г–≥—Г –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л—Е —Б–Є–ї — –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞, –≤ –Ї—А—Г–≥—Г –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ — –Ј–µ–Љ–ї—П, –≤ —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є — –Љ–∞—В—М —П–≤–ї—П—О—В—Б—П, –љ–∞ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—Г–њ–µ–љ—П—Е –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–µ—А–∞—А—Е–Є–Є, –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞. –Ш—Е –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М –љ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –µ—Й–µ –Є—Е —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–µ–≤–µ—Ж –љ–µ –і–Њ—Е–Њ–і–Є—В –і–Њ –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л —Б –Љ–∞—В–µ—А—Л–Њ-–Ј–µ–Љ–ї–µ–є –Є —Б –Ї—А–Њ–≤–љ–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А—М—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Э–Њ –Њ–љ –љ–µ–і–≤—Г—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –Є—Е —Б—А–Њ–і—Б—В–≤–Њ:
–Я–µ—А–≤–∞—П –Љ–∞—В—М — –Я—А–µ—Б–≤—П—В–∞—П –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞,
–Т—В–Њ—А–∞—П –Љ–∞—В—М — —Б—Л—А–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П,
–Ґ—А–µ—В—М—П –Љ–∞—В—М — –Ї–∞—П —Б–Ї–Њ—А–±—М –њ—А–Є–љ—П–ї–∞.
–°–Ї–Њ—А–±—М, —В.–µ. –Љ—Г–Ї–Є —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є...»221
–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ —В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Њ—Б—М –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Т –Ї–∞—А–њ–∞—В—Б–Ї–Њ–Љ —Б–≤–∞–і–µ–±–љ–Њ–Љ —А–Є—В—Г–∞–ї–µ –њ—А–Њ—Й–∞–љ–Є—П —Б —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –ґ–µ–љ–Є—Е —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П «–њ–µ—А–µ–і —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А—М—О –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–µ–є»222. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Б–µ—А–±—Л, –Њ–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї –Ч–µ–Љ–ї–µ, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –µ–µ –Ч–µ–Љ–ї—О-–С–Њ–≥–Њ–Љ—Б—Г–Ї–Њ.223 –Ш —Н—В–∞ —В–µ—Б–љ–∞—П —Б–≤—П–Ј—М —В—А–µ—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –љ–∞—З–∞–ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞—Б—М –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –£–ґ–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –±—Л–ї–Є—З–Ї–∞—Е –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —З–µ—А—В–∞ «–Р —З—В–Њ –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ —В—А–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є?» –Ј–љ–∞—О—Й–Є–є –њ–∞—А–µ–љ—М –і–∞–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–є –Њ—В–≤–µ—В: «–Ь–∞—В—М- —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞, –Љ–∞—В—М-—Б—Л—А–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П –і–∞ –Љ–∞—В—М –њ—А–µ—Б–≤—П—В–∞ –±–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞»224. –Т—Б–µ —Н—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ь–∞—В—М –°—Л—А–∞ –Ч–µ–Љ–ї—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –љ–∞—И–Є–Љ –і–∞–ї–µ–Ї–Є–Љ –њ—А–µ–і–Ї–∞–Љ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ — –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞, –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞–Љ–Є –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –Љ–Є—А–µ. –° –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞ —З–∞—Б—В—М –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –љ–∞ –≤—Л—Б—И–Є–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ –љ–Њ–≤–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є — –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Г. –У. –§–µ–і–Њ—В–Њ–≤ —В–∞–Ї –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–µ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л: «–Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –С–Њ–ґ—М—П –Ь–∞—В—М, –љ–Њ –Є –Ь–∞—В—М –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –Њ–±—Й–∞—П –љ–∞—И–∞ –Љ–∞—В—М (“–Љ–∞—В—М –±–Њ–≥–Њ–≤ –Є –ї—О–і–µ–є”). (...)
–Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є—В—Б—П —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –Є —В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –Љ–Є—А–∞:
–Р—Й–µ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–∞—П –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞ –Я–Њ–Љ–Њ—Й–Є —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ –њ–Њ–і–∞—Б—В,
–Э–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–Є—З—В–Њ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –≤ –ґ–Є–≤–µ —А–Њ–і–Є—В—М—Б—П,
–Ш –љ–Є —Б–Ї–Њ—В, –љ–Є –њ—В–Є—Ж–∞,
–Э–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –±—Л—Б—В—М.
–Т —Б—В–Є—Е–µ –Њ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–Є –њ—А—П–Љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П... –љ–∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Г, –Ъ–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞–Љ —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –Ш –љ–µ–±–Њ, –Є –Ј–µ–Љ–ї—О, –Є —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –Є –Љ–µ—Б—П—Ж,
–Ш —З–∞—Б—В—Л–µ –Ј–≤–µ–Ј–і—Л»225.
–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В —З–Є—Б—В–Њ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–µ —З–µ—А—В—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–Є-–Ь–∞—В–µ—А–Є, –њ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Б–Є–ї—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є —В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –≤—Б–µ–є –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є, —З—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л—Ж–і–µ—В, —З—В–Њ –њ–Њ–і —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –ґ–µ –њ–ї–∞–љ–µ –Ь–∞—В—М –°—Л—А–∞ –Ч–µ–Љ–ї—П —Б–ї–µ–і–Є—В –Ј–∞ —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Њ–і–∞—А–Є–≤–∞—П —Б–≤–Њ–µ–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М—О –Є–ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤ –љ–µ–є. –Я—А–Є —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–Є –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–љ–∞ –і–∞—А—Г–µ—В –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ —Б–Є–ї—Г –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б—В–≤–∞, –∞ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞–Љ — —Б–Є–ї—Г –і–ї—П –Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є—П –≤—А–∞–≥–Њ–≤, –∞ –љ–∞—А—Г—И–∞—О—Й–Є–Љ –µ–≥–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ –Є—Е —Б–Љ–µ—А—В–Є –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –ї–Њ–љ–Њ, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –Є—Е —В–µ–ї–∞ –±–µ–Ј –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П.
–Э–µ –Љ–µ–љ—М—И–Є–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б, —З–µ–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –Ї—Г–ї—М—В–∞ –Ь–∞—В–µ—А–Є –°—Л—А–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Є —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –µ–µ –Є–Љ–µ–љ–Є. –°–∞–Љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Љ–∞—В—М –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ. –Я—А–∞—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–µ –Љ–∞—В–Є –Є–Љ–µ–µ—В —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є—П –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е: –ї–Є—В. mote, –∞–љ–≥–ї. mother, –і—А.-–Є–љ–і. mata, –∞–≤–µ—Б—В. matar, –ї–∞—В. mater — «–Љ–∞—В—М, –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї, –љ–∞—З–∞–ї–Њ». –Ы–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В—Л –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А—Г—О—В: «–Ш.-–µ. –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є mater... –Є–Љ–µ–µ—В –Ї–Њ–љ—В–Є–љ—Г–∞–љ—В—Л –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –≤–µ—В–≤—П—Е –Є.-–µ. —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Њ –≤ –љ–Є—Е —И–Є—А–µ, —З–µ–Љ –ї—О–±–Њ–є –і—А—Г–≥–Њ–є —В–µ—А–Љ–Є–љ —А–Њ–і—Б—В–≤–∞»226. –Ъ–∞–Ї –њ–µ—А–≤–Њ–Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї, –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ, —Б—А. —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–Є: «–Ї–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Љ–∞—В–Ї–∞, —В–∞–Ї–Њ–≤—Л –Є –і–µ—В–Ї–Є», «–≤ –Љ–∞—В–Ї—Г –Є –і–µ—В–Ї–Є». –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ
–Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Є –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–љ—Л–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П: «—В–Њ, —З—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –і–∞–≤—И–Є–Љ –ґ–Є–Ј–љ—М –Ї–Њ–Љ—Г-–љ–Є–±—Г–і—М –Є–ї–Є —З–µ–Љ—Г-–љ–Є–±—Г–і—М, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —З–µ—А–њ–∞—О—В —Б–Є–ї—Г, —Н–љ–µ—А–≥–Є—О, –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М», «–Љ–µ—Б—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—А–µ–љ—М». –Т —А—П–і–µ –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Њ–≤ (–≤—П—В—Б–Ї–Њ–Љ, –Ї–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –Є —В.–і.) –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В «—З—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ». –Т –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ «–љ–∞—З–∞–ї–Њ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї, –њ—А–Є—З–Є–љ—Г»227. –Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Г—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б–µ—А–±–Њ-—Е–Њ—А–≤–∞—В—Б–Ї–Њ–µ –Љ–∞—В–Є –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В «–Љ–∞—В—М; —В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –±–ї–∞–≥, –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є—Ж–∞, —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞; –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ —З–µ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ; –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—В—А–Њ—Б—В–Ї–Є»228. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —А—П–і–µ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Љ–∞—В—М –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ —Б —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—П –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ «–Ї–Њ—А–µ–љ—М», –∞ –≤ —Б–µ—А–±–Њ-—Е–Њ—А–≤–∞—В—Б–Ї–Њ–Љ — «–Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П». –≠—В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤–љ–Њ–≤—М —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ —А–∞–љ–љ–µ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Ь–∞—В–µ—А–Є –°—Л—А–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є. –Ю—З–µ–љ—М –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є, –Є–Љ–µ–≤—И–µ–є, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Т.–Э. –Ф–∞–љ–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ, –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Ї–Њ—Б–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і—В–µ–Ї—Б—В: «–≠—В–Њ—В –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–є —В–µ—А–Љ–Є–љ –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–ї–Є –љ–µ –ї–Є—И–µ–љ –Њ—В—В–µ–љ–Ї–∞ –Ї–Њ—Б–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П (—Б—А. —А—Г—Б. –Ј–µ–Љ—К –≤ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –љ–Є–Ј, –ї—И. zem — –њ–Њ–і (—Б—А. —З–µ—И–µ–Ї, poda — –Ј–µ–Љ–ї—П). ..»229 –°–∞–Љ–Њ –ґ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Ј–µ–Љ–ї—П –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Ї –Є.-–µ. dhghem-, –∞ –Ї –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞—Д–Њ—А–Љ–µ230.
–Х—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –≤—В–Њ—А–Њ–є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–ї–Є. –Т. –Р. –Ь–µ—А–Ї—Г–ї–Њ–≤–∞, –Њ—В–Љ–µ—З–∞—П, —З—В–Њ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –Ї–Њ—А–µ–љ—М —Б—Л—А- –Є–Љ–µ–µ—В –і–≤–∞ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П — «—Б—Л—А–Њ–є, –Љ–Њ–Ї—А—Л–є, –≤–ї–∞–ґ–љ—Л–є» –Є «—Б–≤–µ–ґ–Є–є, –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–є, –љ–µ–Ј–∞—Б–Њ—Е—И–Є–є», — –њ–µ—А–≤–∞—П –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ: «–Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –≤ —Б—В–∞—А—Л—Е —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л—Е —Б–ї–Њ–≤–Њ—Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є—П—Е —Б—Л—А-–±–Њ—А –Є –Љ–∞—В—М —Б—Л—А–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П –њ—А–Є–ї–∞–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б—Л—А –љ–µ—Б–µ—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ? –°—Л—А-–±–Њ—А –≤ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є “–Ј–µ–ї–µ–љ—Л–є –±–Њ—А, –љ–µ –Ј–∞—Б–Њ—Е—И–Є–є –љ–∞ –Ї–Њ—А–љ—О”, –∞ –Ј–µ–Љ–ї—П —Б—Л—А–∞—П, —В.–µ. “—Б–≤–µ–ґ–∞—П, –Ј–µ–ї–µ–љ–∞—П, —Ж–≤–µ—В—Г—Й–∞—П”, “–љ–µ —Б—Г—Е–∞—П, –љ–µ –±–µ—Б–њ–ї–Њ–і–љ–∞—П”. –Ґ–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є-–Ј–µ–Љ–ї–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О —Б–ї–Њ–≤–∞ —Б—Л—А–Њ–є –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ. –°—А. –µ—Й–µ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–љ–Њ–µ —Б—Л—А–Њ–є –і—Г–± (“–Т–Њ–Ј–ї–µ –і—Г–±–∞, –і—Г–±–∞ —Б—Л—А–Њ–≤–∞...”), –Ї–∞–Ї —Б–Є–љ–Њ–љ–Є–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–є –і—Г–±. –Т—Б–µ —Н—В–Є —А–µ–ї–Є–Ї—В—Л, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В –Љ—Л—Б–ї—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е —Г —Б–ї–Њ–≤–∞ —Б—Л—А–Њ–є –±—Л–ї–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ “—Б–≤–µ–ґ–Є–є, –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–є”»231.
–Ю —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Ь–∞—В–µ—А–Є –°—Л—А–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є —Г –љ–∞—И–Є—Е –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–∞—П –±–Њ–≥–Є–љ—П —Б —В—А–µ—Е—З–∞—Б—В–љ—Л–Љ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Є, —З—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ, —Б —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–љ–µ–Љ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –≤ –µ–µ –Є–Љ–µ–љ–Є, –Ј–∞—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–∞ —Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –і–∞–љ–љ–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є. –≠—В–Њ –Є—А–∞–љ—Б–Ї–∞—П –±–Њ–≥–Є–љ—П –Р—А–і–≤–Є –°—Г—А–∞ –Р–љ–∞—Е–Є—В–∞, –Є–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ «–≤–ї–∞–≥–∞ —Б–Є–ї—М–љ–∞—П, —З–Є—Б—В–∞—П (–љ–µ–Ј–∞–њ—П—В–љ–∞–љ–љ–∞—П)»232. –Х—Б–ї–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є—В—М –µ–µ –Є–Љ—П –љ–∞ —В—А–Є —З–∞—Б—В–Є, —В–Њ –µ–µ —Б—А–µ–і–љ—П—П —З–∞—Б—В—М —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ—В —Б–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–є –ґ–µ —З–∞—Б—В—М—О —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ь–∞—В—М –°—Л—А–∞ –Ч–µ–Љ–ї—П. –Т –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Р—А–і–≤–Є—Б—Г—А–∞ –Р–љ–∞—Е–Є—В–∞ –±—Л–ї–∞ –±–Њ–≥–Є–љ–µ–є –≤–Њ–і –Є –њ–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Є—П –Є –≤ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –µ–є «–ѓ—И—В–µ» —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞–Ј–ї–Є–≤—И–∞—П—Б—П, —Ж–µ–ї–µ–±–љ–Њ–љ–Њ—Б–љ–∞—П, –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П —Б—В–∞–і–∞–Љ, –і–Њ–Љ—Г, –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г, —Б—В—А–∞–љ–µ, –≤—Л—А–∞—Й–Є–≤–∞—О—Й–∞—П —Б–µ–Љ–µ–љ–∞ –≤—Б–µ—Е –Љ—Г–ґ–µ–є, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–∞—П –Ї —А–Њ–і–∞–Љ –ї–Њ–љ–Њ –≤—Б–µ—Е –ґ–µ–љ, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–∞—П –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–Љ –ґ–µ–љ—Б–Ї—Г—О –≥—А—Г–і—М –Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—О—Й–∞—П –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—П—О—Й–Є—Е –Є –њ–Њ—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е –µ–µ. –Ґ–∞–Ї, –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –±–Њ–≥–∞—В—Л—А–Є –Є –Є—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Є –Љ–Њ–ї—П—В –µ–µ –Њ –њ–Њ–±–µ–і–µ –≤ –±–Њ—О –Є –Њ–± –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –°–ї–µ–і—Л –µ–µ –±—Л–ї–Њ–≥–Њ –≤–ї–∞–і—Л—З–µ—Б—В–≤–∞ –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї –љ–µ–є —Б –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –і–∞–ґ–µ –Р—Е—Г—А–∞ –Ь–∞–Ј–і–∞, –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–є –±–Њ–≥ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –Ч–∞—А–∞—В—Г—И—В—А–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —З–∞—Б—В—М –µ–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –Э–∞—Е–Є–і –≤ —Д–∞—А—Б–Є —Б—В–∞–ї–∞ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—В—М –њ–ї–∞–љ–µ—В—Г –Т–µ–љ–µ—А—Г –Є –µ–µ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—О. –Т —Н—В–Њ–Љ –∞—Б–њ–µ–Ї—В–µ –Њ–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –±–ї–Є–ґ–µ –Ї —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Ь–∞–Ї–Њ—И–Є, —З–µ–Љ –Ї –Ь–∞—В–µ—А–Є –°—Л—А–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–µ. –•–Њ—В—М –Р—А–і–≤–Є—Б—Г—А–∞ –Р–љ–∞—Е–Є—В–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –±–Њ–≥–Є–љ–µ–є –≤–Њ–і, –∞ –љ–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —В—А–µ—Е—З–∞—Б—В–љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–љ –Њ–±–µ–Є—Е –±–Њ–≥–Є–љ—М —Б –Њ–±—Й–Є–Љ —Б—А–µ–і–љ–Є–Љ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Н—В–Є—Е –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ —Г–ґ–µ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ –љ–∞—И–Є—Е –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ —Б –Є—А–∞–љ—Ж–∞–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –Т.–Т. –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤, —Б –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ—П–Љ–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є —В—А–µ—Е—З–ї–µ–љ–љ—Л–є —Н–њ–Є—В–µ—В –Ѓ–љ–Њ–љ—Л –≤ —А–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є — Juno Sespes Mater Regina233, —З—В–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –±–Њ–≥–Є–љ—М.
–•–Њ—В—М –±–Њ–≥–Є–љ—М —Б –Ї–Њ—А–љ–µ–Љ —Б—Л—А-/—Б—Г—А- –≤ –Є–Љ–µ–љ–Є –≤ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ—В, –і–∞–љ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–µ–љ—М –Є–≥—А–∞–ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–∞–ґ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—И–µ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞ –µ–µ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є, —З—В–Њ —Б—В–Њ–Є—В –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –љ–µ–Љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –Є–Љ–µ–љ–Є –Р—Е—Г—А—Л –Ь–∞–Ј–і—Л — –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –Ч–∞—А–∞—В—Г—И—В—А–Њ–є –Љ–Њ–љ–Њ—В–µ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –±—Г–Ї–≤–∞ —Б –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –љ–∞ —Е, —Н—В–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–µ–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–љ—П –њ—А–Є —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ–Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Є–Љ–µ–љ—Г–µ—В—Б—П –∞—Б—Г—А–Њ–є. –Ю–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ, —З—В–Њ –∞–≤–µ—Б—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Є–ї–∞–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ sura –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В «—Б–Є–ї—М–љ—Л–є, –Љ–Њ—Й–љ—Л–є» –Є, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В –≠. –С–µ–љ–≤–µ–љ–Є—Б—В, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Є–ї–Њ–є –њ–Њ–ї–љ–Њ—В—Л –Є —А–∞–Ј—А–∞—Б—В–∞–љ–Є—П. –†–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –µ–Љ—Г —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤–µ–і–Є–є—Б–Ї–Є–є –≥–ї–∞–≥–Њ–ї su-, sva-, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–є «–љ–∞–і—Г–≤–∞—В—М—Б—П, —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П», –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —В–∞–Ї–Є–µ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–∞–Ї –Ѓ)£–® — «–±—Л—В—М –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є, –љ–Њ—Б–Є—В—М –≤–Њ —З—А–µ–≤–µ», –Ї\)—А–Њ£ — «—Б–Є–ї–∞, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ» –Є –Ї\)—А—О£ — «–≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ»234. –Ю—В–Љ–µ—З–µ–љ–љ–∞—П –і–∞–љ–љ—Л–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Б–≤—П–Ј—М —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–љ—П, –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤ –Є–Љ–µ–љ–∞—Е –і–≤—Г—Е –±–Њ–≥–Є–љ—М, —Б –і—А–µ–≤–љ–µ–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ–Љ, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–Љ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–∞–≤–Њ–і–Є—В –љ–∞ –Љ—Л—Б–ї—М, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–µ–љ—М –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ—Г. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і—А—Г–≥–Є–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–љ—П —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ —Б–Є–ї—Г, –Љ–Њ—Й—М –Є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ, –ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ–Љ–Є –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞–Љ–Є –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ, —В.–µ. –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞.
–° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Ж–µ–ї—Л–є –Ї–ї–∞—Б—Б –±–Њ–≥–Њ–≤ –љ–Њ—Б–Є—В —Б–Њ–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Љ—П –∞—Б—Г—А—Л, —З—В–Њ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В «–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є»235. –Ъ –Є—Е —З–Є—Б–ї—Г –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —Ж–µ–ї—Л–є —А—П–і –≤–µ–і–Є–є—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–≥–Њ–≤, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–і —Н—В–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Є –±–Њ–≥–Њ–≤, –∞ –Ј–∞ —Б–∞–Љ–Є–Љ–Є –±–Њ–≥–∞–Љ–Є –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і—Н–≤–∞. –Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–µ –і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤ –љ–∞ –і–≤–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –Є –≤ –Ш—А–∞–љ–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —В–∞–Љ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—И–ї–Њ –њ–Њ –њ—А—П–Љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–Љ—Г –њ—Г—В–Є, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ –і—Н–≤—Л —Б—В–∞–ї–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї –і–µ–Љ–Њ–љ—Л, –∞ –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Ј–Њ—А–Њ–∞—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Р—Е —Г—А–∞ –Ь–∞–Ј–і–∞. –Т —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Ї–ї–∞—Б—Б –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤ –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –∞—Б—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є, —В–Њ –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В –Є–љ–і–Њ–Є—А–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –∞—Б—Г—А–∞–Љ-–∞—Е—Г—А–∞–Љ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–і–љ–∞ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XI –≤. —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В –≤ –°–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤–Є–Є –ї–Є—З–љ–Њ–µ –Є–Љ—П –Р—Б—Б—Г—А236.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–љ—П –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Є—А–Њ–Љ –Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞–Љ –≤ –і–≤—Г—Е –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П—Е. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є –љ–∞–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ–µ–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Є–є –Ю—Б–Є—А–Є—Б, —Б–∞–Љ–Њ –Є–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Њ –Њ—В —Б–ї–Њ–≤–∞ —Г—Б–µ—А — «—Б–Є–ї—М–љ—Л–є». –Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–Љ —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–Є–µ–Љ, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ —В—А–µ—В—М–µ–є –≥–ї–∞–≤–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –і—А–µ–≤–љ–µ–µ–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—П—О—Й–Є—Е —Б–Є–ї—Г —Н—В–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї—П–µ–Љ—Л–є —Б —Б–Њ–Ј–≤–µ–Ј–і–Є–µ–Љ –Ю—А–Є–Њ–љ–∞ –Ю—Б–Є—А–Є—Б –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б–µ–є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –±–Њ–≥–Њ–Љ —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Т –≥–Є–Љ–љ–µ –Ю—Б–Є—А–Є—Б—Г, –≤—Л—Б–µ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞ —Б—В–µ–ї–µ –Р–Љ–Њ–љ–µ—Б–∞ –≤ XV –≤. –і–Њ –љ.—Н., –њ—А—П–Љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П:
–†–∞—Б—В—Г—В —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П –њ–Њ –≤–Њ–ї–µ –µ–≥–Њ,
–Ш —А–Њ–і–Є—В –µ–Љ—Г –њ–Њ–ї–µ –њ–Є—Й—Г.
–Я–Њ–Ї–Њ—А–љ–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ–±–Њ –Є –Ј–≤–µ–Ј–і—Л –µ–≥–Њ,
–Ш –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л –µ–Љ—Г –≤—А–∞—В–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ.
–Т–ї–∞–і—Л–Ї–∞ –≤–Њ—Б—Е–≤–∞–ї–µ–љ–Є–є –≤ –љ–µ–±–µ —О–ґ–љ–Њ–Љ –Ш –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –≤ –љ–µ–±–µ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ.
–Э–µ–Ј–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ –Ј–≤–µ–Ј–і—Л –њ—А–µ–і –ї–Є—Ж–Њ–Љ –µ–≥–Њ,
–Ш –ґ–Є–ї–Є—Й–µ –µ–≥–Њ — –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л–µ237.
–Х—Й–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –≥–Є–Љ–љ–µ, –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤ –µ–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї—Г—О «–Ъ–љ–Є–≥—Г –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е» –Є –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ —Н—В–Њ–Љ—Г –±–Њ–≥—Г, —В–∞–Ї–ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П: «–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В–µ–±–µ –Љ–Є—А —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В–∞–µ—В –њ—Л—И–љ–Њ–є –Ј–µ–ї–µ–љ—М—О.. .»—И –Т –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ «–Ъ–љ–Є–≥–Є –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е» –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї, —Г–њ–Њ–і–Њ–±–ї—П—П—Б—М –ґ–Є–≤—Г—Й–µ–Љ—Г –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ю—Б–Є—А–Є—Б—Г, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: «–ѓ — –Ю—Б–Є—А–Є—Б... –ѓ –ґ–Є–≤—Г –Ї–∞–Ї –Ј–µ—А–љ–Њ, —П —А–∞—Б—В—Г –Ї–∞–Ї –Ј–µ—А–љ–Њ... –ѓ — —П—З–Љ–µ–љ—М»239.0 –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ —В–µ—Б–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞ —Б —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ: «–Э–∞ —Н—В—Г –ґ–µ —Б–≤—П–Ј—М –Ю—Б–Є—А–Є—Б–∞ —Б –Ј–µ—А–љ–Њ–Љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Є –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –њ—А–Є —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞—Е: —Н—В–Њ—–њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Њ, –љ–∞—В—П–љ—Г—В–Њ–µ –љ–∞ —А–∞–Љ—Г —Б –љ–Њ–ґ–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –ї–µ–ґ–Є—В —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј –і–µ—А–µ–≤–∞ –Ї–Њ–љ—В—Г—А–љ–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ю—Б–Є—А–Є—Б–∞, –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ–Њ–µ –Ј–µ–Љ–ї–µ–є —Б –њ–Њ—Б–µ—П–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–µ—А–љ–∞–Љ–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ, –±—Л—Б—В—А–Њ –≤–Ј–Њ–є–і—П, –і–∞–≤–∞–ї–Є –Ј–µ–ї–µ–љ–µ—О—Й–Є–є —Б–Є–ї—Г—Н—В –Ю—Б–Є—А–Є—Б–∞»240. –Ч–µ–Љ–ї—П —Б –Ј–µ—А–љ–Њ–Љ –≤ —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е —Ж–µ–ї—П—Е –Ј–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ —Б–∞—А–Ї–Њ—Д–∞–≥–Є –≤ –≤–Є–і–µ –Љ—Г–Љ–Є–Є –Ю—Б–Є—А–Є—Б–∞, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ —Н—В–Њ—В –±–Њ–≥ «–њ—А–Њ—А–∞—Б—В–∞–ї» (—А–Є—Б. 3).
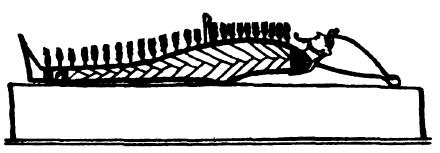
–†–Є—Б. 3. «–Я—А–Њ—А–∞—Б—В–∞—О—Й–Є–є» –Ю—Б–Є—А–Є—Б. –†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї —Б –≤–Є–љ—М–µ—В–Ї–Є –Є–Ј «–Я–∞–њ–Є—А—Г—Б–∞ –Ц—Г–Љ–Є–ї—М—П–Ї»
–Т–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—О –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Ю—Б–Є—А–Є—Б–∞ –Ї–∞–Ї –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Њ—В –Ј–≤–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї—Г–ї—М—В–∞ –Ї –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—О –±–Њ–≥–Є–љ–µ –Ч–µ–Љ–ї–Є –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г–µ—В —В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —Г –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Ч–µ–Љ–ї—П –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П–ї–∞—Б—М –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –∞ –Ю—Б–Є—А–Є—Б –±—Л–ї –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–Њ–є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –≤ –≤–Є–і—Г —В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –µ–≥–Є–њ—В—П–љ–µ –±—Л–ї–Є –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Є –Ч–µ–Љ–ї—О –≤ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±–ї–Є—З—М–µ: –±–Њ–≥–Є–љ–µ–є –љ–µ–±–∞ —Г –љ–Є—Е –±—Л–ї–∞ –Э—Г—В, –∞ –±–Њ–≥–Њ–Љ –Ј–µ–Љ–ї–Є — –У–µ–±. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –і—А—Г–≥–Њ–є –≥–Є–Љ–љ, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –Ю—Б–Є—А–Є—Б—Г –Ї–∞–Ї –±–Њ–≥—Г –њ–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–є –њ–Њ—З–≤—Л, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ—В –µ–≥–Њ «–Њ—В—Ж–Њ–Љ –Є –Љ–∞—В–µ—А—М—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞»241. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–µ –Ю—Б–Є—А–Є—Б–∞ —З–µ—А—В –±–Њ–≥–∞ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –µ–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є –љ–µ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П —Б—О–ґ–µ—В –Њ –µ–≥–Њ –≥–Є–±–µ–ї–Є –њ–Њ –≤–Є–љ–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—П—Е –Љ–Є—А–∞, –≥–і–µ –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П—О—Й–Є–є —Б–Њ–Ј–≤–µ–Ј–і–Є–µ –Ю—А–Є–Њ–љ–∞ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ –≥–Є–±–љ–µ—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–µ. –•–Њ—В—М –і—А–µ–≤–љ–µ–µ–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї –Є –љ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ, –∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Ї—Г–ї—М—В–∞ –Ю—Б–Є—А–Є—Б–∞ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –µ–≥–Є–њ—В—П–љ–µ —П–≤–љ–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ —Б –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–∞–Љ–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Є —Г –љ–Є—Е –Ї–Њ—А–µ–љ—М —Б—А –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ —Б –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ–Љ —Б–Є–ї—Л.
–Т—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –∞—Б—Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –±–Њ–≥ –Р—И—И—Г—А, –і–∞–≤—И–Є–є —Б–≤–Њ–µ –Є–Љ—П —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ —З–µ—Б—В—М –љ–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г —Г–ґ–µ –≤ XX –≤. –і–Њ –љ.—Н., –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –≤—Б–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—В–∞–і–Є–Є –µ–≥–Њ –Ї—Г–ї—М—В–∞, —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Є —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є, –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ—П—Б–љ—Л. –Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞—В—М —Б —Б–µ–Љ–Є—В—Б–Ї–Є–Љ §–Є–≥–≥ — «–њ—Г–њ, —Ж–µ–љ—В—А», –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ «–њ—Г–њ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є». –І—В–Њ –ґ–µ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –±–Њ–≥–∞, —В–Њ –љ–∞ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –∞—Б—Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —А–µ–ї—М–µ—Д–∞—Е –Њ–љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П –Ї–∞–Ї –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ-–і–µ—А–µ–≤–Њ, –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ—О—О —Н–њ–Њ—Е—Г — –Ї–∞–Ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ—А–µ–≤–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ–і–љ–µ–≥–Њ —А–Є—В—Г–∞–ї–∞, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ
–°. –°–Љ–Є—В –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї, —З—В–Њ –Р—И—И—Г—А –±—Л–ї «—Г–Љ–Є—А–∞—О—Й–Є–Љ –Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–∞—О—Й–Є–Љ» –±–Њ–≥–Њ–Љ –љ–∞–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ —И—Г–Љ–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ґ–∞–Љ–Љ—Г–Ј–∞ –Є–ї–Є –µ–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ю—Б–Є—А–Є—Б–∞. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Р—И—И—Г—А–∞ –≤ –≤–Є–і–µ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ —Б –ї—Г–Ї–Њ–Љ –≤ –Ї—А—Л–ї–∞—В–Њ–Љ –і–Є—Б–Ї–µ242. –Ъ–∞–Ї –Љ—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, –Ґ–∞–Љ–Љ—Г–Ј –Є –Ю—Б–Є—А–Є—Б –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—П—Е —Б—З–Є—В–∞–ї–Є—Б—М –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–Ј–≤–µ–Ј–і–Є—П –Ю—А–Є–Њ–љ–∞. –°—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Н—В–Њ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Ј–∞ —Б—З–µ—В —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –ґ–µ–љ–Њ–є –Р—И—И—Г—А–∞ —Б—З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М –Ш—И—В–∞—А, –±—Л–≤—И–∞—П –ґ–µ–љ–Њ–є –Ґ–∞–Љ–Љ—Г–Ј–∞-–Ю—А–Є–Њ–љ–∞ —Г —И—Г–Љ–µ—А–Њ–≤, —В–∞–Ї –Є –Ј–∞ —Б—З–µ—В –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–µ–є –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б–Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Р—И—И—Г—А–∞. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Є —Г –∞—Б—Б–Є—А–Є–є—Ж–µ–≤ –±–Њ–≥-–Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї, —Б—В–∞–≤—И–Є–є –Ј–∞—В–µ–Љ –±–Њ–≥–Њ–Љ –≤–Њ–є–љ—Л –Є –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –±–Њ–≥–Њ–Љ, –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї —З–µ—А—В–∞–Љ–Є –±–Њ–≥–∞ —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –µ–≥–Њ –Є–Љ—П –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Й–Є–є –љ–∞—Б –Ї–Њ—А–µ–љ—М.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ї–Њ—А–µ–љ—М —Б—Л—А-/—Б—Г—А- —Б –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–Љ–Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–љ–љ–Є—Е —Б—В–∞–і–Є—П—Е –µ–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Є –∞—Б—Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Є –љ–∞—А–Њ–і—Л –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ —Б –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–∞–Љ–Є, —Н—В–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –љ–∞—Б –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–µ–љ—М –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Є –≤–Њ—И–µ–ї –≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–є –Њ–±–Њ—А–Њ—В —Н—В–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –≤ —В—Г –і–∞–ї–µ–Ї—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Е –і–∞–ї–µ–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і–Ї–Є –Њ–±—Й–∞–ї–Є—Б—М –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є. –Т –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є–Ї–µ –і–∞–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –Љ–∞–Ї—А–Њ—Б–µ–Љ—М–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —А–∞—Б–њ–∞–ї–∞—Б—М –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ –•–Я—X —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П—Е –і–Њ –љ.—Н. –Т—Л–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Г—З–µ–љ—Л–є –Т.–Ь. –Ш–ї–ї–Є—З-–°–≤–Є—В—Л—З –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї –Ї –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –∞–ї—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ, –Ї–∞—А—В–≤–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ, –і—А–∞–≤–Є–і–Є–є—Б–Ї–Є–µ, –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ, —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Є –∞—Д—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Є–µ —П–Ј—Л–Ї–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –°. –Р. –°—В–∞—А–Њ—Б—В–Є–љ, –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≥–ї–Њ—В—В–Њ—Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і—Б—З–µ—В–∞—Е, –≤—Л—З–ї–µ–љ–Є–ї –Є–Ј —Н—В–Њ–є –Љ–∞–Ї—А–Њ—Б–µ–Љ—М–Є –∞—Д—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Є–є –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞—Б–њ–∞–ї—Б—П –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Ї–∞ –∞—Д—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В «–њ–∞—А–∞-–љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ», –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —А–∞—Б–њ–∞—Б—В—М—Б—П –µ—Й–µ —А–∞–љ–µ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –≤—Л—И–µ –і–∞—В—Л. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і—А–µ–≤–љ–µ–µ–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Є–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –∞—Д—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Й–Є–є –љ–∞—Б –Ї–Њ—А–µ–љ—М –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —В—Г –і–∞–ї–µ–Ї—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–∞–ї–µ–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і–Ї–Є –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –µ–≥–Є–њ—В—П–љ, —Б–µ–Љ–Є—В–Њ–≤ –Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –µ—Й–µ –ґ–Є–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—И–µ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Њ–ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–µ–є –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ—А–µ–љ—М —Б—Л—А-/—Б—Г—А- –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї «—Б–Є–ї—Г», –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М —Б–Є–ї—Г —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О, –Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї—Б—П –Ї –≤—Л—Б—И–Є–Љ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞–Љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –њ–∞–љ—В–µ–Њ–љ–Њ–≤. –Ч–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ «—Б–Є–ї—Л» –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В—Б—П –і–ї—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –±–Њ–≥–Њ–≤ –≤ –µ–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Њ–є, –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є—П—Е –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –і–ї—П –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Б–ї–∞–≤—П–љ –Є –∞—Б—Б–Є—А–Є–є—Ж–µ–≤. –Т –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Ь–∞—В—М –°—Л—А–∞ –Ч–µ–Љ–ї—П –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –±—Л—В—М –њ–Њ–Ї—А—Л—В–Њ–є –Ј–µ–ї–µ–љ—М—О, –Є –і–∞–µ—В —Б–Є–ї—Г –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—О—Й–Є–Љ –µ–µ –±–Њ–≥–∞—В—Л—А—П–Љ. –£ –∞—Б—Б–Є—А–Є–є—Ж–µ–≤ –Р—И—И—Г—А –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞—В—М –Ї–∞–Ї —Б–Є–ї–Њ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —В–∞–Ї –Є —Б–Є–ї–Њ–є –Ї–∞–Ї –±–Њ–≥-–Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї, –∞ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є — –Ї–∞–Ї –±–Њ–≥ –≤–Њ–є–љ—Л. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–∞—П —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є–Љ—П —Н—В–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞ —Б «–њ—Г–њ–Њ–Љ», –∞ –ґ–Є–≤–Њ—В, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ—Г–њ, –Є–Ј–і—А–µ–≤–ї–µ —Г –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П —Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Є–ї—Л –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–ї–µ. –Т—Б–µ —Н—В–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–љ—Л–µ –Є —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ, –≤–Ј—П—В—Л–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–∞–Љ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Ї—Г–ї—М—В –Ь–∞—В–µ—А–Є –°—Л—А–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є, —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Є –µ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї —Г –љ–∞—И–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ –Њ—З–µ–љ—М –і–∞–≤–љ–Њ, –µ—Й–µ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є.
–Т—В–Њ—А—Л–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–љ—Л–Љ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–Љ, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –С–∞–±–∞-—П–≥–∞ –Є–Ј —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–Ї–∞–Ј–Њ–Ї. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–∞ –і–∞–≤–љ–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –≤—Б–µ–ї—П—О—Й–Є—Е —Г–ґ–∞—Б –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞—Е —Б—К–µ–і–∞—О—В –Є–ї–Є –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П –њ–Њ–≥–ї–Њ—В–Є—В—М –і–µ—В–µ–є –Є–ї–Є —О–љ–Њ—И–µ–є, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤ –Є—Е —Б–≤—П–Ј—М —Б –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–љ—Л–Љ–Є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—Ж–Є—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є –µ—Й–µ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ. –Т –Є—Е —З–Є—Б–ї–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –≤–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –ґ–Є–≤—Г—Й–∞—П –≤ –≥–ї—Г—Е–Њ–Љ –ї–µ—Б—Г –Є –ґ–∞—А—П—Й–∞—П –і–µ—В–µ–є –≤ –њ–µ—З–Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–∞—П –С–∞–±–∞-—П–≥–∞. –°–ї–Њ–≤–µ–љ—Ж—Л –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Б—В—А–µ—З–Є –≤–µ—Б–љ—Л –њ–µ–ї–Є:
–Ч–µ–ї–µ–љ–Њ–≥–Њ –Ѓ—А–Є—П –≤–Њ–і–Є–Љ,
–Ь–∞—Б–ї–∞ –Є —П–Є—Ж –њ—А–Њ—Б–Є–Љ,
–С–∞–±—Г-—П–≥—Г –Є–Ј–≥–Њ–љ—П–µ–Љ,
–Р –≤–µ—Б–љ—Г –Љ—Л –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ!243
–Ш–Ј —Н—В–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ —Г —Б–ї–Њ–≤–µ–љ—Ж–µ–≤ –С–∞–±–∞-—П–≥–∞ –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–∞—Б—М —Б –Ј–Є–Љ–Њ–Є. –Т —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ –Р.–Э. –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–∞ «–Т–∞—Б–Є–ї–Є—Б–∞ –Я—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П» –С–∞–±–∞-—П–≥–∞ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ. –≠—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –µ–µ –Њ—В–≤–µ—В–Њ–≤ –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞–і–∞–µ—В –µ–є –≥–µ—А–Њ–Є–љ—П —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є: «–ѓ —Е–Њ—З—Г —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М —В–µ–±—П, –±–∞–±—Г—И–Ї–∞, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Є–і–µ–ї–∞: –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —И–ї–∞ –Ї —В–µ–±–µ, –Љ–µ–љ—П –Њ–±–Њ–≥–љ–∞–ї –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–µ, —Б–∞–Љ –±–µ–ї—Л–є –Є –≤ –±–µ–ї–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–µ: –Ї—В–Њ –Њ–љ —В–∞–Ї–Њ–є?» «–≠—В–Њ –і–µ–љ—М –Љ–Њ–є —П—Б–љ—Л–є», — –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–∞ –С–∞–±–∞-—П–≥–∞. «–Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–±–Њ–≥–љ–∞–ї –Љ–µ–љ—П –і—А—Г–≥–Њ–є –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї –љ–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–µ, —Б–∞–Љ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –Є –≤–µ—Б—М –≤ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ –Њ–і–µ—В; —Н—В–Њ –Ї—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є?» «–≠—В–Њ –Љ–Њ–µ —Б–Њ–ї–љ—Л—И–Ї–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ!» — –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–∞ –С–∞–±–∞-—П–≥–∞. «–Р —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В —З–µ—А–љ—Л–є –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–±–Њ–≥–љ–∞–ї –Љ–µ–љ—П —Г —Б–∞–Љ—Л—Е —В–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В, –±–∞–±—Г—И–Ї–∞?» — «–≠—В–Њ –љ–Њ—З—М –Љ–Њ—П —В–µ–Љ–љ–∞—П — –≤—Б—С –Љ–Њ–Є —Б–ї—Г–≥–Є –≤–µ—А–љ—Л–µ!»244 –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ, –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–≤–∞—О—Й–Є–є –і–љ–µ–Љ, –љ–Њ—З—М—О –Є –і–љ–µ–≤–љ—Л–Љ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ–Љ, –њ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –њ–∞–љ—В–µ–Њ–љ–µ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ. –Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Є –С–∞–±—Л-—П–≥–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–µ–ї—О—В –і–ї—П –љ–µ–µ –њ—И–µ–љ–Є—Ж—Г –Є –≤—Л–ґ–Є–Љ–∞—О—В –Є–Ј –Љ–∞–Ї–∞ –Љ–∞—Б–ї–Њ, —З—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –µ–µ —В–µ—Б–љ—Г—О —Б–≤—П–Ј—М —Б —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ–Љ. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –љ–∞ —Н—В—Г –ґ–µ —Б–≤—П–Ј—М —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–∞ –Њ —Б–Њ—Е–µ: «–С–∞–±–∞-—П–≥–∞, –≤–Є–ї–∞–Љ–Є –љ–Њ–≥–∞, –≤–µ—Б—М –Љ–Є—А –Ї–Њ—А–Љ–Є—В, —Б–∞–Љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–∞»245. –Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –С–∞–±–∞-—П–≥–∞ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П–Љ–Є, –љ–Њ –Є –Є–Љ–µ–ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ–µ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є. –Ф–∞–ґ–µ —Н—В–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –Њ–і–љ–Є–Љ–Є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—Ж–Є—П–Љ–Є –µ–µ —А–Њ–ї—М –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –∞ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –µ–µ —З–µ—А—В—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Г—О –С–∞–±—Г-—П–≥—Г –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ «—Б–љ–Є–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ» –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –±–Њ–≥–Є–љ—М.
–Т —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –±–ї–Є–ґ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–Њ–є –С–∞–±–µ-—П–≥–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П –љ–∞–Љ –њ–Њ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ –±–Њ–≥–Є–љ—П –Ь–Њ—А–∞–љ–∞, –Є–ї–Є –Ь–∞—А–ґ–∞–љ–∞. –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –ѓ. –Ф–ї—Г–≥–Њ—И –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В –µ–µ —Б–≤—П–Ј—М —Б –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є: «–Ф–Є–∞–љ–∞, –Ф–µ–≤–∞–љ–љ–∞ –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М –±–Њ–≥–Є–љ–µ–є –ї–µ—Б–Њ–≤, –¶–µ—А–µ—А–∞, –Ь–∞—А–Ј–∞–љ–љ–∞, –±–Њ–≥–Є–љ–µ—О —Е–ї–µ–±–љ—Л—Е —Г—А–Њ–ґ–∞–µ–≤...»246 –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є –Ф–ї—Г–≥–Њ—И –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї—П–ї –њ–Њ–ї—М—Б–Ї—Г—О –Ь–∞—А–ґ–∞–љ—Г —Б —А–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–µ–є –Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Є—П –¶–µ—А–µ—А–Њ–є, —В–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–µ—З–µ—И—Б–Ї–Є–µ –≥–ї–Њ—Б—Б—Л «Mater verborum» —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –Ь–Њ—А–∞–љ—Г —Б –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Ј–ї–Њ–≤–µ—Й–µ–є –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –У–µ–Ї–∞—В–Њ–є. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Ь–∞–≥–µ–њ–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М Smrt, Smrtka –Є –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М—О –Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—П–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —З–µ—И—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–∞: «–Ю—В –Ь–Њ—А–µ–љ—Л –љ–µ—В —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П». –Ю–±—Л—З–љ–Њ –Њ–љ–∞ –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П–ї–∞—Б—М –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ —З—Г—З–µ–ї–Њ–Љ, —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–Љ —Б–Љ–µ—А—В—М (–Љ–Њ—А) –Є –Ј–Є–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —В–Њ–њ–Є–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–∞–≤—П–љ–∞–Љ–Є –≤ —А–Є—В—Г–∞–ї–∞—Е –≤—Б—В—А–µ—З–Є –≤–µ—Б–љ—Л –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П —Г—А–Њ–ґ–∞—П. –£ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –±–Њ–≥–Є–љ–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Ж—Л: «–Ъ—Г–њ–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –і–µ—А–µ–≤–Њ –љ–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Ь–Њ—А–∞–љ–Њ–є (–Ь–∞—А–µ–љ–Њ–є, –Ь–∞—А–Њ–є), —В.–µ. –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞, –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П–≤—И–µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М, –Ј–Є–Љ—Г»247.
–†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —Н—В–Њ–є –≥–ї–∞–≤–µ —В—А–Є –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–Є—В–Є—П –Њ –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Г –љ–∞—И–Є—Е –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Ї—Г–ї—М—В –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–Є-–Ь–∞—В–µ—А–Є, —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б—П–Љ–Є –Є–ї–Є «—Б–љ–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є» –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞–Љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Ь–Њ–Ї–Њ—И—М, –Ь–∞—В—М –°—Л—А–∞ –Ч–µ–Љ–ї—П –Є –С–∞–±–∞- —П–≥–∞. –≠—В–∞ –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–µ–є—И–∞—П –±–Њ–≥–Є–љ—П –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є–ї—Л, –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–є –≤—Б–µ –Є –≤—Б—П –≤–Њ –Т—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є, –љ–Њ –Њ–љ–∞ –ґ–µ –±—Л–ї–∞ –Є –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Т –µ–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј—А–∞—Б—В–∞–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –ї—О–і–µ–є –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є –њ–ї–∞–љ–µ—В–µ, —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Є –Ї—А—Г–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ—В –≤–Њ–і, –љ–Њ –Є —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї —Б–Љ–µ–љ–∞ –і–љ—П –Є –љ–Њ—З–Є, –°–Њ–ї–љ—Ж–µ –Є –њ–ї–∞–љ–µ—В–∞ –Т–µ–љ–µ—А–∞. –Ъ—Г–ї—М—В –µ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є, –љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є—П –Њ–љ–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —Б –љ–Є–Љ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —В–µ—Б–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –Ъ–∞–Ї –Љ—Л –≤–Є–і–µ–ї–Є –≤—Л—И–µ, –≤ —А—П–і–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є, –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—П –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ю—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞, –Њ–љ–∞ —Г–Ј—Г—А–њ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ —Д—Г–љ–Ї—В—Ж–Є—О –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П –Њ—Е–Њ—В—Л –Є —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М—Б—П —Е–Њ–Ј—П–Ї–Њ–є –Ј–≤–µ—А–µ–є. –Т –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б—П—Е –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –±–Њ–≥–Є–љ–µ–є –ї—О–±–≤–Є –Є —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–≤—И–µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П—Е —Н—В–Њ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–Є –і–∞—О—В –Є–Љ–µ–љ–∞ —В—А–µ—Е —Б–µ—Б—В–µ—А –≤ —З–µ—И—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –і–Њ—З–µ—А–µ–є –Ъ—А–Њ–Ї–∞, —А–µ—З—М –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–є–і–µ—В –љ–Є–ґ–µ. –°—В–∞—А—И—Г—О –Ј–≤–∞–ї–Є –Ъ–∞–Ј–љ, –≤—В–Њ—А—Г—О — –Ґ—Н—В–Ї–∞, –Є –Љ–ї–∞–і—И—Г—О — –Ы–Є–±—Г—И–µ. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В, —З—В–Њ –Є–Љ—П –њ–µ—А–≤–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Њ –Њ—В –≥–ї–∞–≥–Њ–ї–∞ –Ї–∞–Ј–љ–Є—В—М, –Є–Љ—П
—В—А–µ—В—М–µ–є — –Њ—В –≥–ї–∞–≥–Њ–ї–∞ –ї—О–±–Є—В—М, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –Є–Љ—П —Б—А–µ–і–љ–µ–є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В —В–µ—В–Ї—Г, —Б—В–∞—А—И—Г—О —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж—Г-–ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г. –Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≤—Л–≤–Њ–і: «–Ш–Љ–µ–љ–∞ –і–≤—Г—Е —Б—В–∞—А—И–Є—Е —Б–µ—Б—В–µ—А —Б—Г—В—М —Б–Њ—Ж–Є–Њ–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є — —Б—В–∞—А—И–∞—П —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М—О –Є –Ј–∞–≥—А–Њ–±–љ—Л–Љ –Љ–Є—А–Њ–Љ, —Б—А–µ–і–љ—П—П –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В “—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г” —А–Њ–і—Г –Є —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ...»248, –∞ –Љ–ї–∞–і—И–∞—П, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ — –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –ї—О–±–≤–Є. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Љ–µ–љ–∞ —В—А–µ—Е —Б–µ—Б—В–µ—А –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Є —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–Є –≤ —З–µ—И—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–µ. –Т—Б—П —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М –і–∞–љ–љ—Л—Е —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞—И–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–µ–Ї–Њ–Љ.
–Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є –±–Њ–≥–Є–љ—М –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є —Г—Б—В–∞–≤ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–∞ —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И—Г—О —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ъ—А–µ—Й–µ–љ–Є—П –†—Г—Б–Є: «–Р—Й–µ –ґ–µ–љ–∞ –±—Г–і–µ—В—М —З–∞—А–Њ–і–µ–є- –љ–Є—Ж–∞ –Є–ї–Є –љ–∞—Г–Ј–љ–Є—Ж–∞ –Є –≤—К–ї—К—Е–≤–∞ –Є–ї–Є –Ј–µ–ї–µ–є–љ–Є—Ж–∞...»249 –Ю—В —В–µ—Е –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ –і–Њ –љ–∞—Б –і–Њ—И–ї–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –±–ї—П—И–Ї–µ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ї–і—Г–љ—М–Є —Б —А–Њ–≥–Њ–Љ (—А–Є—Б. 4). –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Є–Љ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –ґ—А–Є—Ж –љ–µ –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М. –Р—А–∞–±—Б–Ї–Є–є –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –Ш–±–љ-–§–∞–і–ї–∞–љ –Њ–њ–Є—Б–∞–ї –≤–Є–і–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Љ –ї–Є—З–љ–Њ –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥–µ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ—Л —А—Г—Б–∞, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–∞ —Г–±–Є—В–∞ –≤—Л–Ј–≤–∞–≤—И–∞—П—Б—П –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—В—М –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Ј–∞–≥—А–Њ–±–љ—Л–є –Љ–Є—А –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞: «–Х–µ –њ–Њ–і–≤–µ–ї–Є –Ї —Б—Г–і–љ—Г, –Њ–љ–∞ —Б–љ—П–ї–∞ –Ј–∞–њ—П—Б—В—М—П, –±—Л–≤—И–Є–µ –љ–∞ –љ–µ–є, –Є –њ–Њ–і–∞–ї–∞ –Є—Е —Б—В–∞—А–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –∞–љ–≥–µ–ї–Њ–Љ —Б–Љ–µ—А—В–Є, —Н—В–∞ –ґ–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ —Г–±–Є–≤–∞–µ—В –µ–µ. –Ч–∞—В–µ–Љ —Б–љ—П–ї–∞ –Њ–љ–∞ –њ—А—П–ґ–Ї–Є (–љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞), –±—Л–≤—И–Є–µ –љ–∞ –µ–µ –љ–Њ–≥–∞—Е, –Є –Њ—В–і–∞–ї–∞ –Є—Е –і–≤—Г–Љ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞–Љ, –њ—А–Є—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–≤—И–µ–Љ –µ–є; –Њ–љ–Є –ґ–µ –і–Њ—З–µ—А–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –њ–Њ–і –њ—А–Њ–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –∞–љ–≥–µ–ї–∞ —Б–Љ–µ—А—В–Є»250. –≠—В–Њ—В –ґ—Г—В–Ї–Њ–≤–∞—В—Л–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –љ–∞–Љ –С–∞–±—Г-—П–≥—Г, –∞ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –і–≤—Г—Е –µ–µ –і–Њ—З–µ—А–µ–є, —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤ —А–Є—В—Г–∞–ї–µ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ–∞—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –њ–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤—Г –Њ—В –Љ–∞—В–µ—А–Є –Ї –і–Њ—З–µ—А–Є.

–†–Є—Б.4 –Ф—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–ї–і—Г–љ—М—П —Б —А–Њ–≥–Њ–Љ
–Я–Њ—Б–ї–µ —Б–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞, –Њ —З–µ–Љ —А–µ—З—М –њ–Њ–є–і–µ—В –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є —З–∞—Б—В–Є, –Є —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—Б–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞, –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ –ґ—А–Є—Ж—Л —Б—В–∞–ї–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П —Г–ґ–µ –Ї–∞–Ї –≤–µ–і—М–Љ—Л. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Є—З–Є—В–∞–љ–Є—П —В–∞–Ї –Ї—А–∞—Б–Њ—З–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—В –Є—Е –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ:
–Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –і–µ–≤–Є—Ж–∞ –Я–Њ –±–Њ—А—Г —Е–Њ–і–Є–ї–∞,
–С–Њ–ї–µ—Б—В—М –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞,
–Ґ—А–∞–≤—Л —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–∞,
–Ъ–Њ—А–љ–Є –≤—Л—А—Л–≤–∞–ї–∞,
–Ь–µ—Б—П—Ж —Б–Ї—А–∞–ї–∞,
–°–Њ–ї–љ—Ж–µ —Б—К–µ–ї–∞.
–І—Г—А –µ–µ –Ї–Њ–ї–і—Г–љ—М—О,
–І—Г—А –µ–µ –≤–µ–і—Г–љ—М—О!251
–Ю –≤–ї–∞—Б—В–Є –Ї–Њ–ї–і—Г–љ–Є–є –љ–∞–і –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–Љ–Є —Б–≤–µ—В–Є–ї–∞–Љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Є –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є: «–С—Л–ї–Њ —Б–µ–ї–Њ (—А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –≤ –І–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ –і–Њ —В—Л—Б—П—З–Є –≤–µ–і—М–Љ; —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ –Ї—А–∞–ї–Є –Њ–љ–Є —Б–≤—П—В—Л–µ –Ј–≤–µ–Ј–і—Л –Є –і–Њ —В–Њ–≥–Њ –і–Њ–≤–µ–ї–Є –љ–µ–±–Њ, —З—В–Њ “–љ–Є—З–Є–Љ –±—Г–ї–Њ —Б–≤–Є—В–Є—В—М –љ–∞—И–Њ–Љ—Г –≥—А–Є—И–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г”. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –±–Њ–≥ –њ–Њ—Б–ї–∞–ї —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Р–љ–і—А–µ—П (–Ј–∞–Љ–µ–љ–∞ –Я–µ—А—Г–љ–∞), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г–і–∞—А–Є–ї —Б–≤–Њ–µ—О –њ–∞–ї–Є—Ж–µ—О — –Є –≤—Б–µ –≤–µ–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Б–µ–ї–Њ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –Ј–µ–Љ–ї—О.. .»252 –Х—Б–ї–Є –і–∞–ґ–µ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ «—Б–љ–Є–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ» –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ –≤–µ–і—М–Љ—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–∞—В—М—Б—П –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О, —В–Њ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –≤—Б–µ–Љ–Є –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–Љ–Є —П–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –С–Њ–≥–Є–љ—П-–Ь–∞—В—М —Н–њ–Њ—Е–Є –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞.
–Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ—Е–Њ–ґ—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –Є —Г –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ. –Ю –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–Љ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –ґ—А–µ—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Є —З–µ—И—Б–Ї–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П. –Ґ–∞–Ї, –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—П –і–Њ—З–µ—А–µ–є –Ъ—А–Њ–Ї–∞, –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –Ъ–Њ–Ј—М–Љ–∞ –Я—А–∞–ґ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В: «–°—В–∞—А—И–∞—П –њ–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ъ–∞–Ј–љ; –≤ –Ј–љ–∞–љ–Є–Є —В—А–∞–≤, –≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ –њ—А–Њ—А–Є—Ж–∞–љ–Є—П –Њ–љ–∞ –љ–µ —Г—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –Ь–µ–і–µ–µ –Ъ–Њ–ї—Е–Є–і—Б–Ї–Њ–є; –≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ –ґ–µ –≤—А–∞—З–µ–≤–∞–љ–Є—П — –Я–µ–Њ–љ–Є—О, –і–∞–ґ–µ –њ–∞—А–Њ–Ї (–±–Њ–≥–Є–љ—М —Б—Г–і—М–±—Л, –њ–µ—А–µ–і —Б–Љ–µ—А—В—М—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –њ–µ—А–µ—А–µ–Ј–∞—О—Й–Є—Е –љ–Є—В—М –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є.—–Ь. –°.) –Њ–љ–∞ —З–∞—Б—В–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–љ—З–∞–µ–Љ–Њ–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ.
–Т–Њ–ї—И–µ–±—Б—В–≤–Њ–Љ —Б—Г–і—М–±—Г –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–љ—М—П–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ. (...)
–Ф–Њ—Б—В–Њ–є–љ–∞ —Е–≤–∞–ї—Л –±—Л–ї–∞ –Ґ—Н—В–Ї–∞, —А–Њ–ґ–і–µ–љ—М–µ–Љ —Е–Њ—В—М –Є –≤—В–Њ—А–∞—П, –Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞ —В–Њ–љ–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Ї—Г—Б–∞, —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ, –±–µ–Ј –Љ—Г–ґ–∞ –ґ–Є–ї–∞.
(...)
–Ґ—Н—В–Ї–∞ –љ–∞—Г—З–Є–ї–∞ –≥–ї—Г–њ—Л–є –Є –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞—А–Њ–і –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ—П—В—М—Б—П –≥–Њ—А–љ—Л–Љ, –ї–µ—Б–љ—Л–Љ –Є –≤–Њ–і—П–љ—Л–Љ –љ–Є–Љ—Д–∞–Љ, –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –µ–≥–Њ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—Г–µ–≤–µ—А–Є—П—Е –Є –љ–µ—З–µ—Б—В–Є–≤—Л—Е –Њ–±—Л—З–∞—П—Е. (...) –Ґ—А–µ—В—М—П, –њ–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О —Б–∞–Љ–∞—П –Љ–ї–∞–і—И–∞—П, –љ–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–∞—П –≤—Б–µ—Е –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М—О, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ы–Є–±—Г—И–µ... –Є —Н—В–∞, —Б—В–Њ–ї—М —Б–ї–∞–≤–љ–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞... —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –љ–∞—А–Њ–і—Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –Є –њ—А–Є—В–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, —В–Њ –≤—Б–µ –њ–ї–µ–Љ—П, —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –µ–µ –Њ—В—Ж–∞ –љ–∞ –Њ–±—Й–Є–є —Б–Њ–≤–µ—В, –Є–Ј–±—А–∞–ї–Њ –Ы–Є–±—Г—И–µ —Б–µ–±–µ –≤ —Б—Г–і—М–Є»253. –Ч–∞—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ—А–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Ї —Н–њ–Њ—Е–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –Ї–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –њ–µ—Й–µ—А–љ–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ, –Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —Н–Ї—Б—В–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Є—Б—В–µ—А–Є–Є –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–њ–∞–ї–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—П–љ–Ї–µ –≤ –Ь–µ–Ј–Є–љ–µ. –Ю —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ —Н—В–Є –ґ—А–Є—Ж—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞, –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Ґ–∞—Ж–Є—В–∞ –Њ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Ж–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г —Е–Њ—В—М –Є –≤—Л—И–ї–Є –Є–Ј —Н—В–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є, –љ–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –µ–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В–Ї–Є: «–Т –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Т–µ—Б–њ–∞—Б–Є–∞–љ–∞ –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –Т–µ–ї—Г–і—Г, –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—З–Є—В–∞–≤—И—Г—О—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–∞–Ї –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ.. -»234
–Ъ–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П, –љ–Њ –Є –Њ–±—Й–µ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П, –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б–Њ –Ј–Љ–µ—П–Љ–Є. –Т –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б–∞–Љ–∞—П –њ–µ—А–≤–∞—П –±–Њ–≥–Є–љ—П, –Ч–µ–Љ–ї—П-–У–µ—П, —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В «—Г–ґ–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Љ–µ—П-–і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞» –Ґ–Є—Д–Њ–љ–∞, —З—Г—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ–Њ–±–µ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Ч–µ–≤—Б–∞, –∞ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —А–Њ–і–Є–ї–∞ –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Ы–∞–і–Њ–љ–∞, –і–µ–≤—Г-–Ј–Љ–µ—О –≠—Е–Є–і–љ—Г –Є –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Я–Є—Д–Њ–љ–∞. –Т–љ—Г—З–Ї–Њ–є –У–µ–Є –±—Л–ї–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–∞—П –Ь–µ–і—Г–Ј–∞ –У–Њ—А–≥–Њ–љ–∞, –њ–Њ–Ї—А—Л—В–∞—П —З–µ—И—Г–µ–є –Є —Б–Њ –Ј–Љ–µ—П–Љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –≤–Њ–ї–Њ—Б. –°–Њ –Ј–Љ–µ—П–Љ–Є –≤ –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞—Е –Є–ї–Є –≤ —А—Г–Ї–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї–∞—Б—М –Є –љ–Њ—З–љ–∞—П –±–Њ–≥–Є–љ—П –У–µ–Ї–∞—В–∞. –°–≤—П–Ј—М –±–Њ–≥–Є–љ—М —Б —Н—В–Є–Љ –њ—А–µ—Б–Љ—Л–Ї–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –±—Л–ї–∞ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ—З–љ–∞, —З—В–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –і–∞–ґ–µ —Г –±–Њ–≥–Є–љ—М –Њ–ї–Є–Љ–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞–љ—В–µ–Њ–љ–∞. –Т –Њ—А—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Є–Љ–љ–µ (–•–•–•–Я, 11) –Р—Д–Є–љ–∞ –Я–∞–ї–ї–∞–і–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ј–Љ–µ–µ–є, –≤ –µ–µ —Е—А–∞–Љ–µ –љ–∞ –∞—Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Р–Ї—А–Њ–њ–Њ–ї–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П –Ј–Љ–µ—П, –∞ –°–Њ—Д–Њ–Ї–ї —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї —Н—В—Г –±–Њ–≥–Є–љ—О –Ї–∞–Ї «–ґ–Є–≤—Г—Й—Г—О —Б–Њ –Ј–Љ–µ–µ–є». –Ч–Љ–µ–є –Ї–∞–Ї –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В –Є —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ч–µ–≤—Б–∞ –У–µ—А–∞, –њ–Њ—Б—Л–ї–∞—П –Є—Е –Ј–∞–і—Г—И–Є—В—М –љ–Њ–≤–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –У–µ—А–∞–Ї–ї–∞ –≤ –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї–Є. –Я–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П —Б–≤—П–Ј—М –±–Њ–≥–Є–љ—М —Б–Њ –Ј–Љ–µ—П–Љ–Є –љ–µ –±—Л–ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –ї–Є—И—М –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–Њ–є, –∞ —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Г –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤. –Ъ—А–Є—В—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞—В—Г—Н—В–Ї–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О—В –±–Њ–≥–Є–љ—М –Є–ї–Є –ґ—А–Є—Ж —Б–Њ –Ј–Љ–µ—П–Љ–Є, –∞ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ—О—О —Н–њ–Њ—Е—Г –≤ –У—А–µ—Ж–Є–Є —В–µ—Б–љ–Њ –±—Л–ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б–Њ –Ј–Љ–µ—П–Љ–Є –Є –≤–∞–Ї—Е–∞–љ–Ї–Є, —Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –±–Њ–≥–∞ –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–∞. –Х–≤—А–Є–њ–Є–і —В–∞–Ї –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –Њ—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е «—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј—Г–Љ–Є–µ–Љ» –ґ–µ–љ—Й–Є–љ:
–Ш, –ї–µ–≥–Ї–Є–є —Б–Њ–љ —Б–≥–Њ–љ—П—П —Б –≤–µ–ґ–і, –≤—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–Є –Т–∞–Ї—Е–∞–љ–Ї–Є –љ–∞ –љ–Њ–≥–Є — –≤—Б–µ —З—Г–і–Њ –Ї–∞–Ї —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л.
–°—В–∞—А—Г—Е–Є, –ґ–µ–љ—Л –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –Є –і–µ–≤–Є—Ж—Л...
–°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ї—Г–і—А–Є —А–∞—Б–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В –њ–Њ –њ–ї–µ—З–∞–Љ,
–Р —Г –Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ–±—А–Є–і–∞ —А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–∞—Б—М,
–Ґ–µ –њ–Њ–і–≤—П–Ј–∞—В—М —Б–њ–µ—И–∞—В –Є –њ–µ—Б—В—А–Њ–є –ї–∞–љ–Є –Ю–њ—П—В—М –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤ –Ј–Љ–µ–µ—О –њ–Њ–і–њ–Њ—П—Б–∞—В—М.
–Ш –Ј–Љ–µ–Є –Є–Љ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –ї–Є–ґ—Г—В —Й–µ–Ї–Є255.
–Ю–±—А–∞—В–Є–≤—И–Є—Б—М –Ї –і—А—Г–≥–Є–Љ –љ–∞—А–Њ–і–∞–Љ, –Љ—Л —Г–≤–Є–і–Є–Љ, —З—В–Њ –Ј–Љ–µ–µ–љ–Њ–≥–Њ–є –±—Л–ї–∞ –Є –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–∞—П –±–Њ–≥–Є–љ—П —Б–Ї–Є—Д—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞–љ—В–µ–Њ–љ–∞, –њ–Њ—З–Є—В–∞–≤—И–∞—П—Б—П –Ї–∞–Ї –њ—А–∞—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞. –°–Њ –Ј–Љ–µ—П–Љ–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –Є –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–∞—П —В–∞–љ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –±–Њ–≥–Є–љ—П. –Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Є –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–µ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Ї–∞–Ї —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б–ї–Њ–≤ –Ј–Љ–µ—П –Є –Ј–µ–Љ–ї—П, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ—А–µ—Б–Љ—Л–Ї–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –±—Л–ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –Ь–∞—В–µ—А—М—О –°—Л—А–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–µ–є, —В–∞–Ї –Є —В–Њ, —З—В–Њ –≤ —А—П–і–µ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Є–љ—Л –Њ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–µ –Я–Њ—В–Њ–Ї–µ –≤ –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ –≤ –Ј–Љ–µ—О –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ–∞ –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–∞ –Ь–∞—А—М—П, –±—Л–≤—И–∞—П «—А–Њ–і—Г –Ј–Љ–µ–Є–љ–Њ–≥–Њ», –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≥–µ—А–Њ–є —А—Г–±–Є—В –љ–∞ —З–∞—Б—В–Є. –Т —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ «–Ю—А–Њ–љ-–≤–µ—А–љ—Л–є» —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–Є–≤–∞—П —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–ї–µ–љ–µ–љ–љ—Л—Е –±—А–∞—В—М–µ–≤, –Ш–≤–∞–љ-—Ж–∞—А–µ–≤–Є—З –≤—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤ —Б—Е–≤–∞—В–Ї—Г —Б –С–∞–±–Њ–є-—П–≥–Њ–є: «–ѓ–≥–∞-–±–∞–±–∞ –≤–Є–і–Є—В, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —Е–Є—В—А–Њ—Б—В—М—О –љ–µ –≤–Ј—П—В—М, —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –Є–Ј –Ї–Њ—И–µ–ї—П –і–≤–µ –Ј–Љ–µ–Є; –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –љ–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞-—Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–∞. –Ч–Љ–µ–Є —И–Є–њ—П—В, –Њ–≥–љ–µ–Љ –њ–∞–ї—П—В. –Ш–≤–∞–љ-—Ж–∞—А–µ–≤–Є—З –≤–Ј—П–ї –Љ–µ—З- –Ї–ї–∞–і–µ–љ–µ—Ж, –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –Љ–∞—Е–љ—Г–ї — –Ј–Љ–µ—П–Љ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л —Б–љ—П–ї. –°—Е–≤–∞—В–Є–ї –С–∞–±—Г-—П–≥—Г, –і–∞–≤–∞–є –њ—А–∞–≤–і—Г –њ—Л—В–∞—В—М. –Ґ—Г—В –Њ–љ–∞ –Є –њ–Њ–Ї–∞—П–ї–∞—Б—М. –Ю–љ –µ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г —Б–љ–µ—Б»256. –≠—В–∞ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В –љ–∞—Б –Ї —Н–њ–Њ—Е–µ –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Е–≤–∞—В–Њ–Ї, –њ—А–Є–≤–µ–і—И–Є—Е –Ї —Б–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—О –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞ –Є, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –ґ—А–Є—Ж—Л –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Є —А—Г—З–љ—Л–Љ–Є –Ј–Љ–µ—П–Љ–Є –љ–∞–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–µ–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–∞–Ї—Е–∞–љ–Њ–Ї. –Т —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–∞—Е –Ј–Љ–µ—П –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Б –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М –µ–≥–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞: «–°–≤–∞—Е–∞ –ї—Г–Ї–∞–≤–∞—П, –Ј–Љ–µ—П —Б–µ–Љ–Є–≥–ї–∞–≤–∞—П!»; «–Ы—Г—З—И–µ –ґ–Є—В—М —Б–Њ –Ј–Љ–µ–µ—О, —З–µ–Љ —Б–Њ –Ј–ї–Њ—О –ґ–µ–љ–Њ—О»; «–Ч–ї–∞—П –ґ–µ–љ–∞ —В–∞ –ґ–µ –Ј–Љ–µ—П»; «–Ш–Ј –і–Њ–Љ—Г –ґ–µ–љ–∞, –Є–Ј –ї–µ—Б—Г –Ј–Љ–µ—П –≤—Л–ґ–Є–≤–∞—О—В».
–Ґ–µ—Б–љ–µ–є—И–∞—П —Б–≤—П–Ј—М —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б–Љ—Л–Ї–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Ї–∞–Ї —Б –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–µ–є, —В–∞–Ї –Є —Б–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є –µ–µ –Ї—Г–ї—М—В–∞ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ј–Љ–µ–µ–є –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ –Њ–±–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Є –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б–≤–µ—А—Е—К–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л. –Т —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ «–Ю –ї—П–≥—Г—И–Ї–µ –Є –±–Њ–≥–∞—В—Л—А–µ» –Т–∞—Б–Є–ї–Є—Б–∞ –Я—А–µ–Љ—Г–і—А–∞—П –Њ–±–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї—П–≥—Г—И–Ї–Њ–є, –љ–Њ –Є –Ј–Љ–µ–µ–є: «–Ш–≤–∞–љ-–±–Њ–≥–∞—В—Л—А—М –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б–≥–∞ –Є –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї —В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї–Њ –Ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є—Б–µ –Я—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ–є –Є —Г—Е–≤–∞—В–Є–ї –µ–µ –Ј–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, —З—В–Њ –≤–Є–і—П, –Њ–љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ–±–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П –ї—П–≥—Г—И–Ї–Њ—О, –ґ–∞–±–Њ—О, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –Ј–Љ–µ–µ—О»257. –Т –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–∞–≥–µ –Њ –Ґ–Є–і—А–µ–Ї–µ –С–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–Љ, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–є –Њ—В–Ј–≤—Г–Ї–Є —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–∞ –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –≤–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤-–≤–µ–ї–µ—В–Њ–≤ –Т–Є–ї—М—В–Є–љ–∞ –µ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–ї–Є –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є–ї —Б–µ–±–µ –У–µ—А—В–љ–Є—В, –≤–ї–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М –†—Г—Б–Є. «–Х–≥–Њ –ґ–µ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Ю—Б—В–∞—Ж–Є—П, –і–Њ—З—М –†—Г–љ—Л, –Ї–Њ–љ—Г–љ–≥–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞. –Х–µ –Љ–∞—З–µ—Е–∞ –±—Л–ї–∞ —В–∞–Ї –Є—Б–Ї—Г—Б–љ–∞ –≤ —З–∞—А–∞—Е, —З—В–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–ї–і–Њ–≤–∞–ї–∞ –µ–µ –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ –µ–є —Б–≤–Њ–µ –Ї–Њ–ї–і–Њ–≤—Б—В–≤–Њ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ –≤–µ—Й–µ–є, –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–ґ–і–µ –љ–µ–µ –µ–µ –Љ–∞—З–µ—Е–∞». –Ш —Н—В–Њ —Г–Љ–µ–љ–Є–µ –ґ–µ–љ—Л –Ї–Њ–ї–і–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—О –†—Г—Б–Є —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–ї–∞—Б—В–љ—Л–µ –µ–Љ—Г –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є –љ–∞–њ–∞–і–∞–µ—В –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є—П –Є–Ј —В—А–µ—Е –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Г–љ–≥–Њ–≤. –Ф–ї—П –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Г–≥—А–Њ–Ј—Л –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –≤–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤ –Є —А—Г—Б–Њ–≤ –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј—Г–µ—В –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є —Б–Є–ї—Л: «–Ч–∞—В–µ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Њ—Б—М –Ї –Ї–Њ–љ—Г–љ–≥—Г –У–µ—А- —В–љ–Є–і—Г –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ. –Р –µ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –Ю—Б—В–∞—Ж–Є—П –≤—Л—И–ї–∞ –Є –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –і—Г—Е–Њ–≤, —В–∞–Ї –Љ—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –њ–Њ—И–ї–∞ –Ї–Њ–ї–і–Њ–≤–∞—В—М... –Ґ–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —З–∞—А–∞–Љ–Є –Є –Ї–Њ–ї–і–Њ–≤—Б—В–≤–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞–≤–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї–∞ –Ї —Б–µ–±–µ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Ј–≤–µ—А–µ–є, –ї—М–≤–Њ–≤ –Є –Љ–µ–і–≤–µ–і–µ–є, –Є –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –ї–µ—В—Г—З–Є—Е –і—А–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤. –Ю–љ–∞ —Г–Ї—А–Њ—В–Є–ї–∞ –Є—Е –≤—Б–µ—Е –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –µ–µ —Б–ї—Г—И–∞–ї–Є—Б—М, –Є –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є—В—М –Є—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤—А–∞–≥–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –≤ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ–µ—Б–љ—П—Е, —З—В–Њ –µ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –і—М—П–≤–Њ–ї–∞, –∞ —Б–∞–Љ–∞ –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –љ–∞–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –ї–µ—В—Г—З–µ–≥–Њ –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞»^58. –Я—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –ґ–µ–љ—Л –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –≤ –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞ –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞–Љ —В–µ—Б–љ–µ–є—И—Г—О —Б–≤—П–Ј—М –Ї–Њ–ї–і—Г–љ–Є–є –Є –ґ—А–Є—Ж —Б —Н—В–Є–Љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–Љ —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–Є-–Ь–∞—В–µ—А–Є.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤, –љ–Њ –Є —Г –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —И–∞—А–∞, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ј–Љ–µ—П –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ –Ї–∞–Ї –≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ–Њ–µ, –∞ –Ї–∞–Ї –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –љ–∞—З–∞–ї–Њ, —З–µ–Љ –Є –±—Л–ї–∞ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –µ–µ —Б–≤—П–Ј—М —Б –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –≤ —В—А–Є–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —А–∞–љ–љ–µ–Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, –С.–Р. –†—Л–±–∞–Ї–Њ–≤ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В: «–Э–∞ —А–∞–љ–љ–µ—В—А–Є–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Б—В–∞—В—Г—Н—В–Ї–∞—Е —В–∞–Ї–∞—П –ґ–µ –њ–∞—А–∞ –Ј–Љ–µ–є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–∞, –≥–і–µ –Ј–Љ–µ–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є —З—А–µ–≤–∞, –≤—Л–љ–∞—И–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ–ї–Њ–і. –Ю—В–≤–µ—В –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ: —В—А–Є–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Ј–Љ–µ–Є—–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –і–Њ–±—А–∞, —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї–Є –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ»259. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –Њ–і–Є–љ —И–∞–≥ –і–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Љ–Є—Д–∞ –Њ –±—А–∞–Ї–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–Є, —Б–Њ –Ј–Љ–µ–µ–є. –Ш —Н—В–Њ—В —И–∞–≥ –±—Л–ї —Б–і–µ–ї–∞–љ. –Т –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Љ–Є—Д –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ч–µ–≤—Б, –њ—А–Є–љ—П–≤ –≤–Є–і –Ј–Љ–µ—П, –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –±—А–∞–Ї —Б –У–µ—А–Њ–є. –Т –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–Є—Д–µ –≥–ї–∞–≤–∞ –±–Њ–≥–Њ–≤, –Њ–±–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –і—А–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ, –Њ–≤–ї–∞–і–µ–≤–∞–µ—В —Б–≤–Њ–µ–є –і–Њ—З–µ—А—М—О –Я–µ—А—Б–µ—Д–Њ–љ–Њ–є.
–Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—О—В, —З—В–Њ –≥–ї–∞–≤–∞ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞–љ—В–µ–Њ–љ–∞ –Ч–µ–≤—Б –ї–Є—И—М —Г–Ј—Г—А–њ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Љ–µ—Б—В–Њ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Љ—Г–ґ–∞ –Ь–∞—В–µ—А–Є-–Ч–µ–Љ–ї–Є, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –Є –њ–Њ–љ–∞–і–±–Є–ї–Њ—Б—М –≤–≤–Њ–і–Є—В—М –Љ–Њ—В–Є–≤ –µ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є—П –і—А–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ. –£ —Б–ї–∞–≤—П–љ –Њ—В–≥–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ–Љ —Н—В–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М —Б–Ї–∞–Ј–Ї—Г «–Ь—Г–ґ-—Г–ґ», –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Г—О —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–∞–Љ–Є –≤ –Я–Њ–ї–µ—Б—М–µ. –Т –љ–µ–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –њ–Њ—И–ї–∞ –Ї—Г–њ–∞—В—М—Б—П, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М, —В–Њ —Г–≤–Є–і–µ–ї–∞, —З—В–Њ –љ–∞ –µ–µ –Њ–і–µ–ґ–і–µ —Б–Є–і–Є—В —Г–ґ. –Ч–Љ–µ–є —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–µ—В—Б—П –Њ—В–і–∞—В—М –µ–є –Њ–і–µ–ґ–і—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–љ–µ—В –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–Њ–є. –Ю–љ–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–µ—В—Б—П –Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Ј–∞–Љ—Г–ґ –Ј–∞ —Г–ґ–∞, —Г –љ–Є—Е —А–Њ–ґ–і–∞—О—В—Б—П –і–µ—В–Є, –љ–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –±—А–∞—В—М—П –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є —Г–±–Є–≤–∞—О—В —Г–ґ–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Њ–љ–∞ —Б –≥–Њ—А—П –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ї—Г–Ї—Г—И–Ї—Г –Є –Ї—А–Є–Ї–Њ–Љ «–Ї—Г-–њ–Є–љ» –Ј–Њ–≤–µ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –Љ—Г–ґ–∞. –Т —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ —Б—В–Њ–Є—В –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–Є «–Ц–µ–љ–∞ –і–∞ –Љ—Г–ґ — –Ј–Љ–µ—П –і–∞ —Г–ґ», –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞—О—Й–µ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–≤, —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –Њ–і–љ–Њ–є –њ–Њ—А–Њ–і—Л. –Т —П–≤–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ —Б—О–ґ–µ—В –±—А–∞–Ї–∞ —Б–Њ –Ј–Љ–µ–µ–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Є –≤ –±—Л–ї–Є–љ–µ –Њ –Т–Њ–ї—Е–µ –Т—Б–µ—Б–ї–∞–≤—М–µ–≤–Є—З–µ, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Б–≤–µ—В –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–љ—П–Ј—М-–Њ–±–Њ—А–Њ—В–µ–љ—М. –°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ —Н—В–∞–њ–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Н—В–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Є—Д—Л –Њ –њ–Њ—Е–Є—Й–µ–љ–Є–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Ј–Љ–µ–µ–Љ –Є–ї–Є –і—А–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є—Е –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ –Є—В–Њ–≥–µ —Б–њ–∞—Б–∞–µ—В –≥–µ—А–Њ–є-–Ј–Љ–µ–µ–±–Њ—А–µ—Ж. –Т—Б–µ —Н—В–Є –Љ–Є—Д—Л —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М —Г–ґ–µ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞, –∞ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Ј–Љ–µ–є —П–≤–ї—П–ї—Б—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Љ—Г–ґ–µ–Љ –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є. –Я—А–Є –Ї–∞—А–і–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Љ–µ–љ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е –њ—А–Є–Њ—А–Є—В–µ—В–Њ–≤ –њ—А–µ–ґ–љ–Є–є –Љ—Г–ґ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ј–ї–Њ–і–µ–µ–Љ-–њ–Њ—Е–Є—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞–µ—В –љ–Њ–≤—Л–є –≥–µ—А–Њ–є, –Њ—В–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–є —Г –љ–µ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Г.
–Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –Ь–∞—В–µ—А–Є-–Ч–µ–Љ–ї–Є –Є —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—П –µ–µ —З—А–µ–≤–∞ –Ј–Љ–µ–є –≤ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї —Ж–µ–ї—Л–Љ —А—П–і–Њ–Љ –і—А—Г–≥–Є—Е —З–µ—А—В, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М—О –Є –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ–Љ. –Ч–Љ–µ–Є –Њ–±–Є—В–∞–ї–Є —Г –≤–Њ–і—Л, –∞ —Н—В–∞ —Б—В–Є—Е–Є—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б –Љ–Є—А–Њ–Љ –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е. –≠—В–Є—Е –њ—А–µ—Б–Љ—Л–Ї–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї –≤–Њ–ї–љ–Є—Б—В–Њ–є –ї–Є–љ–Є–µ–є, —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї –≤–Њ–і—Г. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Г —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ —А—П–і–∞ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ —Г–Љ–µ—А—И–Є–µ –њ—А–µ–і–Ї–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В —Д–Њ—А–Љ—Г –Ј–Љ–µ–є. –≠—В–Њ –њ–Њ–≤–µ—А—М–µ –±—Л–ї–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Њ –љ–∞ –Р—Д—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–µ, –∞ —Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ —Г –ї–Є—В–Њ–≤—Ж–µ–≤, –≥—А–µ–Ї–Њ–≤ –Є —А–Є–Љ–ї—П–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –ї–∞—А–Њ–≤ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ, –Є –≤ –Ј–Љ–µ–Є–љ–Њ–Љ –Њ–±–ї–Є–Ї–µ. –Ъ –љ–Є–Љ –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞–µ—В –Є –Њ—Б–µ—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–≤–µ—А—М–µ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Љ—П—Б–Њ –Ј–Љ–µ–Є –Њ–±–љ–Њ–≤–ї—П–µ—В —Б—В–∞—А–µ—О—Й–Є–µ –і—Г—И–Є —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е. –Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–µ –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –Є —Г —З–∞—Б—В–Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ: «–С–µ–ї–Њ—А—Г—Б –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–µ–±–µ –і–Њ–Љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–µ –Ј–Љ–µ–Є, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –Є –њ–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О —Б—З–Є—В–∞–µ—В –µ–≥–Њ –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ –Ј–Љ–µ–µ–є»260. –Т –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–є —Б –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–µ–є –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ –µ—Б—В—М –і–Њ–Љ–Њ–≤–∞—П –Ј–Љ–µ—П –Є –±–µ–Ј —В–∞–Ї–Њ–є –Ј–Љ–µ–Є –і–Њ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Т –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–≤–µ—А—М—П—Е XIX –≤. –і–Њ–Љ–Њ–≤–Њ–є –≤ –Њ–±–ї–Є–Ї–µ –Ј–Љ–µ—П-—Ж–Љ–Њ–Ї–∞ –љ–Њ—Б–Є—В —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Е–Њ–Ј—П–Є–љ—Г –і–µ–љ—М–≥–Є, –і–µ–ї–∞–µ—В –µ–≥–Њ –љ–Є–≤—Л –њ–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є, –Ї–Њ—А–Њ–≤ –і–Њ–є–љ—Л–Љ–Є –Є –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В –Ј–∞ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ –≤ –і–Њ–Љ–µ. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–Є –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –і—А–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –≤ —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —З–∞—Б—В–Њ —Г–Ї—А–∞—И–∞—О—В —Б–Њ–±–Њ–є —А—Г—З–Ї–Є –Ї–Њ–≤—И–µ–є, –Ї—А–Њ–≤–ї–Є –і–Њ–Љ–Њ–≤ –Є —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ –ґ–µ–Ј–ї—Л. –Ъ–∞—Б–∞—П—Б—М –њ—А–Є—З–Є–љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞ –љ–∞ —Б–Њ—Б—Г–і—Л –і–ї—П –≤–Њ–і—Л, –Т.–Ь. –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В: «–Ь—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ —В–Њ—З–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ј–Љ–Є—П-–і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞, –љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –і–Њ–≥–∞–і—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ, –Є–љ–∞—З–µ –љ–µ —Б—В–∞–ї–Є –±—Л –і–µ—А–ґ–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –і–Њ–Љ–µ –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж—Л, –љ–µ —Б—В–∞–ї–Є –±—Л —Г–Ї—А–∞—И–∞—В—М –µ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –±—Л—В–∞ — –Ї–Њ–≤—И–Є, —Б–Њ—Б—Г–і—Л –і–ї—П –≤–Њ–і—Л, –±—А–∞–≥–Є –Є –Љ–µ–і–∞. <...> –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–Љ–Є–µ–≤-–і—А–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –љ–µ —Б—А–∞–Ј—Г —Г—И–ї–Њ –Є–Ј –±—Л—В–∞ –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж–µ–≤, –≥–і–µ –Њ–љ–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –±—Л–ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–Њ –Є —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ –Њ–±–µ—А–µ–≥–Њ–Љ: –Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Є –Њ—В –Ј–ї–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є—О»261. –Т—Б–µ —Н—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞ –Ј–Љ–µ–є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—Ж–∞–Љ –Є —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—П –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –Ј–Љ–µ–µ –±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ, –Э.–Э. –Т–µ–ї–µ—Ж–Ї–∞—П –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В: «–Ш–Ј —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ –љ–µ–Љ –і–ї—П –љ–∞—Б –≤–∞–ґ–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞: —Б–≤—П–Ј—М —Б –Љ–Є—А–Њ–Љ –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤, —Б –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ “—В–µ–Љ —Б–≤–µ—В–Њ–Љ”; —Б–≤–µ—А—Е—К–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Є–µ, –Ї–∞–Ї —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –Є –Ј–Љ–µ–µ–Љ, –≤–љ–µ—И–љ–Є–µ –∞—В—А–Є–±—Г—В—Л —В–Њ–≥–Њ –Є –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ... –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П –Ј–Љ–µ—П — –Љ–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Ї–∞, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ–Њ-–±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ–Љ–Њ–є –Є–Љ –Њ–±—Й–Є–љ—Л –Њ—В —Б—В–Є—Е–Є–є–љ—Л—Е –±–µ–і—Б—В–≤–Є–є, –Њ—Е—А–∞–љ–µ –њ–Њ—Б–µ–≤–Њ–≤ –Є –љ–Є—Б–њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–Є –љ–∞ –љ–Є—Е –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞–≥–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ, –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ–≥–Њ, —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–Љ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–∞. –†–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–є —Г —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Љ–Њ—В–Є–≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–Љ–µ—П –Ї –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ, —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є–Љ –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–µ –Ї—А–∞—Б–∞–≤—Ж–∞, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Є–Ј –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–Є –≤ –Њ—З–∞–≥–µ, —Г —О–ґ–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —П—А–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —Н–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—В–Є–≤–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б–∞–Љ—Л—Е –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —О–љ–∞–Ї–Њ–≤ –Њ—В –Ј–Љ–µ—П — –ї—О–±–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л»262. –£–ґ–µ —Б –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Њ–є –і–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –≤ –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б—В–∞—А–Њ–Њ–±—А—П–і—Ж–µ–≤, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –љ–µ—З–µ—Б—В–Є–≤—Л—Е –ї—О–і–µ–є –Є—Е –і—Г—И–Є –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї—П—О—В—Б—П –≤ «—Б–Ї–Њ—В–Њ–≤, –≥–∞–і–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ—З–µ–µ», –∞ –Є–Ј –љ–Є—Е –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П—В –≤–љ–Њ–≤—М –≤ –і—Г—И–Є –љ–Њ–≤–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–µ–≤. –Т —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ —Н—В–Є –і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, —З—В–Њ –Є —Г —Б–ї–∞–≤—П–љ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –Ј–Љ–µ—П—Е, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–Є –і—Г—И —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–Љ–µ–Є –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Є –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–µ–Љ, —З–µ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ. –Ю —Б–≤—П–Ј–Є –Ј–Љ–µ–Є —Б –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ–Љ –≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –±—Л–ї–Є–љ–∞ –Њ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ –Я–Њ—В—М–њ—Б–µ, –≥–і–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ «–Ј–Љ–µ—П –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–∞—П» –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В –≥–µ—А–Њ—О –ґ–Є–≤—Г—О –≤–Њ–і—Г, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ, –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞, –Њ–ґ–Є–≤–ї—П–µ—В —Б–≤–Њ—О —Г–Љ–µ—А—И—Г—О —Б—Г–њ—А—Г–≥—Г. –Т –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є –Њ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—Б–µ-–Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Ї–Њ—Б–µ –ґ–Є–≤–∞—П –≤–Њ–і–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ј–Љ–µ–Є–љ–Њ–є263. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –Ј–Љ–µ—П—Е –Ї–∞–Ї —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—П—Е –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є—П —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –∞—А—Е–∞–Є—З–љ—Л –Є –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—В –Ї —Н–њ–Њ—Е–µ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Є –њ—А–µ—Б–Љ—Л–Ї–∞—О—Й–Є–µ—Б—П —Б—З–Є—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –ї—О–і–µ–є, –∞ –Є—Е –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є. –Ю—Б–Њ–Ј–љ–∞—О—Й–Є–є —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–µ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Ј–Љ–µ–є –љ–∞–і —Б–Њ–±–Њ–є –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є. –Т —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ —Н—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ј–Љ–µ–Є —Б—В–∞–ї–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї –≤–ї–∞–і–µ—О—Й–Є–µ —В–∞–є–љ–∞–Љ–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є —Б–Љ–µ—А—В–Є –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Ј–∞—А—Г—З–Є—В—М—Б—П –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ –Ї–∞–Ї –≤ —Н—В–Њ–Љ, —В–∞–Ї –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –Ј–∞–≥—А–Њ–±–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ.
–Ы–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ —Н—В–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є —Б—В–∞–ї–Њ –Њ—В–і–∞–љ–Є–µ —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–і –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ј–Љ–µ—П –Ї–∞–Ї –Њ–±–ї–∞–і–∞—В–µ–ї—П –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є—П –Є –Њ–±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Ї–∞ –≤ –Ј–∞–≥—А–Њ–±–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ. –Т —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —П–≤–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П —Г–ґ–µ —Б—А—Г–±–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ —Н–Љ–±—А–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –≤ —З—А–µ–≤–µ –Ь–∞—В–µ—А–Є-–Ч–µ–Љ–ї–Є. –Ґ–∞–Ї, –≤ –Ї—Г—А–≥–∞–љ–µ –±–ї–Є–Ј —Е—Г—В. –Ф—Г—А–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–µ —А. –•–Њ–њ—А–∞ –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —Б–Њ —Б–Ї–Њ—А—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ—Б—В—П–Ї–Њ–Љ –Є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–≤—И–Є–Љ–Є –µ–≥–Њ —В—А–µ–Љ—П –Ї–Њ—Б—В—П–Ї–∞–Љ–Є –Ј–Љ–µ–є: «–Я–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Ї–Є –Њ–і–љ–Њ–є –Ј–Љ–µ–Є –±—Л–ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –ї–µ–≥–Ї–Є–Љ –Ј–Є–≥–Ј–∞–≥–Њ–Љ –≤ –љ–Њ–≥–∞—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Ј–∞ –њ–ї–Є—В–Ї–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Ї–Є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Ї–Є –і—А—Г–≥–Њ–є –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –Ї–ї—Г–±–Ї–Њ–Љ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –≥—А—Г–і–Є, –Є —В—А–µ—В—М–µ–є — —А–µ–Ј–Ї–Є–Љ–Є –Ј–Є–≥–Ј–∞–≥–∞–Љ–Є —Г —Б–њ–Є–љ—Л, –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –Ї –Ї—Г—Б–Ї—Г –Ї—А–∞—Б–Ї–Є». –Я—А–Є —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–µ –Ї—Г—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –Ґ—А–Є –С—А–∞—В–∞ —Г –≠–ї–Є—Б—В—Л –≤ –Ї—Г—А–≥–∞–љ–µ вДЦ 9 –љ–∞–є–і–µ–љ—Л «—Б–Ї–µ–ї–µ—В—Л –і–≤—Г—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Ј–Љ–µ–є», –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Ї—Г—А–≥–∞–љ–µ —В–Њ–є –ґ–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л — –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–∞—П –±—Г–ї–∞–≤–Ї–∞ —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–Љ–µ–є264. –≠—В–Є –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–Њ–ї–Є –Ј–Љ–µ–є –≤ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —А–Є—В—Г–∞–ї–µ —Б—А—Г–±–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –і–ї—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Н—В–∞ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —О–≥–µ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, –љ–Њ –µ—Й–µ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–∞ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ї–∞–≤—П–љ–∞–Љ –Є—А–∞–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л–Љ —Б–Ї–Є—Д–∞–Љ265. –Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –Ј–Љ–µ–µ — –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–µ —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Є —Г –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –≤ XIX –≤. –±—Л–ї–Є–љ–Ї–∞ «–Ф–µ–љ—М–≥–Є –≤ –≥—А–Њ–±—Г», –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–∞—П —Г–ґ–µ –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–њ–ї–∞—Б—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є: «–°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є–є –±–Њ–≥–∞—З –Ґ–≤–µ—А–і—Л—И–Њ–≤, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В —Б—В–∞—А–Њ–ґ–Є–ї—Л, –Ј–∞—И–Є–ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—А—Г—З–љ–Њ –≤ –њ–Њ–і—Г—И–Ї—Г –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є –±—Г–Љ–∞–ґ–Ї–Є –Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Н—В—Г –њ–Њ–і—Г—И–Ї—Г –≤ –≥—А–Њ–± –µ–Љ—Г, –њ–Њ–і –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є... –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –Ґ–≤–µ—А–і—Л—И–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј—А—Л—В–∞, –Њ—В–Ї—А—Л—В–∞ –≥—А–Њ–±–Њ–≤–∞—П –і–Њ—Б–Ї–∞, –љ–Њ –і–µ–љ—М–≥–Є –≤–Ј—П—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –Љ–µ—А—В–≤–µ—Ж–∞ –Њ–±–≤–Є–ї–∞—Б—М —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П –Ј–Љ–µ—П –Є –±—А–Њ—Б–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –≤—Б–µ—Е, –Ї—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї. –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –±—Г–і—В–Њ –±—Л –њ—А–Њ–Ї–ї—П–ї –Ґ–≤–µ—А–і—Л—И–Њ–≤–∞ –Є –Њ–љ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –≤ –±–µ–Ј–і–Њ–љ–љ—Г—О –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В—М»266. –Т —Б–Є–ї—Г —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ–µ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є –≤ –±—Л–ї–Є–љ–µ –Њ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–µ –Я–Њ—В–Њ–Ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ.
–Т—Б–µ —Н—В–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –≤–Ј—П—В–Њ–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—О –Ј–Љ–µ—О, —Б—В–∞–≤—И–µ–Љ—Г –≤–∞–ґ–љ–Њ–є —З–µ—А—В–Њ–є –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є. –Я–∞–Љ—П—В—М –Њ —В–Њ–є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ, –≥–і–µ –њ—А—П–Љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Ж–Љ–Њ–Ї—Г-–Ј–Љ–µ—О, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ—А—В–≤–Њ–њ—А–Є–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є:
–ѓ–Ї –Є–Ј–і–∞–≤–љ–∞ —В–Њ –і–∞ —В–∞—О–µ –ї—О–і–Є –±—Л–ї–Є, —Л–≥–≥–Њ –љ–µ –≤–µ—А–Њ–≤–∞–ї–Є.
–Ф–∞ –њ–Њ–≤–µ—А–Њ–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Њ–Љ—Г —Ж–Љ–Њ–Ї—Г, –і–∞–≤–∞–ї–Є –є –Њ–±—А–Њ–Ї—Г —Г –і–µ–љ—М –њ–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г.
–ѓ–Ї –Њ—В—М–µ–≤ –ґ–∞ —Ж–Љ–Њ–Ї –і–∞ —В—А–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Л, –і–∞ —В—А–Є —Ж–∞—А—Б—В–≤—Л267...
–≠—В–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–∞ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є:
–Ъ–Њ–ї–Є—Б—М –ї—О–і–Є –љ—П–≤–µ—А–љ—Л –±—Л–ї–Є, –љ—П–≤–µ—А–љ—Л –±—Л–ї–Є, –љ—П –≤–µ—А—Г–≤–∞–ї–Є –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Г –С–Њ–≥—Г, –і–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Г–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Њ–Љ—Г —Ж–Љ–Њ–Ї—Г,
–Ш –і–∞–≤–∞–ї–Є –Є–≥–≥–Њ –і–µ–љ—М –Њ–±—А–Њ–Ї—Г –њ–Њ —З–∞–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г268.
–Т–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–Є –Ј–Љ–µ—О —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —В–Њ–є –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞ –і–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ–± –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–µ-–њ—А–∞—А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ –С–Њ–µ. –°–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–±–Њ–Є—Е —Н—В–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ–≤ –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ–Љ –і–µ–ї–Њ —Б –і–≤—Г–Љ—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞–Љ–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-–Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –љ–∞—И–Є—Е –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤.
–Ф–∞–љ–љ—Л–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б–Љ—Л–Ї–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Н—В–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤: –і—А.-–Є–љ–і. ahi — «–Ј–Љ–µ—П», –љ–Њ –≥–Њ—В. weihs — «—Б–≤—П—В–Њ–є», –≥—А–µ—З. ayio£ — «—Б–≤—П—В–Њ–є»; –≥—А–µ—З. iepo£ — «—Б–≤—П—В–Њ–є», –љ–Њ –і—А.-–Є–љ–і. him — «–Ј–Љ–µ—П»; –ї–∞—В. colubra — «–Ј–Љ–µ—П», –љ–Њ –ї–∞—В. colere — «–њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М, –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ—П—В—М—Б—П» + –і—А.-–≤.-–љ–µ–Љ. uoba — «—Б–∞–Ї—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ»; —З–µ—И. had — «–Ј–Љ–µ—П», —А—Г—Б—Б–Ї. — –≥–∞–і — «–Ј–Љ–µ—П», –љ–Њ —Е–µ—В. handas — «—Б–≤—П—В–Њ–є»; –Є—А–ї. –∞–µ–≥ — «–Ј–Љ–µ—П», –љ–Њ –љ–µ–Љ. ver-ahren — «–њ–Њ—З–Є—В–∞—В—М»; –і—А.-–≤.-–љ–µ–Љ. slango — «–Ј–Љ–µ—П», –љ–Њ –ї–∞—В—Л—И, lugt — «–Љ–Њ–ї–Є—В—М(—Б—П)». –Ы–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є–Ї–∞ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –і–∞–ґ–µ –љ–∞ –Њ–±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–Љ–µ–Є: –∞–љ–≥–ї. snake — «–Ј–Љ–µ—П», –љ–Њ —В–Њ—Е. –Т nakte — «–±–Њ–≥»; —А—Г—Б—Б–Ї. –≥–∞–і — «–Ј–Љ–µ—П», —З–µ—И. had — «–Ј–Љ–µ—П», –љ–Њ –∞–љ–≥–ї. god — «–±–Њ–≥»; –≥—А–µ—З. aaupo£ — «—П—Й–µ—А–Є—Ж–∞, –Ј–Љ–µ—П», –љ–Њ –і—А.-–Є–љ–і. sura — «–±–Њ–≥»269. –Ъ–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є–Ї–∞, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–Љ–µ–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —Г–ґ–µ –Ї –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є- —З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї—Г, —Е–Њ—В—М —Н—В–∞ –Є—Б—Е–Њ–і–љ–∞—П –њ—А–∞—Д–Њ—А–Љ–∞ –Є –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е270.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ—О—О —Н–њ–Њ—Е—Г –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П –Ј–Љ–µ—О, –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї, –≤ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–є —Б –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–µ–є –Ы–Є—В–≤–µ –Ї—Г–ї—М—В –Ј–Љ–µ–є, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є, –Є–Љ–µ–µ—В –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–љ–Є: «–Т –Ы–Є—В–≤–µ –љ–∞–є–і–µ–љ –Ї–∞–Љ–µ–љ—М —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–Љ–µ–є. –Э–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –Њ–љ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–є –і–ї—П –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–Є –Ї—Г–ї—М—В –Ј–Љ–µ–Є. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–љ–љ–Є–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї—Г–ї—М—В–∞ –≤—А–Њ–і–µ –Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ—Б—В—П–љ–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А—Л –Ј–Љ–µ–Є –Є–Ј –Ґ—Л—А–≤–∞–ї—Л...»271 –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Н—В–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ —Б–∞–Љ—Л–є —А–∞–љ–љ–Є–є –њ—А–Є–Љ–µ—А –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П –Ј–Љ–µ—О. –Ґ–∞–Ї, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –®–µ–є–ї–∞ –Ъ–Њ—Г–ї—Б–Њ–љ –Є–Ј —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –Ю—Б–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ —А–Є—В—Г–∞–ї—Л –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 70 —В—Л—Б—П—З –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –≤ –Р—Д—А–Є–Ї–µ. –Я—А–Є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –∞—Д—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–∞–љ, –ґ–Є–≤—Г—Й–µ–≥–Њ –≤ –С–Њ—В—Б–≤–∞–љ–µ, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Е–Њ–ї–Љ–Њ–≤ –Ґ—Б–Њ–і–Є–ї–Њ, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–Є «–У–Њ—А–∞–Љ–Є –С–Њ–≥–Њ–≤» –Є «–°–Ї–∞–ї–Њ–є, –Ъ–Њ—В–Њ—А–∞—П –®–µ–њ—З–µ—В», –±—Л–ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–∞ –њ–µ—Й–µ—А–∞ —Б –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –њ—А—П–Љ–Њ –≤ —Б–Ї–∞–ї–µ –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є–Љ –њ–Є—В–Њ–љ–Њ–Љ. –°–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А–∞ –Є–Љ–µ–µ—В 6 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –≤ –і–ї–Є–љ—Г –Є 2 –Љ–µ—В—А–∞ –≤ –≤—Л—Б–Њ—В—Г. –Я—А–Є —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞—Е –њ–Њ–і –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Є—В–Њ–љ–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–∞ –±–Њ–ї–µ–µ 13 —В—Л—Б—П—З –љ–∞—Е–Њ–і–Њ–Ї, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –і–ї—П —А–µ–Ј—М–±—Л –њ–Њ –Ї–∞–Љ–љ—О, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ–њ–Є–є –Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –І–∞—Б—В–Є –∞—А—В–µ—Д–∞–Ї—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ —Б–≤—Л—И–µ 70 —В—Л—Б—П—З –ї–µ—В, —З—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Ї—Г–ї—М—В–∞ –Ј–Љ–µ–Є —Г –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –ї—О–і–µ–є. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –і–ї—П –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–∞–љ –њ–Є—В–Њ–љ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –≤ –Є—Е –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є, —З—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ –≤ —Б–≤–µ—В–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б–∞–Љ–Є –Њ–љ–Є –≤–µ—А—П—В, —З—В–Њ –≤—Б–µ –ї—О–і–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Є –Њ—В –њ–Є—В–Њ–љ–Њ–≤272. –Х—Б–ї–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –®–µ–є–ї–Њ–є –Ъ–Њ—Г–ї—Б–Њ–љ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Њ–Ї –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є—В—Б—П, —В–Њ —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—В—М, —З—В–Њ —Г–ґ–µ 70 —В—Л—Б—П—З –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і —Г –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–∞–љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–Є –њ–Є—В–Њ–љ—Г, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Н—В–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–µ –њ–ї–µ–Љ—П –≤–Є–і–µ–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–Њ–≤–Њ–њ—А–µ–і–Ї–∞.
–Ш—В–∞–Ї, –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–Љ–µ—О, —П–≤–ї—П—О—Й–µ–µ—Б—П –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ—Л—Е —З–µ—А—В –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є, –Є–Љ–µ–µ—В –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–љ–Є. –°–∞–Љ –Њ–±—А–∞–Ј –Ј–Љ–µ—П –Є–Љ–µ–ї –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–њ–ї–∞–љ–Њ–≤—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А: —Н—В–Њ –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М –Є —Б—Г–њ—А—Г–≥ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–Є –Є–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –µ–є –ґ—А–Є—Ж, –Є –Њ–±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–µ–і–Њ–Ї, –Є —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є—П, –Є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е –≤ –Ј–∞–≥—А–Њ–±–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ, –Њ–±–ї–Є–Ї –Ј–Љ–µ–Є –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –Є —Б–∞–Љ–∞ –±–Њ–≥–Є–љ—П –ї–Є–±–Њ –µ–µ –ґ—А–Є—Ж–∞. –Ш—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—М –Ї—Г–ї—М—В–∞ –Ј–Љ–µ—П, –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б –Ї—Г–ї—М—В–Њ–Љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–Є, –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ю—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞, —Б–≤–µ—А–≥–љ—Г—В–Њ–≥–Њ —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є.
«–†–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є» –Љ–Є—Д –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤
–Т –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–є –≥–ї–∞–≤–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј –Ь–∞—В–µ—А–Є –°—Л—А–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є –≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Ї–∞–Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є –ї—О–і–µ–є. –Э–∞ —Н—В–Њ—В –Љ–Є—Д –љ–µ–і–≤—Г—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Є –і–∞–љ–љ—Л–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤: –ї–∞—В. homo — «—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї» (—Н—В–Њ–Љ—Г —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є –≥–Њ—В—Б–Ї. — guma), –љ–Њ humus — «–њ–Њ—З–≤–∞, –Ј–µ–Љ–ї—П», –ї–Є—В. zmones — «–ї—О–і–Є», –љ–Њ zeme — «–Ј–µ–Љ–ї—П». –Ъ–∞–Ї –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є —Г—З–µ–љ—Л–є –Т. –Я–Є–Ј–∞–љ–Є, –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –≤ –њ—А–∞—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–є —В–µ—А–Љ–Є–љ g’hemon — «—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї», —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ј–µ–Љ–ї–Є g’hom, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Є—Б—З–µ–Ј –Є–Ј —П–Ј—Л–Ї–∞ –љ–∞—И–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П273. –°—В–Њ–Є—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ —А–Њ–і, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–µ–µ –≤—Б—О —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М –Ї—А–Њ–≤–љ—Л—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є–Ј–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ –ї—О–і—П—Е –Є —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П—Е, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В –Ь. –§–∞—Б–Љ–µ—А, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –ї–Є—В. rasme — «—Г—А–Њ–ґ–∞–є», –ї–∞—В. rads — «—А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї, —А–Њ–і», rasma — «–њ—А–Њ—Ж–≤–µ—В–∞–љ–Є–µ, –њ–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Є–µ, —Г—А–Њ–ґ–∞–є», raza (radia) — «–Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–є —Г—А–Њ–ґ–∞–є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–∞—П —Б–µ–Љ—М—П», –і—А.-–Є–љ–і. vradhant — «–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–є—Б—П», vardhati, vardhate, vrdhati — «—А–∞—Б—В–µ—В, —Г–Љ–љ–Њ–ґ–∞–µ—В—Б—П, –љ–∞–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П —Б–Є–ї», –∞–≤–µ—Б—В. vere8aiti — «—А–∞—Б—В–µ—В»274.
–Ґ–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –Љ–∞—В–µ—А—М—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ч–µ–Љ–ї—П, –∞ –Ч–µ–Љ–ї—П —Б–≤–µ–ґ–∞—П, —Ж–≤–µ—В—Г—Й–∞—П, –њ–Њ–Ї—А—Л—В–∞—П –Ј–µ–ї–µ–љ—М—О, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г —Б–ї–∞–≤—П–љ –Љ–Є—Д–∞ –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є–Ј —В—А–∞–≤—Л –Є–ї–Є —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П. –£ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ —Б–ї–µ–і—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ —З–µ—И—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–і–Њ–ї–∞ –Ч–µ–ї—Г-–Ч–µ–ї–µ–љ–Є-–Ґ—А–∞–≤—Л. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —З–µ—И—Б–Ї–Є–є –∞–≤—В–Њ—А XVI –≤. –Э–µ–њ–ї–∞—Е –Є–Ј –Ю–њ–∞—В–Њ–≤–Є—Ж —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Є–і–Њ–ї–∞ Zelu (–Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –њ–ї–Њ–і —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —В–Њ, —З—В–Њ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е –Њ–љ —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г–µ—В –Ї–∞–Ї Zelon), —З—М–µ –Є–Љ—П —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –і—А.-—З–µ—И. zele — «—В—А–∞–≤–∞»275. –Т–∞—Ж–ї–∞–≤ –У–∞–µ–Ї –Є–Ј –Ы–Є–±–Њ—З–∞–љ —Г—В–Њ—З–љ—П–µ—В, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ—Л–є –Є–і–Њ–ї –Є–Љ–µ–ї –≤–Є–і —Б–Є–і—П—Й–µ–є –љ–∞ —В—А–Њ–љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А—Л: «–Ч–∞ —Н—В–Є –љ–µ—Б–Љ–µ—В–љ—Л–µ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞ –Њ–±–Є–ї—М–љ–µ–є—И–Є–µ –ґ–µ—А—В–≤—Л –≥–Њ—А–љ—Л–Љ –Є –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–Љ –±–Њ–≥–∞–Љ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ–љ—Л, <...> —Б—В–∞—В—Г—П –Є–Ј –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –≤ –≤–Є–і–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Б–Є–і—П—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ —В—А–Њ–љ–µ, –±—Л–ї–∞ –≤—Л–ї–Є—В–∞, —З—В–Њ –љ–µ—Б–ї–∞ –Њ–±—А–∞–Ј –Є –Є–Љ—П –±–Њ–≥–∞ –Ч–µ–ї—Г. –Х–µ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є –≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–µ –≤–љ—Г—В—А–Є –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Ї–љ—П–Ј—М –µ–µ —Б –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –љ–∞–±–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї, –±—А–Њ—Б–∞—П –≤ –Њ–≥–Њ–љ—М –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Д–Є–Љ–Є–∞–Љ–∞ –Њ–±—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л –Є –љ–Њ–≥—В–Є», –∞ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–∞—П—Б—П –≤—Л—И–µ –≤–µ—Й–∞—П –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ —З–µ—Е–Њ–≤ –Ы–Є–±—Г—И–∞, «—Б–≤–µ—А—И–Є–≤ —Б–≤–Њ–Є–Љ –±–Њ–≥–∞–Љ –ґ–µ—А—В–≤–Њ–њ—А–Є–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –≤ —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–µ –Ч–µ–ї—Г, —Г–Ј–љ–∞–ї–∞ –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–Љ —З–∞—Б–µ»276. –Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –≥—А—П–і—Г—Й–µ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ —Г–Ј–љ–∞–µ—В –≤ —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–µ –Ч–µ–ї—Г, –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б –Ј–µ–ї–µ–љ–µ—О—Й–µ–є –Ь–∞—В–µ—А—М—О –°—Л—А–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–µ–є. –Э–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Б—Г–і–Є—В—М –њ–Њ —Н—В–Є–Љ –Њ—В—А—Л–≤—Л—З–љ—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ, –і–∞–љ–љ—Л–є –±–Њ–≥ –±—Л–ї —Б–≤—П–Ј–∞–љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ–Љ, –љ–Њ –Є —Б–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М—О. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ-—А–∞—Б—В–µ–љ–Є–Є –±—Л–ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Г–Ї–Њ—А–µ–љ–µ–љ–Њ –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –Є –≤ –Њ–і–љ–Њ–є —О–ґ–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –±—Л–ї –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ –Љ–µ—Б—П—Ж –∞–њ—А–µ–ї—М (—А–Є—Б. 5).

–†–Є—Б. 5. –Ь–µ—Б—П—Ж –∞–њ—А–µ–ї—М –Є–Ј —О–ґ–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є
–°–ї–µ–і—Л –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Љ–Є—Д–∞ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є–Ј –Ь–∞—В–µ—А–Є –Ч–µ–Љ–ї–Є –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ —В—Г–і–∞ —Г—Е–Њ–і–µ, —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Є –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤¬–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ —Б–µ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є –Є –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —А–∞—Б¬—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –љ–∞–Љ –Ї–∞–Ї –≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, —В–∞–Ї –Є –≤ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є. –Я—А–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Т.–Ы. –Ъ–Њ–Љ–∞—А–Њ–≤–Є—З –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤ —Б—А–µ–і–µ –†—О—А–Є–Ї–Њ–≤–Є—З–µ–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –љ–Њ–≤–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ–ї—П–µ—В—Б—П –і—Г—И–∞ —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Ї–∞ (–і–µ–і–∞), –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–≤—И–∞—П –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤ –Ј–µ–Љ–ї–µ. –≠—В–Є–Љ, –њ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –Є –±—Л–ї –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ –Ї—Г–ї—М—В –Ј–µ–Љ–ї–Є: «–Ч–µ–Љ–ї—П —З—В–Є—В—Б—П –≤–і–≤–Њ–є–љ–µ: –Є –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е –і–µ–і–Њ–≤, –Є –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –Њ—В–і–∞–µ—В –Є—Е –і—Г—И–Є –љ–Њ–≤–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–љ—Г–Ї–∞–Љ; —З—В–Є—В—Б—П –≤–і–≤–Њ–є–љ–µ –Є —А–Њ–і —Н—В–Њ—В, –Ї–∞–Ї —В–µ–њ–µ—А—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–Є–є –Є–Ј –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–Њ–Ї, —В–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—Й–Є–є—Б—П –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О, —В–Њ –Є–Ј –љ–µ–µ –ґ–µ, —Б –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Ї—А–Є–Ї–Њ–Љ –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–∞, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–Є–є –≤–љ–Њ–≤—М –і–ї—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є –љ–∞–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–∞–Ї E7U%tovio£ –≤ —В–Њ—З–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Є–ї–Є, –µ—Б–ї–Є —Г–≥–Њ–і–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —В—А–∞–≤–∞, –і–µ—А–µ–≤–Њ –Є–ї–Є –Ј–ї–∞–Ї. –Т–Є–і–љ–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Є —В–Њ, –і–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Г–љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Њ—В —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–∞—Б–∞–ї–Є—Б—М —Б —Б—Д–µ—А–Њ–є –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞.,.»271
–Т—Б–µ —Н—В–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ —Г –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Ј–∞—З–∞—В–Є—П –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞—Е –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є: «–Ј–∞—Б–µ—П—В—М –њ–Њ–ї–µ» (—А—Г—Б. –∞—А—Е–∞–љ–≥. –Ј–∞—Б–µ–≤–∞—В—М, —Б—А. —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Љ—Г–ґ–∞ –Ї –ґ–µ–љ–µ: «–ѓ –≤–Ї–Є–і–∞—О —В–ґ–Њ –Ј–µ—А–љ–Њ, –∞ —В–Є –≤—Л–≤–µ–і1 –Ј –љ—М–Њ–≥–Њ —З–Њ–ї–Њ–≤–ґ–∞», –њ–Њ–ї. «–Ю–љ –љ–∞ –њ–µ—З–Є –њ–∞—Е–∞–ї, –ґ–Є—В–Њ —Б–µ—П–ї; –Њ–љ–∞ –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞, –Њ–љ —Б–Љ–µ—П–ї—Б—П»)278. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б —Е–ї–µ–±–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —Г–ґ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–љ–µ–µ, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є, –Є –µ–є –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П —Б –і–Є–Ї–Њ—А–∞—Б—В—Г—Й–µ–є –Ј–µ–ї–µ–љ—М—О –≤–Њ–Њ–±—Й–µ. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ —Б–µ–≤–µ—А–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є—З–Є—В–∞–љ–Є—П—Е –Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Ж–µ, –Ј–∞–±—А–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤ —А–µ–Ї—А—Г—В—Л, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –і–µ—А–µ–≤–Њ–Љ, –љ–Њ –Є —Б —В—А–∞–≤–Њ–є, —В.–µ. –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –≤–Њ–Њ–±—Й–µ: «–Ш –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ—И–µ–љ–µ–Ї, –љ–∞—И —Б–≤–µ—В, –і–∞ –Ї–∞–Ї —В—А–∞–≤–Є–љ–Њ—З–Ї–∞, –Є –Ј–µ–ї–µ–љ —Б—В–Њ–Є—В –±—Л–≤ –Њ–љ –і–∞ –і–µ—А–µ–≤–Є–љ–Њ—З–Ї–∞, –Є –љ–µ –і–Њ—А–Њ—Б–ї–∞, –Ї–∞–Ї –Ї—Г–і—А—П–≤–∞—П —А—П–±–Є–љ—Г—И–Ї–∞.. .»279 –Ю —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Г —Б–ї–∞–≤—П–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Њ—В –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В —В–∞–Ї–Є–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є, –Ї–∞–Ї –•–Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж–Ї–Є–є, –•–ї–µ–±–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–ї–Є –У—А–µ—З–Ї–Њ. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є, —В–Њ –і–∞–љ–љ–∞—П —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П –љ–∞–њ—А—П–Љ—Г—О –њ–µ—А–µ–Ї–ї–Є–Ї–∞–µ—В—Б—П —Б —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–µ–≥–µ–љ–і–Њ–є –Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –≤ –≥—А–µ—З–Є—Е—Г –і—Г—И–Є –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ–є –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–∞ —З—Г—В—М –љ–Є–ґ–µ. –≠—В–Њ—В –ґ–µ «—А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є» –Љ–Є—Д –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В –Є —Г–Ї–Њ—А–µ–љ–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –≤ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –°–Љ–µ—А—В–Є –≤ –≤–Є–і–µ —Б–Ї–µ–ї–µ—В–∞ —Б –Ї–Њ—Б–Њ–є.
–Ф–∞–љ–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –µ—Б–ї–Є –љ–µ –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —В–Њ –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—О —Г–Љ–Є—А–∞—О—Й–Є—Е –ї—О–і–µ–є —Б–Њ —Б–Ї–∞—И–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є —В—А–∞–≤–Њ–є –Є –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г–ґ–µ —А–∞–Ј —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ф–∞–љ–љ–∞—П –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П –љ–∞–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П —Г–ґ–µ –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ. –Ґ–∞–Ї, –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г—П –Њ –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є —В–∞—В–∞—А –≤ 1238 –≥., –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–∞—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М —В–∞–Ї –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –Є—Е –Ј–≤–µ—А—Б—В–≤–∞: «–Ґ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –≥–љ–∞—И–∞—Б—П –Њ–Ї–∞–љ—М–љ–Є–Є –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ–Є—Ж—Л... –∞ –≤—Б–µ –ї—О–і–Є —Б%–Ї—Г—Й–µ –∞–Ї—Л —В—А–∞–≤—Г, –Ј–∞ 100 –≤–µ—А—Б—В—К –і–Њ –Э–Њ–≤–∞–≥–Њ—А–Њ–і–∞»280. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Њ–± –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–Љ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–Є —В–∞—В–∞—А, —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –≤ 1408 –≥., —В–∞ –ґ–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ—Г—В–Є –≤–∞—А–≤–∞—А—Л «–≤—Б–µ –Ї—А–µ—Б—В–Є–∞–љ—К —Б–Ї–Ї—Г—Й–µ, –∞–Ї–Є —В—А–∞–≤—Г»281. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є —А—П–і–∞ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–љ–µ–є —Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Й–µ–є –љ–∞—Б –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є.
–Ф–∞–љ–љ—Л–є –њ—А–Є–Љ–µ—А –њ–Њ–і–≤–Њ–і–Є—В –љ–∞—Б –Ї –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г —П–≤–ї–µ–љ–Є—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–µ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Б —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ–≥–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –Є —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Э–∞ –†—Г—Б–Є —З–∞—Б—В–Њ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Ј–µ–ї–µ–љ—М –Є —Б —Г–Љ–µ—А—И–Є–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є: «–†–∞—Б—В–µ–љ–Є—П, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ј–µ–ї–µ–љ—М –і–µ—А–µ–≤—М–µ–≤, —В—А–∞–≤—Л, —Ж–≤–µ—В—Л —Б—З–Є—В–∞—О—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л—Е –і—Г—И, –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О –≤ –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–љ–Є —В—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–Є–Ї–ї–∞»282. –Ю–і–љ–Є–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–Љ –і–∞–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М: «–Т –С–Њ–ї–≥–∞—А–Є–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –њ–Њ–≤–µ—А—М–µ, —З—В–Њ –њ–Њ—П—И—И—О—Й–Є–µ—Б—П —Б “—В–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–∞” –і—Г—И–Є —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ—В–≤–µ—А–≥–∞ –і–Њ –Ф—Г—Е–Њ–≤–∞ –і–љ—П –њ—А–µ–±—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ —В—А–∞–≤–∞—Е, —Ж–≤–µ—В–∞—Е, –≤–µ—В–Ї–∞—Е –і–µ—А–µ–≤—М–µ–≤... –Я–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, –і—Г—И–Є —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е –≤—Б–µ–ї—П—О—В—Б—П –≤ —В—А–Њ–Є—Ж–Ї—Г—О –Ј–µ–ї–µ–љ—М... –°—А. –≤ —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —З–∞—Б—В–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤ —А–Њ–і—Б—В–≤–∞ (–±–∞–±–∞, –і–µ–і, –Љ–∞—В—М, –±—А–∞—В, —Б–µ—Б—В—А–∞) –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П—Е —В—А–∞–≤—П–љ–Є—Б—В—Л—Е —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є»283. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –ї —Г –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ —Б–ї–Њ–≤–Њ zelonka –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ «—Б–≤–µ–ґ—Г—О –Ј–µ–ї–µ–љ—М» –Є «–Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Є–ї–Є –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞»284. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –љ–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—Ж–Ї–Є—Е –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –Ї—А–µ—Б—В–∞—Е (—А–Є—Б. 6) –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л—Е —Б–≤–µ—В–Є–ї, –љ–Њ –Є —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є. –Ю—В—А–∞–Ј–Є–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ –љ–Є—Е —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–є —Б–Є–љ–Ї—А–µ—В–Є–Ј–Љ –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –Ї—Г–і–∞, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О «–і–≤–Њ–µ–≤–µ—А–љ–Њ –ґ–Є–≤—Г—Й–Є—Е» —Б–ї–Њ–≤–∞–Ї–Њ–≤, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –і—Г—И–∞ —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–≤—П–Ј–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є —Б —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї–Њ—Б—М –Є –љ–∞ –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ: —Б —А—Г—Б—Б–Ї. –і–Є–∞–ї. –±—Г–ґ–∞—В—М — «—Г–Љ–Є—А–∞—В—М, –Є–Ј–і—Л—Е–∞—В—М, –Њ–Ї–Њ–ї–µ–≤–∞—В—М, –Є—Б–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ» –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–Њ–Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ –њ—А–∞—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–µ–љ—М buzb (—А—Г—Б—Б–Ї. –і–Є–∞–ї. –±—Г–Ј — «–Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї, –±—Г–Ј–Є–љ–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–∞—П», –Љ–∞–Ї–µ–і. –і–Є–∞–ї. –±—Г—Б — «–Ї—Г—Б—В, –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї», —Б.-—Е. bus — «–Ї—Г—Б—В, –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї»)285. –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Є–Ј–Љ—Л –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В, —З—В–Њ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–∞—П —Б–µ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–≤—П–Ј—М —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є —Г –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є –Њ–±—Й–µ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —В–µ—Б–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ —В—А–∞–≤—Л –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Є—З–µ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Є –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Ї–Є, –Є –Ї–∞–Ї –Љ–µ—Б—В–Њ –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –µ–≥–Њ –і—Г—И–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є. –≠—В–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М –Ї–∞–Ї –Ї –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–Љ, —В–∞–Ї –Є –Ї –і–Є–Ї–Є–Љ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П–Љ, —З—В–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї —Г–Љ–µ—А—И–µ–Љ—Г –≤ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є—З–Є—В–∞–љ–Є—П—Е: «–У–і–µ —В—Л –±—Г–і–µ—И—М –Ј–∞—Ж–≤–µ—В–∞—В—М — –≤ —Б–∞–і–Њ—З–Ї–µ –Є–ї–Є –≤ –ї–µ—Б–Њ—З–Ї–µ?»286 –Х—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –∞—А—Е–∞–Є—З–љ—Л–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ј–і–µ—Б—М –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Ї —Г–Љ–µ—А—И–µ–Љ—Г –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є—З–Є—В–∞–љ–Є—П—Е: «–Э–∞ —В—А–∞–≤–∞—Е –ї–Є —В—Л –≤—Л—А–∞—Б—В–µ—И—М, –љ–∞ —Ж–≤–µ—В–∞—Е –ї–Є —В—Л –≤—Л—Ж–≤–µ—В–µ—И—М?»287

–†–Є—Б. 6. –°–ї–Њ–≤–∞—Ж–Ї–Є–µ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –Ї—А–µ—Б—В—Л
–£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤—Л—И–µ –Љ–Њ—В–Є–≤ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Є–Ј –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –љ–∞—Б –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–є –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —Б—О–ґ–µ—В, –≥–і–µ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є. –≠—В–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ –Њ –ї—О–±–≤–Є –±—А–∞—В–∞ –Є —Б–µ—Б—В—А—Л, –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ—Л—Е –≤ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–Љ –Є –Ь–∞—А—М–µ–є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ –њ—А–Є—Г—А–Њ—З–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ –і–љ—О –ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –њ–µ—Б–љ—П—Е: «–Ь—Л—Б–ї—М –Њ –Ї—А–Њ–≤–Њ—Б–Љ–µ—И–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П –Є –≤ –Ї—Г–њ–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—Б–љ—П—Е. –Ґ–∞–Ї, –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Ї—Г–њ–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Б–љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —З—Г–Љ–∞–Ї, –њ—А–Њ–µ–Ј–і–Њ–Љ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Ї–Њ—А—З–Љ–µ, –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –љ–∞–є–Љ–Є—З–Ї–µ-—И–Є–љ–Ї–∞—А–Ї–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤ –њ–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–≤–∞–і—М–±—Л –Њ–љ–Є –њ–Њ—И–ї–Є —Б–њ–∞—В—М, —
–°—В–∞–ї–∞ –і—Ж–≤–Ї–∞ –њ–Њ—Б—В–Є—В—М —Б–ї–∞—В—М,
–Я–Њ—Б—В—И—М —Б—В–µ–ї–µ, —Е–ї—Л—Б—В–∞–µ,
A eiH ei –њ—Л—В–∞–µ:
“A 3Binci –Љ—Й–∞–љ–Ї–∞?”
“–Я–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ъ–∞—А–њ—П–љ–Ї–∞”.
“A 3BiTKi –Љ–є—Й–∞–љ–Є–љ?”
“–Я–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ъ–∞—А–њ–Њ–≤ —Б—Л–љ”.
“–С–Њ–і–∞–є, –њ–Њ–њ—Л –њ—А–Њ–њ–∞–ї–Є:
–°–µ—Б—В—А—Г –Ј –±—А–∞—В–Њ–Љ –Ј–≤—И—З–∞–ї–Є!”
“–•–Њ–і–Є–Љ, —Б–µ—Б—В—А–∞, –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М,
–Э–µ—Е–∞–є –љ–∞–Љ –С–Њ–≥ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В!”
“–Ь–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Ї–∞–ґ–µ: –љ–µ –њ—А—И–Љ—Г,
–Р –С–Њ–≥ –Ї–∞–ґ–µ: –љ–µ –њ—А–Њ—Й—Г!”
“–•–Њ–і–Є–Љ, —Б–µ—Б—В—А–∞, –≤ —В–µ–Љ–љ—Л–є –ї1—Б —
–Э–µ—Е–∞–є –ґ–µ –љ–∞—Б –Ј–≤1—А—М noicrr”...
“–Р –ї–≥—Б –Ї–∞–ґ–µ: –љ–µ npiftMy!
–Р –Ј–≤1—А—М –Ї–∞–ґ–µ, –≤—Л–ґ–µ–љ—Г!”
“–•–Њ–і–Є–Љ, —Б–µ—Б—В—А–∞, –≤ –Љ–Њ—А–µ,
–Я–Њ—В–Њ–њ–Є–Љ—Б—П –Њ–±–Њ–µ!”
“–Р –Љ–Њ—А–µ –Ї–∞–ґ–µ: –љ–µ –њ—А–®–Љ—Г!
–Р —А—Л–±–∞ –Ї–∞–ґ–µ: –≤—Л–Ї–Є–љ—Г!’*
“–•–Њ–і–Є–Љ, —Б–µ—Б—В—А–∞, –≥–Њ—А–Њ—О –†–∞–Ј–∞–µ–Љ—Б—М –њ–Њ –њ–Њ–ї—О.
–†–∞–Ј—Б1–µ–Љ–Њ—Б—М –њ–Њ –њ–Њ–ї—О –®–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ—О —В—А–∞–≤–Њ—О.
–С—Г–і—Г—В –ї—О–і–Є –Ј—И—М–µ —А–≤–∞—В–Є –°–µ—Б—В—А—Г –Ј –±—А–∞—В–Њ–Љ —Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В–Є.
–ѓ –Ј–∞—Ж–≤1—В—Г –ґ–Њ–≤—В—Л–є —Ж–≤–µ—В,
–Ґ—Л –Ј–∞—Ж–≤–µ—В–µ—И—М —Б–Є—И–є —Ж–≤–µ—В.
–С—Г–і–µ —Б–ї–∞–≤–∞ –љ–∞ –≤–µ—Б—М —Б–≤–µ—В”.
–Ґ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Ж–≤–µ—В–Ї–∞ “–Ш–≤–∞–љ-–і–∞-–Ь–∞—А—М—П”»288.
–Т –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ –і—А–µ–≤–љ–Є–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В —Б—О–ґ–µ—В–∞, –≥–і–µ —Г–ґ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–∞–Љ –Њ–±—А—П–і —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–љ—З–∞–љ–Є—П, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ:
–Ъ–Њ–ї—П —А–µ—З–Ї–Є, –Ї–Њ–ї—П —А–µ—З–Ї–Є –Я–∞—Б—М—Ж–Є–ї–∞ –і–Ј–µ—Г–Ї–∞ –Њ–≤–µ—З–Ї–Є,
–Ф—Л –њ–∞—Б—Г—З–Є –Ј–∞—Б–љ—Г–ї–∞.
–Х—Е–∞—Г –Љ–Њ–ї–Њ–є—З–Є–Ї — –љ—П —З—Г–ї–∞.
«–£—Б—В–∞–≤–∞–є, –і–Ј–µ—Г–Ї–∞, –і–Њ—Б–Є—Ж—М —Б–њ–∞—Ж—М,
–Ф—Л —Б–∞–і–Ј–Є—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–љ—П,
–Ъ–ї–∞–і–Ј–Є –љ–Њ–ґ–Ї–Є —Г —Б—В—А—Л–Љ—П–љ–∞».
–Х–і—Г—Ж—М –њ–Њ–ї–µ — –і—А—Г–≥–Њ–µ,
–Э–∞ —В—А–µ—Ж—М—Ж–µ–µ —Г–Ј—К–µ–ґ–і–ґ–∞—О—Ж—М,
–Я—Л—В–∞–µ—В—Ж–∞ –ѓ—Б—П–љ—М–Ї–∞:
«–°–Ї—Г–ї—М —В—Л —А–Њ–і–Њ–Љ, –Ъ–∞—Б–µ–љ—М–Ї–∞?»
— –ѓ –є —А–Њ–і–Њ–Љ –Ъ—А–∞–Ї–Њ—Г–љ–∞,
–Р –љ–∞–Ј–≤–Є—Б–Ї–∞ –Т–Њ–є—В–Њ—Г–≤–љ–∞.
«–°–Ї—Г–ї—М —В—Л —А–Њ–і–Њ–Љ, –ѓ—Б—П–љ—М–Ї–∞?»
— –Т–Њ —П —А–Њ–і–Њ–Љ –Ъ—А–∞–Ї–Њ–≤–Є—З,
–Р –љ–∞–Ј–≤–Є—Б–Ї–∞ — –Т–Њ–є—В–Њ–≤–Є—З.
–ѓ—И–µ –Љ—П–љ–µ –С–Њ–≥ —Б—Ж—П—А–Њ–≥,
–®—В–Њ –Ј —Б—П—Б—В—А–Њ—О —Б–њ–∞—Ж—М –љ—П –ї–µ–≥.
–Я–Њ–є–і–Ј—П–Љ, —Б—П—Б—В—А–∞, —Г –њ–Њ–ї—П,
–†–∞–Ј—Б–µ–Є–Љ—Б—П –Њ–±–Њ—П:
3 –Љ—П–љ–µ –±—Г–і–Ј–Є—Ж—М –ґ–Њ—Г—В—Л —Ж–≤–µ—В,
–° —Ж—П–±–µ –±—Г–і–Ј–Є—Ж—М —Б–Є–љ–Є —Ж–≤–µ—В;
–С—Г–і—Г—Ж—М –і–Ј–µ—Г–Ї–Є –Ї—А–∞—Б–Ї–Є —А–≤–∞—Ж—М –Ш –±—А–∞—В–∞ —Б —Б—П—Б—В—А–Њ—О –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—Ж—М:
«–У—Н—В–∞ —В–∞—П —В—А–∞–≤–Є—Ж–∞,
–®—В–Њ –±—А–∞—Ж–µ–є–Ї–∞ —Б —Б—П—Б—В—А–Є—Ж–∞–є»2*9.
–Ь–Є—Д –Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П –ї—О–і—П—Е, –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ —Г–Ї–Њ—А–µ–љ–µ–љ–љ—Л–є –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј –≤—Б–њ–ї—Л–ї –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –≤ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ-—В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–≥–∞. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –ї–µ–≥–µ–љ–і–µ «–Ю—В–Ї—Г–і–∞ –≥—А–µ—З–Є—Е–∞» –Њ–і–љ—Г —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г –Ј–∞—Е–≤–∞—В—З–Є–Ї–Є —Г–≤–µ–ї–Є –≤ –њ–Њ–ї–Њ–љ –Є, —Е–Њ—В—М –µ–µ —Б–Є–ї–Њ–є –≤–Ј—П–ї –≤ –ґ–µ–љ—Л —В–∞—В–∞—А–Є–љ, –Њ–љ–∞, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤ –Є –≤ –љ–µ–≤–Њ–ї–µ –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—О, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П –Є —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞—В—М –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—Л–љ—О –љ–Є—Й–Є–Љ. «–£–Љ–µ—А–ї–∞ —В–∞ –і–µ–≤–Ї–∞, –Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –µ–µ –љ–µ –њ–Њ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Њ–±—А—П–і—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –∞ –њ–Њ –Є—Е–љ–µ–Љ—Г –Њ–±—Л—З–∞—О –њ–Њ–≥–∞–љ–Њ–Љ—Г, —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї–µ–љ –С–Њ–≥. –°—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г, –љ–∞ –њ–Њ–ї—П–љ–Ї—Г –љ–∞—Б—Л–њ–∞–ї–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є—Ж—Л, –∞ –љ–∞ —В–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є—Ж–µ –Є –≤—Л—А–Њ—Б–ї–∞ —В–∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–∞—П. [...] –Э–µ —Б–∞–Љ–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –≤—Л—А–Њ—Б–ї–∞-—В–Њ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–∞—П, –∞ –≤—Л—А–Њ—Б–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—Г—И–∞ –µ–µ: –њ–Њ—И–ї–∞ –њ–Њ –µ–µ –Љ–Њ–≥–Є–ї–Њ—З–Ї–µ –≥—А–µ—З–Ї–∞, –∞ –≥—А–µ—З–Ї–∞-—В–Њ –Є –±—Л–ї–∞ –і—Г—И–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є —В–Њ–є –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Є—Ж—Л. –Я—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В —В–∞–Љ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –њ—А–Є—И–ї–∞ –Њ–њ—П—В—М –љ–Є—Й–∞—П –±—А–∞—В–Є—П –Ї —В–Њ–Љ—Г –і–Њ–Љ—Г, –≥–і–µ –ґ–Є–ї–∞ –њ–Њ–ї–Њ–љ–µ–љ–љ–∞—П –і–µ–≤–Є—Ж–∞... –°–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є, –≥–і–µ –Љ–Њ–≥–Є–ї–Ї–∞, –њ–Њ—И–ї–Є –љ–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї–Ї—Г, –і–∞ –Ї–∞–Ї –≥–ї—П–љ—Г–ї–Є: –∞–ґ–љ–Њ —В–∞ –і—Г—И–∞ –љ–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї–Ї–µ –≥—А–µ—З–Є—И–Ї–Њ–є –≤—Л—А–Њ—Б–ї–∞! –Р –≥—А–µ—З–Є—И–Ї–Є –і–Њ —В–Њ–є –њ–Њ—А—Л –Є –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. [...] –°–Љ–Њ—В—А—П—В: —Ж–≤–µ—В –Њ—В –≥—А–µ—З–Є—И–Ї–Є —З–Є—Б—В—Л–є –і–∞ –±–µ–ї—Л–є: —А–Њ–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –і—Г—И–∞ –µ–µ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ —З–Є—Б—В–∞—П –і–∞ –±–µ–ї–∞—П! –Т–Ј—П–ї–∞ –љ–Є—Й–∞—П –±—А–∞—В–Є—П —В—Г –≥—А–µ—З–Є—И–Ї—Г –Є –њ–Њ–љ–µ—Б–ї–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –љ–∞ –†–Њ—Б—Б–µ—О—И–Ї—Г. –Ю—В—В–Њ–≥–Њ –Є –њ–Њ—И–ї–∞ –њ–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ –≥—А–µ—З–Є—И–Ї–∞ —Г –љ–∞—Б»290. –Ю–± –Њ–±—Й–µ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ–Ї–∞—Е –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Д–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Ї–∞–Ї –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–∞—П –њ–µ—Б–љ—П «–Ы–Њ–Ј–∞ –Є –њ–ї—О—Й», –≥–і–µ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –Є —О–љ–Њ—И–∞, –Ј–∞—А—Л—В—Л–µ –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О –ї—О–±–Њ–≤—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є, –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤ –ї–Њ–Ј—Г –Є –њ–ї—О—Й, —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є, —В–∞–Ї –Є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–∞—П –њ–µ—Б–љ—П –±–Њ—Б–љ–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ-–Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ «–Ю–Љ–µ—А –Є –Ь–µ–є—А–Є–Љ–∞», –≥–і–µ —О–љ–Њ—И–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –і—Г–±, –∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ — –≤ —Б–Њ—Б–љ—Г.
–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Б–Њ—О–Ј–∞ –±—А–∞—В–∞ –Є —Б–µ—Б—В—А—Л –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–Њ–і, –Є –і–∞–ґ–µ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—О—В —Б–∞–Љ —Д–∞–Ї—В –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞, –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞—П, —З—В–Њ —Н—В–∞ –њ–∞—А–∞ —Г—Б–њ–µ–ї–∞ —Г–Ј–љ–∞—В—М –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ –њ—А–µ–ґ–і–µ, —З–µ–Љ –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—Г–њ—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞–Љ –≤–µ–і–Є–є—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—Д –Њ –ѓ–Љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Г–і–µ—В —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –≥–ї–∞–≤–µ, –≥–і–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ—В–Ї–∞–Ј –±—А–∞—В–∞ –ґ–µ–љ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Б–µ—Б—В—А–µ –Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Њ—В—Б—В—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Г –љ–Є—Е –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ–Љ –і–µ–ї–Њ —Б –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —А–∞–љ–љ–µ–є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Ж–µ–љ–Ј—Г—А–Њ–є, –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞–≤—И–µ–є—Б—П –≤—Л—В–µ—Б–љ–Є—В—М –Є–Ј –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –љ–µ–њ—А–Є–≥–ї—П–і–љ—Л–µ –і–ї—П –љ–µ–µ —Д–∞–Ї—В—Л. –Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є —Б–Њ—О–Ј –±—А–∞—В–∞ –Є —Б–µ—Б—В—А—Л –±—Л–ї, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Г–і—Г—В –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –љ–Є–ґ–µ, –Є –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –Є —Б–∞–Љ —Д–∞–Ї—В –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Ш–≤–∞–љ–∞ –Є –Ь–∞—А—М–Є –≤ —Ж–≤–µ—В–Њ–Ї—–µ—Б–ї–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≥—А–µ—Е–∞, —В.–µ. –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–њ—А–µ—В–Њ–≤, —В–Њ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л—В—М –Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤ –і–∞–љ–љ—Л—Е —В–µ–Ї—Б—В–∞—Е –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ –Ї—Г–њ–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—Б–љ—П—Е –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В, —В–Њ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –≤ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –Є—Е —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є —А–µ—З—М —И–ї–∞ –Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –±—А–∞—З–љ–Њ–Љ —Б–Њ—О–Ј–µ –±—А–∞—В–∞ –Є —Б–µ—Б—В—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ –љ–µ –њ–Њ –љ–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—О (—Н—В–Њ –Њ–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –љ–∞–њ–ї–∞—Б—В–Њ–≤–∞–љ–Є–µ), –∞ –≤ —Б–Є–ї—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і—А—Г–≥–Є–µ –±—А–∞—З–љ—Л–µ –њ–∞—А—В–љ–µ—А—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ-–љ–∞–њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В —Н—В—Г –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Г –Є –Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Ж–≤–µ—В–Ї–∞ –Є–≤–∞–љ-–і–∞-–Љ–∞—А—М—П –љ–∞ –†—Г—Б–Є, –≥–і–µ –Ј–љ–∞—Е–∞—А–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ «–і–ї—П –≤–Њ–і–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞–Љ–Є»291. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –±—А–∞—В–Њ–Љ –Є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞, –љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –±—А–∞—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞, —В–Њ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—О, –±—Л–ї–Њ –±—Л –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Ж–≤–µ—В–Ї–Њ–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –Ш–≤–∞–љ –і–∞ –Ь–∞—А—М—П, –і–ї—П —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–њ—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≤—Л—И–µ –ї–µ–≥–µ–љ–і–µ «–Ю—В–Ї—Г–і–∞ –≥—А–µ—З–Є—Е–∞», –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Є—Д—Г –Њ–± –Ш–≤–∞–љ–µ –Є –Ь–∞—А—М–µ, –≤ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –љ–µ –≥—А–µ—И–љ–∞—П, –∞ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–∞—П, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –і–∞–ґ–µ —Б–≤—П—В–∞—П, –і—Г—И–∞, —З—В–Њ –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –≤ —Ж–≤–µ—В—Л —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –љ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞ –≥—А–µ—Е –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞, –∞ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ–Є.
–Ы—Г—З—И–µ –њ–Њ–љ—П—В—М –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є —Б—О–ґ–µ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Д–∞ –љ–∞–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ.
–Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–є –Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Љ–Є—Д –Њ —В–µ—Б–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –ї—О–і–µ–є —Б —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –≤ –Ш—А–∞–љ–µ. –Ґ–∞–Љ –Њ–љ –±—Л–ї –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–є –≥–ї–∞–≤–µ «–С—Г–љ–і–∞—Е–Є—И–љ–∞», –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –Ї –љ–µ—Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П —З–∞—Б—В—П–Љ «–Р–≤–µ—Б—В—Л». –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Є—Д—Г –њ–µ—А–≤—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –У–∞–є–Њ–Љ–∞—А—В (–±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ «–ґ–Є–≤–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–є»), –њ–Њ–≥—Г–±–ї–µ–љ–љ—Л–є –і—Г—Е–Њ–Љ –Ј–ї–∞ –Р—Е—А–Є–Љ–∞–љ–Њ–Љ, –њ–µ—А–µ–і —Б–Љ–µ—А—В—М—О –Є—Б–њ—Г—Б—В–Є–ї —Б–µ–Љ—П, —В—А–µ—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –±–Њ–≥–Є–љ–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є –°–њ–∞–љ–і–∞—А–Љ–∞–і. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј —Б–Њ—А–Њ–Ї –ї–µ—В –≤—Л—А–Њ—Б —А–µ–≤–µ–љ—М –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–≤–Њ–ї–∞, –∞ –µ—Й–µ —З–µ—А–µ–Ј –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–∞—А—Г –Ь–∞—И–є–∞ –Є –Ь–∞—И–є–∞–љ–µ (–Ь–∞—А—В–є–∞ –Є –Ь–∞—А—В–є–∞–љ–≥). «–Ю–љ–Є (–≤—Л—А–Њ—Б–ї–Є) —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є—Е —А—Г–Ї–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–ї–µ—З–∞—Е (–і—А—Г–≥ —Г –і—А—Г–≥–∞), –Є –Њ–і–Є–љ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ, –Є –Њ–љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –Њ–і–љ–Є–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ –Є —Б –Њ–і–љ–Њ–є –≤–љ–µ—И–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ґ–∞–ї–Є–Є –Є—Е –Њ–±–Њ–Є—Е —Б—А–Њ—Б–ї–Є—Б—М, –Є –Њ–љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –Њ–і–љ–Є–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –љ–µ (–±—Л–ї–Њ) —П—Б–љ–Њ, –Ї—В–Њ (–Є–Ј –љ–Є—Е) –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞, –∞ –Ї—В–Њ—–ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞...» –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ–љ–Є –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј –Њ–±—А–∞–Ј–∞ —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Њ–±—А–∞–Ј —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –ї—О–і–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є –≤–µ—А—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –±–Њ–≥–∞ –Ю—А–Љ–∞–Ј–і–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–∞—В–µ–Љ –і—Г—Е –Ј–ї–∞ –Р—Е—А–Є- –Љ–∞–љ –њ—А–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –≤ (–Є—Е) –Љ—Л—Б–ї–Є –Є –Њ—Б–Ї–≤–µ—А–љ–Є–ї —Н—В–Є –Љ—Л—Б–ї–Є. –Я–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ —Б–Є–ї —В—М–Љ—Л –Њ–љ–Є –Њ—В –љ–µ–њ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –Ї —Г–±–Є–є—Б—В–≤—Г –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О –Њ—Б–љ–Њ–≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –Ґ–∞–Ї –Ь–∞—И–є–∞ –Є –Ь–∞—И–є–∞–љ–µ –≤—Л–Ї–Њ–њ–∞–ї–Є –Є–Ј –Ј–µ–Љ–ї–Є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –Є –љ–∞—И–ї–Є –≤ –љ–µ–Љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ, –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ –Є –Њ–≥–љ–µ–Љ –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ —В–Њ–њ–Њ—А. –Ю–љ–Є —Б—А—Г–±–Є–ї–Є –Є–Љ –і–µ—А–µ–≤–Њ –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–µ –±–ї—О–і–Њ. –Ш–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ–Є –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–Є, –і—Н–≤—Л –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–Є–ї–Є—Б—М, –Є –Ь–∞—И–є–∞ –Є –Ь–∞—И–є–∞–љ–µ —Б—В–∞–ї–Є –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—В—М –і—А—Г–≥ –Ї –і—А—Г–≥—Г –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ—Г—О –Ј–ї–Њ–±—Г. –Ю–љ–Є –≤—Б—В–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –і—А—Г–≥–∞, –±–Є–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, —А–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л –Є —Ж–∞—А–∞–њ–∞–ї–Є –ї–Є—Ж–∞. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –і—Н–≤—Л –њ—А–Њ–Ї—А–Є—З–∞–ї–Є –Є–Ј —В—М–Љ—Л: «–Т—Л—–ї—О–і–Є, (–њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г) –њ–Њ—З–Є—В–∞–є—В–µ –і—Н–≤–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л –≤–∞—И –і—Н–≤ –Ј–ї–Њ–±—Л –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г–ї». –Ь–∞—И–є–∞ –њ–Њ—И–µ–ї, –њ–Њ–і–Њ–Є–ї –Ї–Њ—А–Њ–≤—Г, –њ–ї–µ—Б–љ—Г–ї –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б–µ–≤–µ—А–∞ (–Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М —Б–≤–µ—В–∞ –≤ –Њ—А—В–Њ–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–Њ—А–Њ–∞—Б—В—А–Є–Ј–Љ–µ), –Є –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –і—Н–≤—Л —Б—В–∞–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є, –∞ –Њ–±–∞ –Њ–љ–Є (–Ь–∞—И–є–∞ –Є –Ь–∞—И–є–∞–љ–µ), —Б—В–∞–ї–Є —В–∞–Ї –±–µ—Б—Б–Є–ї—М–љ—Л, —З—В–Њ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є –ї–µ—В —Г –љ–Є—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –Є–Љ–µ—В—М –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М, –∞ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –Є –Є–Љ–µ–ї–Є –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М, —В–Њ —Г –љ–Є—Е –љ–µ —А–Њ–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –і–µ—В–Є. –Р –њ–Њ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є–Є –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є –ї–µ—В –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–µ—В—М –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Г –Ь–∞—И–є–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —Г –Ь–∞—И–є–∞–љ–µ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Ь–∞—И–є–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ь–∞—И–є–∞–љ–µ: «–Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –≤–Є–ґ—Г —В–µ–±—П, —Г –Љ–µ–љ—П –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ». –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Ь–∞—И–є–∞–љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: «–Ю –±—А–∞—В –Ь–∞—И–є–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –≤–Є–ґ—Г —В–≤–Њ–µ —В–µ–ї–Њ, —В–Њ –Є –≤ –Љ–Њ–µ–Љ —В–µ–ї–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ». –Ш —В–Њ–≥–і–∞ –Ї –љ–Є–Љ –њ—А–Є—И–ї–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ, –Є –Њ–љ–Є –µ–≥–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–Є. –£ –љ–Є—Е —З–µ—А–µ–Ј –і–µ–≤—П—В—М –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –і–≤–Њ–є–љ—П («–њ–∞—А–∞»), –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї –Є –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞. –Ш–Ј-–Ј–∞ –Є—Е –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–ґ—А–∞–ї–∞ –Љ–∞—В—М, –∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ — –Њ—В–µ—Ж. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Ю—А–Љ–∞–Ј–і –ї–Є—И–Є–ї –і–µ—В–µ–є –Є—Е –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ–±—Л —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є –і–µ—В–µ–є, –Є –і–µ—В–Є –≤—Л–ґ–Є–≤–∞–ї–Є. –Ю—В –Ь–∞—И–є–∞ –Є –Ь–∞—И–є–∞–љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —Б–µ–Љ—М –њ–∞—А, –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –±—А–∞—В –±—Л–ї –Љ—Г–ґ–µ–Љ, –∞ —Б–µ—Б—В—А–∞ — –ґ–µ–љ–Њ–є. –Ю—В –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Є–Ј –њ–∞—А –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є –ї–µ—В —А–Њ–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –і–µ—В–Є, –∞ —Б–∞–Љ–Є –Ь–∞—И–є–∞ –Є –Ь–∞—И–є–∞–љ–µ —Г–Љ–µ—А–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј —Б—В–Њ –ї–µ—В292. –Ш—А–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—Д –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–Ї–ї–Є–Ї–∞–µ—В—Б—П —Б –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї—Г–њ–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–µ—Б–љ—П–Љ–Є, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Б—Б–Њ—А—Л –±—А–∞—В–∞ –Є —Б–µ—Б—В—А—Л, –њ–µ—А–µ–Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞—Е –≤ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ —Б–µ—Б—В—А—Л –±—А–∞—В–Њ–Љ, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –њ—А–Њ –Є–љ—Ж–µ—Б—В –Є –Њ–Љ—А–∞—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–∞–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Љ–∞—А–∞. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Д–Њ–≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ –њ–µ—А–≤–∞—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–∞—А–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –Є–Ј —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П –Є –ї–Є—И—М –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–∞ –Є–љ—Ж–µ—Б—В, –∞ –≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є — –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Г–і–µ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –≥–ї–∞–≤–µ, –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–µ –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≥—А–µ—Е–∞ –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –≤ —Ж–≤–µ—В—Л –≤ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Ј–∞ –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є —Б–∞–Љ—Г—О –њ–Њ–Ј–і–љ—О—О —Б—В–∞–і–Є—О –њ–µ—А–µ–Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Д–∞ –≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є. –Т —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —Б—В–Њ–Є—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –Ј–Њ—А–Њ–∞—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є —Ж–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —В—А–µ—Е —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –і—А—Г–≥ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Є–љ—Ж–µ—Б—В–Њ–≤, –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В—Л –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П: —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –У–∞–є–Њ–Љ–∞—А—В–∞ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–±–Њ –Є –Ј–µ–Љ–ї—П, —Б—В–∞–≤—И–Є–µ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–є –±–Њ–≥ –Р—Е—Г—А–∞ –Ь–∞–Ј–і–∞ –Є –µ–≥–Њ –і–Њ—З—М, –±–Њ–≥–Є–љ—П –Ј–µ–Љ–ї–Є –°–њ–∞–љ–і–∞—А–Љ–∞—В293. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П, –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤—Л—И–µ, –Њ—В —Б–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ —А–Њ–ґ–∞–µ—В –±—А–∞—В–∞ –Є —Б–µ—Б—В—А—Г, –Њ—В –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ, –љ–Њ –Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–∞. –Т —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —А–µ—З—М –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ —И–ї–∞ –љ–µ –Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є, –∞ –Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—Л –Є–Ј —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –≤ —А—П–і–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –Љ–Њ–≥–ї–Є –Ј–∞–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П –і–µ—А–µ–≤—М—П–Љ–Є –Є–ї–Є –≥—А–Є–±–∞–Љ–Є, –љ–∞—Б —Г–±–µ–ґ–і–∞—О—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Њ–≥–Є–Ї–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—О–ґ–µ—В–∞ –Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є, –љ–Њ –Є —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–∞: «–Я–Њ –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ, –њ–µ—А–≤—Л–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Є –Є–Ј –≥—А–Є–±–Њ–≤ (–Њ–±–ї–∞—Б—В—М –Ь–Њ–љ—В–∞–љ–∞)»294.
–•–Њ—В—П –≤ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –њ–µ—А–≤–∞—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–∞—А–∞ –≤ –≤–Є–і–µ –±—А–∞—В–∞ –Є —Б–µ—Б—В—А—Л –ѓ–Љ—Л –Є –ѓ–Љ–Є, —Д–∞–Ї—В –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –Њ—В—А–Є—Ж–∞–µ—В—Б—П, –∞ –≤–µ—Б—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–Њ–і –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї –Є—Е –±—А–∞—В—Г –Ь–∞–љ—Г. –•–Њ—В—М –≤ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є—Д–∞—Е –љ–∞–њ—А—П–Љ—Г—О –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –ѓ–Љ—Л –Є–ї–Є –Ь–∞–љ—Г –Є–Ј —Ж–≤–µ—В–Њ–≤, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–ї–µ–і—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Ї–∞–Ї –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є, —В–∞–Ї –Є —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–µ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—А–≤–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А–µ –ѓ–Љ–µ –Є –ѓ–Љ–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В –∞–≤–µ—Б—В–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ–∞—А–∞ –Щ–Є–Љ–∞ –Є –Щ–Є–Љ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –ї–∞—В—Л—И—Б–Ї–Є–є –Ѓ–Љ–Є—Б —Б –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–Њ–є –Ѓ–Љ–∞–ї–Њ–є. –Э–∞ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ—Г—О –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—М –≤–µ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Д–∞ —Г–ґ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є, –Њ—В–Љ–µ—З–∞–≤—И–Є–µ –µ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є—П —Г –і—А—Г–≥–Є—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –њ—А–Є—З–µ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ —Б—О–ґ–µ—В–∞, –љ–Њ –Є –≤ –њ–ї–∞–љ–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞: «–°–∞–Љ–Њ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Є–Љ—П Yama –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ї –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—О “–±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–∞”, –∞—А—Е–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є.-–µ. q’emo-: –і—А.-–Є–љ–і. yama- “–±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж”, –∞–≤–µ—Б—В. —Г–µ—И–∞- “–±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж”, –ї–∞—В. geminus “–±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж”, —Б—А.-–Є—А–ї. emuin “–±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж”, –ї–∞—В—Л—И, jumis “—Б–і–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–ї–Њ–і”, “—Б–і–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–Њ—Б”, “—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ”»295. –У–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –ѓ–Љ–µ –ї–∞—В—Л—И—Б–Ї–Є–є –Ѓ–Љ–Є—Б, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї —Б—А–Њ—Б—И–Є–µ—Б—П –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Њ—Б—М—П –Є–ї–Є –њ–ї–Њ–і—Л, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є — –±—Л–ї –≤ –ї–∞—В—Л—И—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –њ–Њ–ї–µ–≤—Л–Љ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–ї–Є –і—Г—Е–Њ–Љ, –њ–µ—А—Б–Њ–љ–Є—Д–Є—Ж–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ —Г–і–∞—З–љ—Л–є —Г—А–Њ–ґ–∞–є. –Т –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ–Љ—Л—Е –Ј–ї–∞–Ї–Њ–≤, –Ѓ–Љ–Є—Б –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М —А–ґ–∞–љ—Л–Љ, —П—З–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ, –ї—М–љ—П–љ—Л–Љ –Є —В.–њ. –Т –њ–µ—Б–љ—П—Е —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –і–∞–љ–љ—Л–є –і—Г—Е –љ–∞ —И–µ—Б—В–µ—А–Ї–µ –ї–Њ—И–∞–і–µ–є –µ–і–µ—В –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ, —З—В–Њ–±—Л –њ–µ—А–µ–Ј–Є–Љ–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ–і –і–µ—А–љ–Њ–Љ –Є–ї–Є –≥—А—Г–і–Њ–є –Ї–∞–Љ–љ–µ–є; –ї–µ—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–∞ –њ–Њ–ї—П—Е; —Б—А–µ–і–Є –њ–Њ–ї—П –Њ–љ –Ї—Г–µ—В —И–њ–Њ—А—Л, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ —Б–ї–∞–≤–Њ–є –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞—В—М –Є–Ј —А–Є–≥–Є –≤ –Ї–ї–µ—В—М. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–∞ –Ѓ–Љ–∞–ї–∞, —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ «–Ј–µ—А–љ–Њ–≤–∞—П –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞», –Є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї –Ѓ–Љ–∞–ї–µ–љ—М296. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є –ї–∞—В—Л—И—Б–Ї–Є–є –Ѓ–Љ–Є—Б –±—Л–ї –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Ї–∞—П –ґ–µ —Б–≤—П–Ј—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є —Г –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –µ–Љ—Г –≤–µ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ѓ–Љ—Л. –Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, —Б—В–∞—А—И–Є–Љ —Б—Л–љ–Њ–Љ –±—А–∞—В–∞ –ѓ–Љ—Л –Ь–∞–љ—Г –±—Л–ї –Ш–Ї—И–≤–∞–Ї—Г (–і—А.-–Є–љ–і. Iksvaku), —Б–∞–Љ–Њ –Є–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —Б —Б–∞–љ—Б–Ї—А. iksu — «—Б–∞—Е–∞—А–љ—Л–є —В—А–Њ—Б—В–љ–Є–Ї»297. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Б–≤—П–Ј—М —Б —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Є —Г –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї–∞ –ѓ–Љ—Л, —Б—Л–љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ –≤–µ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Д–∞. –Т-—В—А–µ—В—М–Є—Е, –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ –є–Њ–≥–Є –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В —З–∞–Ї—А—Л (—Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Ж–µ–љ—В—А—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–∞) –≤ –≤–Є–і–µ —Ж–≤–µ—В–Ї–Њ–≤ –ї–Њ—В–Њ—Б–∞ —Б —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –ї–µ–њ–µ—Б—В–Ї–Њ–≤ — –Њ—В —З–µ—В—Л—А–µ—Е —Г —Б–∞–Љ–Њ–є –љ–Є–ґ–љ–µ–є —З–∞–Ї—А—Л –і–Њ —В—Л—Б—П—З–Є –ї–µ–њ–µ—Б—В–Ї–Њ–≤ —Г —Б–∞–Љ–Њ–є –≤–µ—А—Е–љ–µ–є, —З—В–Њ –Њ–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –≤ —Н—В–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞.
–°–ї–µ–і—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Д–∞ –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є–Ј —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є, –њ—А–∞–≤–і–∞ –љ–∞ —Б–µ–є —А–∞–Ј –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е, –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ –Є –≤ —В–∞–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –Ї–∞–Ї –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П. «–Т—Л—Е–Њ–і—П –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М, –Ч–µ–Љ–ї—П –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї–∞ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Ї–Њ–ї–Њ—Б—М—П, — –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А—Г–µ—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—З–µ—Б–Ї—Г—О —А–µ–ї–Є–≥–Є—О –Р—Д–Є–љ –С.–Ы. –С–Њ–≥–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є, — –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≤ –≤–Є–і–µ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞. –Э–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤—Л—И–µ –∞—Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ—А—А–∞–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–Љ —А–µ–ї—М–µ—Д–µ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л V –≤–µ–Ї–∞ (–і–Њ –љ.—Н. — Af.C.) –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –У–ї—П–і—П –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ, –Љ—Л –Ї–∞–Ї –±—Л –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ–Љ –њ—А–Є –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є –∞—Д–Є–љ—П–љ–Є–љ–∞, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–є –Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј. –Ь–µ–ґ–і—Г –Р—Д–Є–љ–Њ–є –Є –Ъ–µ–Ї—А–Њ–њ—Б–Њ–Љ, —В—Г–ї–Њ–≤–Є—Й–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ј–Љ–µ–Є–љ—Л–Љ —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–Љ, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є–Љ –љ–∞ –µ–≥–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є–Ј –Ј–µ–Љ–ї–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ —Б —А–∞—Б–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є, –њ–∞–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є –і–Њ –њ–ї–µ—З. –≠—В–Њ –Ч–µ–Љ–ї—П, –≤—Л—Е–Њ–і—П—Й–∞—П –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–µ–і—А. –Т —А—Г–Ї–∞—Е –Њ–љ–∞ –і–µ—А–ґ–Є—В —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–∞ –≠—А–Є—Е—В–Њ–љ–Є—П — —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞-–Ї–Њ–ї–Њ—Б–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞—П –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї—П, –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –њ–Њ–і –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Р—Д–Є–љ—Л, –Ј–∞–±–Њ—В–Є–≤—И–µ–є—Б—П –Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –≤–ї–∞–≥–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ. (...) –°—З–Є—В–∞—П, —З—В–Њ –Ч–µ–Љ–ї—П —Б–∞–Љ–∞ —А–Њ–ґ–∞–ї–∞ –і–µ—В–µ–є –Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є—Е –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –љ–∞ —Б–≤–µ—В, –∞—Д–Є–љ—П–љ–µ –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є –µ–µ –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П—Е –Ф–µ—В–Њ–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л, –Ї—Г–ї—М—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –У—А–µ—Ж–Є–Є»298. –°—В–Њ–Є—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≠—А–Є—Е—В–Њ–љ–Є–є —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –∞—В—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Ж–∞—А–µ–є, –Љ–Є—Д –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В –Є—Б–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤–ї–∞—Б—В–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞ –У—А–µ—Ж–Є–Є, –∞ —Б–∞–Љ–Њ –Є–Љ—П –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ—Г—О —Б–≤—П–Ј—М —Б –Ј–µ–Љ–ї–µ–є –µ–≥–Њ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П (–≥—А–µ—З. chton — «–Ј–µ–Љ–ї—П», –µ–њ — –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–∞—П —З–∞—Б—В–Є—Ж–∞). –•–Њ—В—М —Б–Ї–µ–њ—В–Є–Ї –Х–≤—А–Є–њ–Є–і –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Є –≤–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤ —Г—Б—В–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ «–њ–Њ—З–≤–∞ –љ–µ —А–Њ–ґ–∞–µ—В –і–µ—В–µ–є», –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –∞—Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—О. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В —В–µ—Б–љ–µ–є—И–Є–є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є–Ј–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Ј–ї–∞–Ї–Њ–≤ –Є —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –і–µ—В–µ–є: «–Ю—В –њ–Њ–ї—П, –Њ–њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–ї–µ–±–љ—Л–Љ –Ј–µ—А–љ–Њ–Љ, –≥—А–µ–Ї–Є –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Є –≤—Б—Е–Њ–і–Њ–≤-–і–µ—В–µ–є, –Њ—В –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї, —А–Њ–і—П—В—Б—П –і–µ—В–Є-–≤—Б—Е–Њ–і—Л, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –±—А–∞—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞ –Љ–Њ–≥–ї–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –і–µ—А–ґ–∞—Й–Є—Е –≤ —А—Г–Ї–∞—Е —Е–ї–µ–±–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–Њ—Б»299. –°—Г–Љ–Љ–Є—А—Г—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ —Б–≤—П–Ј–Є –Ф–µ–Љ–µ—В—А—Л, –і—А—Г–≥–Њ–є –і—А–µ–≤–љ–µ–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–µ, –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П–≤—И–µ–є –Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ –њ–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Є–µ, —Б —Г–Љ–µ—А—И–Є–Љ–Є, –С.–Ы. –С–Њ–≥–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В: «–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –≤ –ї–Њ–љ–Њ –Ј–µ–Љ–ї–Є –Є, –њ–Њ–њ–∞–і–∞—П –≤ –µ–µ –њ–Њ—З–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–ї–Њ–є, –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Є –Ј–∞—А–Њ–і—Л—И–Є –љ–Њ–≤–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Х–≥–Њ —В–µ–ї–Њ —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Њ—Б—М –≤–љ–Њ–≤—М –≤ —В—Г –ґ–µ –њ–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–љ—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –ґ–Є–≤–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ—Б — —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї»300. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–≥–Є–љ–Є: «–° –У–µ (–У–µ–µ–є. — –Ь.–°.) –±—Л–ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Ї—Г–ї—М—В—Л –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –µ–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є, –Ї–∞–Ї –Ь–∞—В–µ—А–Є –Ч–µ–Љ–ї–Є, –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–≤—И–µ–є –ї—О–і—П–Љ –њ–ї–Њ–і—Л –Ј–µ–Љ–љ—Л–µ, –≤—Б–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ –і–ї—П –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –Ј–∞–±–Њ—В–Є–≤—И–µ–є—Б—П –Њ –і–µ—В—П—Е, –љ–∞—А—П–і—Г —Б —Н—В–Є–Љ, –У–µ –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Р—Д–Є–љ–∞—Е —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–∞–Ї –±–Њ–≥–Є–љ—П —Б–Љ–µ—А—В–Є –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є»301.
–Э–∞—А—П–і—Г —Б –Љ–Є—Д–Њ–Љ –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞—Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П –≠—А–Є—Е—В–Њ–љ–Є—П –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞ –Њ—В–≥–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Є –Є –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–∞—А—Л, –≤ –Њ–±–ї–Є–Ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —З–µ—А—В—Л. –Э–∞—Б–ї–∞–≤ –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї—О —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є –Ф–µ–≤–Ї–∞–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ –њ–Њ—В–Њ–њ, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–≤—И–Є–є –ї—О–і–µ–є «–Љ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞», –Ч–µ–≤—Б, –і–ї—П –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї –ґ–Є–Ј–љ—М –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–∞—А–µ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ — —Ж–∞—А—О –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –§—В–Є–Є –≤ –§–µ—Б—Б–∞–ї–Є–Є –Ф–µ–≤–Ї–∞–ї–Є–Њ–љ—Г –Є –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–µ –Я–Є—А—А–µ, –±—Л—И–Є–Љ–Є –љ–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –љ–µ —А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є, –∞ –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –±—А–∞—В–Њ–Љ –Є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є:
–Ъ –≤–µ—З–µ—А—Г –і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ –і–љ—П –Є –ї–µ—Б–Њ–≤ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Љ–∞–Ї—Г—И–Ї–Є –У–Њ–ї—Л–µ, —В–Є–љ–∞ —Г –љ–Є—Е –µ—Й–µ –љ–∞ –≤–µ—В–≤—П—Е –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М.
–Ь–Є—А –≤–Њ–Ј—А–Њ–Є–ї—Б—П –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є. –Ш —Г–≤–Є–і–µ–≤, —З—В–Њ —В–∞–Ї –Њ–њ—Г—Б—В–µ–ї –Њ–љ –Ш —З—В–Њ –≤ –њ–µ—З–∞–ї–Є –Ј–µ–Љ–ї—П –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–Љ –Њ–±—К—П—В–∞ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ—М–µ–Љ, –Ф–µ–≤–Ї–∞–ї–Є–Њ–љ, –Ј–∞—А—Л–і–∞–≤, –Ї —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Я–Є—А—А–µ:
«–Э–∞—Б, –Њ —Б–µ—Б—В—А–∞, –Њ –ґ–µ–љ–∞, –Њ –µ–і–Є–љ–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –≤ –Љ–Є—А–µ,
–Ґ—Л, —Б –Ї–µ–Љ –Є –Њ–±—Й–Є–є —А–Њ–і, –Є –і–µ–і —Г –Њ–±–Њ–Є—Е –µ–і–Є–љ—Л–є,
–Э–∞—Б –≤–µ–і—М –Є –±—А–∞–Ї —Б—К–µ–і–Є–љ–Є–ї, —В–µ–њ–µ—А—М —Б—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М, — –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Є –≤–Є–і–Є—В –Ј–µ–Љ–ї–Є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї –Є –Ч–∞–њ–∞–і, –≤—Б—О –Ј–µ–Љ–ї—О –Ь—Л –љ–∞—Б–µ–ї—П–µ–Љ –≤–і–≤–Њ–µ–Љ. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≤—Б–µ –Љ–Њ—А—О –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М.
(...)
–Э—Л–љ–µ –ґ–µ –≤ –љ–∞—Б –ї–Є—И—М –і–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л—Е –њ–Њ—А–Њ–і–∞; –Ґ–∞–Ї —Г–ґ —Г–≥–Њ–і–љ–Њ –±–Њ–≥–∞–Љ, —З—В–Њ–± –ї—О–і–µ–є –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–Љ –Љ—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М»302.
–°–∞–Љ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—В–Є–≤ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –≤ –Ї–Њ–≤—З–µ–≥–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—Л –Є –≤—В–Њ—А–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–µ–љ —Б —И—Г–Љ–µ—А—Б–Ї–Є–Љ –Є –±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Њ –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –≤–ї–Є—П–љ–Є–Є –љ–∞ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—О. –Т—В–Њ—А–Є—З–љ—Л–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є –Љ–Њ—В–Є–≤ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —Н—В–∞ –њ–∞—А–∞ –≤–Њ–Ј—А–Њ–і–Є–ї–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–Њ–і, –±—А–Њ—Б–∞—П –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ—Г –Ї–∞–Љ–љ–Є. –Ъ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И–Є–Љ –љ–∞–њ–ї–∞—Б—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г –љ–µ —А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є, –∞ –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –±—А–∞—В–Њ–Љ –Є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є, —П–≤–ї—П—О—Й–µ–µ—Б—П —Г—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–є –љ–Њ–≤—Л–Љ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ. –°—Г–і—П –њ–Њ —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–і–Њ—А, —Б—Л–љ–Њ–Љ –Ф–µ–≤–Ї–∞–ї–Є–Њ–љ–∞ –Є –Я–Є—А—А—Л –±—Л–ї –≠–ї–ї–Є–љ, —П–≤–Є–≤—И–Є–є—Б—П —А–Њ–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤—Б–µ—Е –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ, –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ–Є—Д–µ —А–µ—З—М —И–ї–∞ –Њ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–∞—А–µ –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї–µ, —Б—В–∞–≤—И–µ–є –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –≤—Б–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ —З—В–Њ —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ф–µ–≤–Ї–∞–ї–Є–Њ–љ –Є –Я–Є—А—А–∞ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А–Њ–є, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Є –≤ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Є—Д–µ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –љ–∞–њ–ї–∞—Б—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ –њ–Њ—В–Њ–њ–µ –Є —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Є–Ј –Ї–∞–Љ–µ–љ–µ–є, –µ—Б–ї–Є –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ—А–Є—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М—Б—П, –Љ—Л –љ–∞–є–і–µ–Љ —Б–ї–µ–і—Л –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –ї—О–і–µ–є –Є–Ј –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В –†. –У—А–µ–є–≤—Б, —Б–∞–Љ–Њ –Є–Љ—П –Ф–µ–≤–Ї–∞–ї–Є–Њ–љ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В «—Б–ї–∞–і–Ї–Њ–µ –≤–Є–љ–Њ», –∞ –Є–Љ—П –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Л –Я–Є—А—А—Л — «–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П»303, —З—В–Њ, —Б—Г–і—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ —Ж–≤–µ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–Є—В–Ї–∞. –Ю–± –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—К–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤—П–Ј–Є –і–∞–љ–љ–Њ–є –њ–∞—А—Л —Б –≤–Є–љ–Њ–Љ –Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б –ї–Њ–Ј–Њ–є, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ–∞—П –Я–∞–≤—Б–∞–љ–Є–µ–Љ –ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П –≤–µ—А—Б–Є—П –Њ–± –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–Є –≤–Є–љ–Њ–і–µ–ї–Є—П, —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П —Б —Б—Л–љ–Њ–Љ –Ф–µ–≤–Ї–∞–ї–Є–Њ–љ–∞: «–°–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ъ–Є—А—А—Л –Ї –§–Њ–Ї–Є–і–µ –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞—О—В –Ј–µ–Љ–ї–Є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –ї–Њ–Ї—А–Њ–≤ –Њ–Ј–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Є—Е –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–∞, —П —Б–ї—Л—Е–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –≤–µ—А—Б–Є–є, –Є —П –њ–µ—А–µ–і–∞–Љ –Є—Е –≤—Б–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ю—А–µ—Б—Д–µ–є, —Б—Л–љ –Ф–µ–≤–Ї–∞–ї–Є–Њ–љ–∞, —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —Н—В–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ, –Њ–і–љ–∞ –µ–≥–Њ —Б–Њ–±–∞–Ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Й–µ–љ–Ї–∞ —А–Њ–і–Є–ї–∞ –Ї—Г—Б–Њ–Ї –і–µ—А–µ–≤–∞. –Ю—А–µ—Б—Д–µ–є –Ј–∞–Ї–Њ–њ–∞–ї –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О —Н—В–Њ—В –Ї—Г—Б–Њ–Ї –і–µ—А–µ–≤–∞, –љ–Њ —Б –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–µ—Б–љ—Л, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї—Г—Б–Ї–∞ –і–µ—А–µ–≤–∞ –≤—Л—А–Њ—Б –≤–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і, –Є –Њ—В –њ–Њ–±–µ–≥–Њ–≤ (–Њ–Ј–Њ–є) —Н—В–Њ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤–∞ –±—Л–ї–Њ –і–∞–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Є –ї—О–і—П–Љ»304. –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –Є —Б–њ–∞—Б—И–∞—П—Б—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—В–Њ–њ–∞ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–∞—А–∞, –Є –Є—Е —Б—Л–љ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –≤–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–Њ–Љ, –∞ —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –Њ—В –њ–Њ–±–µ–≥–Њ–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–µ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–ї–µ–Љ—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–є –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—Д —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Њ—В –≤–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–љ—Л—Е –њ–Њ–±–µ–≥–Њ–≤ –≤—Б–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞. –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –Љ–µ—Б—В–Њ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –У—А–µ—Ж–Є–Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –≤–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і, –Ј–∞–Љ–µ–љ—П—П —Б–Њ–±–Њ–є –Ї–∞–Ї —А–µ–≤–µ–љ—М –≤ –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–є, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ–ї–µ–≤—Л–µ —Ж–≤–µ—В—Л –Є–ї–Є –≥—А–Є–±—Л –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е. –Ф–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–Љ –њ–µ—А–µ–Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–Є–Є –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ–Є –≥—А–µ–Ї–∞–Љ–Є –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Д–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –≤ —В—Г —Н–њ–Њ—Е—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Є–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –Є–≥—А–∞—В—М –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ч–∞—В–µ–Љ —Н—В–Њ—В, —Г–ґ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–љ—Л–є, –Љ–Є—Д –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥—Б—П –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—О —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –С–ї–Є–ґ–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –Љ–Є—Д–∞ –Њ –Т—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–Љ –њ–Њ—В–Њ–њ–µ. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —Б—В–∞–і–Є–Є –њ–µ—А–µ–Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–Є—П –∞–љ—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Д–∞ –Ф–µ–≤–Ї–∞–ї–Є–Њ–љ –Є –Я–Є—А—А–∞ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–∞—О—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–Њ–і, –±—А–Њ—Б–∞—П –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ—Г –Ї–∞–Љ–љ–Є, —З—В–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Њ–±—Й–µ–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ–Љ, –∞ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –≤ «—Б–љ–Є–ґ–µ–љ–љ–Њ–є» –Є —Г–ґ–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Є—Б–Ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П –ї–Є—И—М —Г –Њ–Ј–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –ї–Њ–Ї—А–Њ–≤, –Њ–і–љ–Є—Е –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Њ—В—Б—В–∞–ї—Л—Е –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е —Г —Б–µ–±—П –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –∞—А—Е–∞–Є—З–љ—Л–µ —Б—О–ґ–µ—В—Л.
–£ —А–Є–Љ–ї—П–љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –Љ–Є—Д –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –ї—О–і–µ–є –Њ—В –і—Г–±–∞, –љ–Њ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ «—А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є» –Љ–Є—Д –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –≥–µ—А–Љ–∞–љ–Њ-—Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Ж–µ–≤, –і—А–µ–≤–љ–µ—А–Є–Љ—Б–Ї–Є–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Ґ–∞—Ж–Є—В —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –Њ –љ–Є—Е —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ: «–Т –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є—П—Е... –Њ–љ–Є —Б–ї–∞–≤—П—В –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ–є –±–Њ–≥–∞ –Ґ—Г–Є—Б—В–Њ–љ–∞. –Х–≥–Њ —Б—Л–љ –Ь–∞–љ–љ — –њ—А–∞—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Є –њ—А–∞–Њ—В–µ—Ж –Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–∞; –Ь–∞–љ–љ—Г –Њ–љ–Є –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—В —В—А–µ—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є, –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–±–Є—В–∞—О—Й–Є–µ –±–ї–Є–Ј –Ю–Ї–µ–∞–љ–∞ –њ—А–Њ–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Є–љ–≥–µ–≤–Њ–љ–∞- –Љ–Є, –њ–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ — –≥–µ—А–Љ–Є–Њ–љ–∞–Љ–Є, –≤—Б–µ –њ—А–Њ—З–Є–µ — –Є—Б—В–µ–≤–Њ–љ–∞–Љ–Є»305. –Ъ–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞, –њ–µ—А–≤—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –±—Л–ї —Б—Л–љ–Њ–Љ –Ј–µ–Љ–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Ґ—Г–Є—Б—В–Њ–љ–∞, —Б–∞–Љ–Њ –Є–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –і–≤–Њ–є–љ–Њ–µ, –і–≤—Г–њ–Њ–ї–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤ —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А–Њ–є —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Р—Б–Ї –Є –≠–Љ–±–ї—М, –Є–Љ–µ–љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–∞—В –ѓ—Б–µ–љ—М –Є –Ш–≤–∞.
–°–ї–µ–і—Л –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –Є —Г –Ї–µ–ї—М—В–Њ–≤. –Ь–Є—Д –Њ –Ґ–∞–ї–Є–µ—Б–Є–љ–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ, —Б–ї—Г–ґ–∞ —Г –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–Є—Ж—Л –Ъ–µ—А–Є–і–≤–µ–љ—Л, —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –Њ–±—А–µ–ї –і–∞—А –≤—Б–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Я—А–Є–і—П –≤ —Б—В—А–∞—И–љ—Г—О —П—А–Њ—Б—В—М, –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–Є—Ж–∞ —А–µ—И–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ —Г–±–Є—В—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї, –Ј–љ–∞—П, –Ї–∞–Ї–∞—П —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –µ–Љ—Г —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–µ—В, –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –±–µ–ґ–∞—В—М. –Т —Е–Њ–і–µ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–ї–і—Г–љ—М—П –Є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Љ–µ–љ—П–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –Њ–±–ї–Є—З—М—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї –Њ–±–µ—А–љ—Г–ї—Б—П —Е–ї–µ–±–љ—Л–Љ –Ј–µ—А–љ–Њ–Љ, –∞ –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–Є—Ж–∞——З–µ—А–љ–Њ–є –Ї—Г—А–Є—Ж–µ–є –Є —Б–Ї–ї–µ–≤–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ—А–Њ–≥–ї–Њ—В–Є–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞, –Ъ–µ—А–Є–і–≤–µ–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Є–Љ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞ –Є —З–µ—А–µ–Ј –і–µ–≤—П—В—М –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ —А–Њ–і–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –љ–∞ —Б–≤–µ—В. –•–Њ—В—М –Ї–Њ–ї–і—Г–љ—М—П –Є —Е–Њ—В–µ–ї–∞ —Г–±–Є—В—М –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–≤ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ, –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞, —З—В–Њ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї –≤—Л—А–Њ—Б, –Њ–љ —Б—В–∞–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –±–∞—А–і–Њ–Љ –Ґ–∞–ї–Є–µ—Б–Є–љ–Њ–Љ –Є, –њ—А–Њ–Ј—А–µ–≤ –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–≤–µ–і–∞–ї –Њ –љ–Є—Е –≤ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є –њ–Њ—Н–Љ–µ «–С–Є—В–≤–∞ –і–µ—А–µ–≤—М–µ–≤». –Т –љ–µ–є –Ґ–∞–ї–Є–µ—Б–Є–љ, –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤ –≤ —Б–µ–±–µ –Я–µ—А–≤–Њ–±–Њ–≥–∞, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї–∞ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П, –њ—А—П–Љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї: «–ѓ –±—Л–ї –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ, –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ —Б—В–∞–ї —Б–Њ–±–Њ–є». –Ґ–∞–Ї, –њ–µ–≤–µ—Ж –±—Л–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤–Њ–Є–љ–Њ–Љ, –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ–Є (–±—Л–Ї–Њ–Љ, –Њ–ї–µ–љ–µ–Љ, –ґ–µ—А–µ–±—Ж–Њ–Љ –Є —В.–і.), –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –љ–µ–Њ–і—Г—И–µ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ (–Ї–∞–њ–ї–µ–є –і–Њ–ґ–і—П, –ї–Њ–і–Ї–Њ–є, –Љ–µ—З–Њ–Љ, —Б—В—А—Г–љ–Њ–є –∞—А—Д—Л, –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ–љ–Њ–є –Є —В.–і.), –љ–Њ –Є —Е–ї–µ–±–љ—Л–Љ –Ї–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ —Е–Њ–ї–Љ–∞306. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–Њ–є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ–≤—Ж–∞:
–Э–µ –±—Л–ї —А–Њ–ґ–і–µ–љ —П –Њ—В—Ж–Њ–Љ –Є –Љ–∞—В–µ—А—М—О;
–Т–Њ—В –і–µ–≤—П—В—М —З–∞—Б—В–µ–є, –Є–Ј –Ї–Њ–Є—Е —П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є –Ґ–≤–Њ—А–µ–љ—М–Є:
–Ш–Ј –њ–ї–Њ–і–Њ–≤ —Д—А—Г–Ї—В–Њ–≤, –Є–Ј –њ–ї–Њ–і–Њ–≤ –С–Њ–≥–∞ — –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ;
–Ш–Ј –њ–µ—А–≤–Њ—Ж–≤–µ—В–Њ–≤; —Ж–≤–µ—В–Њ–≤, —З—В–Њ —А–∞—Б—В—Г—В –љ–∞ —Е–Њ–ї–Љ–∞—Е; –Є–Ј –ї–µ—Б–љ—Л—Е –Є –і—А–µ–≤–µ—Б–љ—Л—Е —Ж–≤–µ—В–Њ–≤;
–Ш–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л –Ј–µ–Љ–ї–Є –±—Л–ї —П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ;
–Ш–Ј –Ї—А–∞–њ–Є–≤—Л —Ж–≤–µ—В–Ї–Њ–≤; –Є –Є–Ј –≤–Њ–і –і–µ–≤—П—В–Њ–є –≤–Њ–ї–љ—Л307.
–°–∞–Љ —В–µ–Ї—Б—В –њ–Њ—Н–Љ—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –µ—Й–µ –і–Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є—П –і—А–µ–≤–љ–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤—Л–≤–Њ–і–Є–ї —Б–≤–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є–Ј –і–Є–Ї–Њ—А–∞—Б—В—Г—Й–Є—Е —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є.
–Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–є –≥–ї–∞–≤–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –Љ–Є—Д –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Є–Ј —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є –Є–ї–Є, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞, –Є–Ј –і–µ—А–µ–≤—М–µ–≤ –±—Л–ї —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–µ–љ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ–Љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—А–Њ–і–∞–Љ. –Х–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Л –Љ—Л –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –≤–Є–і–Є–Љ –≤ –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–є, –≥–µ—А–Љ–∞–љ–Њ-—Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Б–Ї–Њ–є, —А–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Ї–µ–ї—М—В—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е, –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е—Г–і—И–µ–Љ –≤–Є–і–µ –Њ–љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –≤ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є, —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—П—Е. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і–∞–љ–љ—Л–є «—А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є» –Љ–Є—Д –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Д–Є–Ї–Є—Б—А—Г–µ—В—Б—П –њ–Њ—З—В–Є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ, –Љ—Л —Б –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –≤—А–µ–Љ—П –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –Ї —Н–њ–Њ—Е–µ –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ —Н—В–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є. –Ґ–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Є—Д–µ –њ–µ—А–≤–∞—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—Б–Ї–∞—П –њ–∞—А–∞, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П–Љ, —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј –ї–Њ–љ–∞ –Ь–∞—В–µ—А–Є –Ч–µ–Љ–ї–Є, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Д–∞ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞—Е —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Д–∞ –ї—О–і–Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—В –љ–µ –Њ—В –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е, –∞ –Њ—В –і–Є–Ї–Њ—А–∞—Б—В—Г—Й–Є—Е —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є –ї–Є–±–Њ –≤–Њ–≤—Б–µ –Њ—В –і–µ—А–µ–≤—М–µ–≤, —Н—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –µ—Й–µ —Г—В–Њ—З–љ–Є—В—М –≤—А–µ–Љ—П –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П, –Њ—В–љ–µ—Б—П –µ–≥–Њ –Ї –і–Њ–Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ, –љ–Є–Ј–≤–µ—А–≥–љ—Г–≤ —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ю—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞, –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–∞—П —А–µ–ї–Є–≥–Є—П –±—Л–ї–∞ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –Є —Б–≤–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Є—Д –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞, –Њ—В–≤–µ—А–≥–∞—О—Й–Є–є –µ–≥–Њ –Ј–≤–µ–Ј–і–љ–Њ–µ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ –Є —Б—В–∞–ї «—А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є» –Љ–Є—Д –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤, –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–є —А–Њ–і—Б—В–≤–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Ч–µ–Љ–ї–µ–є, –Љ—Л—Б–ї—П—Й–µ–є—Б—П –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–µ –С–Њ–≥–Є–љ–Є-–Ь–∞—В–µ—А–Є –Є –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞–µ–Љ–Њ–є –µ—О —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ъ–∞–Ї –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ, –љ–Њ–≤—Л–є –Љ–Є—Д –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –∞ —З–∞—Б—В—М –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ –Љ—Л –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –Є –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Є—Д–µ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ —А–µ—З—М —И–ї–∞ –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Є–Ј —Ж–≤–µ—В–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—Л, –≤—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–µ–є –≤ –±—А–∞–Ї –Є –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ, –Є –ї–Є—И—М –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ–≤—Л—Е –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї, –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є —В–µ–Ї—Б—В –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥—Б—П –њ–µ—А–µ–Ї–Њ–і–Є—А–Њ–≤–Ї–µ. –Э–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Б—Г–і–Є—В—М, –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —В–µ–Ї—Б—В–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –Љ–Њ—В–Є–≤ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Ј–∞ –Є–љ—Ж–µ—Б—В –≤ –≤–Є–і–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Ж–≤–µ—В—Л, –∞ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ —Н—В–∞–њ–µ —Б—В–∞–ї –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М—Б—П –Є —Б–∞–Љ —Д–∞–Ї—В –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞ –њ—А–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П.
–Ш–љ—Ж–µ—Б—В –Є –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Є–љ—Ж–µ—Б—В –Љ–µ–ґ–і—Г –±—А–∞—В–Њ–Љ –Є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є –Є–≥—А–∞–ї –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –Ї–∞–Ї –≤ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є, —В–∞–Ї –Є –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —Н—В–Њ—В —Б—О–ґ–µ—В –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ –Є –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Љ–Є—Д–Њ–Љ –Њ–± –Є–љ—Ж–µ—Б—В–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—Д –Њ –ї—О–±–≤–Є —Б–µ—Б—В—А—Л –ѓ–Љ–Є –Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –±—А–∞—В—Г-–±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж—Г –ѓ–Љ–µ, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –µ—Й–µ –≤ –†–Т. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ —Г–ґ–µ —В–∞–Љ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞ –Њ—В–≤–µ—А–≥–∞–µ—В—Б—П –Є –Њ—Б—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П, –Є–Ј —З–µ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є –µ–≥–Њ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В, –≥–і–µ –Є–љ—Ж–µ—Б—В –Љ–µ–ґ–і—Г –±—А–∞—В–Њ–Љ –Є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Є –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–Њ–і, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–µ–є —Н–њ–Њ—Е–µ. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—О —Б–µ—Б—В—А—Л, –і–Њ–±–Є–≤–∞—О—Й–µ–є—Б—П –ї—О–±–≤–Є –±—А–∞—В–∞, «–µ—Й–µ –≤ —Г—В—А–Њ–±–µ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –љ–∞—Б –і–≤–Њ–Є—Е —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞–Љ–Є» (–†–Т X, 10,5). –Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ, –ѓ–Љ–Є –њ–µ—А–≤–∞—П –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –±—А–∞—В—Г –ї—О–±–Њ–≤—М:
–Ъ–Њ –Љ–љ–µ, –ѓ–Љ–Є, –њ—А–Є—И–ї–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –ѓ–Љ–µ,
–І—В–Њ–±—Л –ї–µ—З—М —Б –љ–Є–Љ –љ–∞ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ –ї–Њ–ґ–µ.
–Ъ–∞–Ї –ґ–µ–љ–∞ –Љ—Г–ґ—Г, —Е–Њ—З—Г —П –Њ—В–і–∞—В—М (—Б–≤–Њ–µ) —В–µ–ї–Њ.
–Ф–∞ –±—Г–і–µ–Љ –Љ—Л –і–≤–Њ–µ –Ї–∞—В–∞—В—М—Б—П —В—Г–і–∞-—Б—О–і–∞, –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞
–Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Є—Ж—Л!
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —В–µ–Ї—Б—В–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Є–Љ–љ–∞ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Г–ґ–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ –љ–Њ—А–Љ—Л, –Є –±—А–∞—В —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –µ–Љ—Г —Б–µ—Б—В—А–Њ–є –ї—О–±–≤–Є:
–Э–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б—В–∞–љ—Г —П —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—В—М (—Б–≤–Њ–µ) —В–µ–ї–Њ —Б —В–≤–Њ–Є–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ! –Я–ї–Њ—Е–Є–Љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В (—В–Њ–≥–Њ), –Ї—В–Њ –≤–Њ–є–і–µ—В –Ї —Б–µ—Б—В—А–µ.
–У–Њ—В–Њ–≤—М —Б–µ–±–µ –ї—О–±–Њ–≤–љ—Л–µ —Г—В–µ—Е–Є —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ, —З–µ–Љ —П!
–Ґ–≤–Њ–є –±—А–∞—В, –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П, –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В —Н—В–Њ–≥–Њ.
(–†–Т X, 10,12).
–°—В–Њ–Є—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ –≥–Є–Љ–љ–∞ —Б–µ—Б—В—А–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –ї—О–±–≤–Є –Ї –±—А–∞—В—Г –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–µ —Б–≤–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ, –∞ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М —А–Њ–і:
–Я—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Е–Њ—В–µ–ї –±—Л –Є–Љ–µ—В—М –≤–љ—Г–Ї–∞ (—Б–≤–Њ–µ–≥–Њ) –Њ—В—Ж–∞, –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—П —Б–µ–±–µ (—Б–≤–Њ–µ–≥–Њ) –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В–µ–ї—П –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ.
(–†–Т X, 10,1).
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –љ–∞—А—П–і—Г —Б –Ь–∞–љ—Г –ѓ–Љ–∞ –Є –ѓ–Љ–Є –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї–µ, —В–Њ, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–≤, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –≤ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є –≥–Є–Љ–љ–∞, —Г –љ–Є—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –Є –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ —А–µ—З—М —И–ї–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ—А–Њ–і–Є—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–Њ–і –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є–µ–є –≤–µ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Є—Д—Г —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—А–µ–і–љ–µ–Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ –Њ –±—А–∞–Ї–µ –Щ–Є–Љ—Л —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є –Щ–Є–Љ–∞–Ї, –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–µ–µ –њ—А–µ—Ж–µ–і–µ–љ—В–Њ–Љ –і–ї—П –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –±—А–∞–Ї–Њ–≤ —Г –Ј–Њ—А–Њ–∞—Б—В—А–Є–є—Ж–µ–≤308. –С–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–Љ–Є —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—П–Љ–Є –Є–Љ–µ–љ–Є –Є–љ–і–Њ–Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Ї–∞—Д–Є—А—Б–Ї–Є–є –Ш–Љ—А–∞ –Є —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Б–Ї–Є–є –≤–µ–ї–Є–Ї–∞–љ –Ш–Љ–Є—А (–±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –і–≤–Њ–є–љ–Њ–µ (—В–Њ –µ—Б—В—М –і–≤—Г–њ–Њ–ї–Њ–µ) —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є–ї–Є –±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б–≤–Њ–µ–є –Љ—Г–ґ–µ-–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –≤ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–Ї—Г –њ–Њ—А–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ:
–£ –µ—В—Г–љ–∞ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—З–Ї–∞ –Є —Б—Л–љ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є –њ–Њ–і –Љ—Л—И–Ї–Њ–є,
–љ–Њ–≥–∞ –ґ–µ —Б –љ–Њ–≥–Њ–є —И–µ—Б—В–Є–≥–ї–∞–≤–Њ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ —В—Г—А—Б—Г —А–Њ–і–Є–ї–Є309.
–Ґ–Њ—З–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є–µ–є —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ш–Љ–Є—А—Г –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ—Л–є –Ґ–∞—Ж–Є—В–Њ–Љ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –±–Њ–≥ –Ґ—Г–Є—Б—В–Њ (–±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ «–і–≤–Њ–є–љ–Њ–µ, –і–≤—Г–њ–Њ–ї–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ»), —П–≤–ї—П–≤—И–Є–є—Б—П –Њ—В—Ж–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Ь–∞–љ–љ–∞. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–є –≤–µ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –ѓ–Љ–µ, —В–Њ –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –ї–∞—В—Л—И—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ѓ–Љ–Є—Б–∞ —Б –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–Њ–є –Ѓ–Љ–∞–ї–Њ–є, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–µ–ї—М—В—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—Д –Њ —В—А–µ—Е –±—А–∞—В—М—П—Е-–±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–∞—Е, –љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е –Њ–і–љ–Њ –Є–Љ—П –§–Є–љ–і–µ–∞–Љ–љ–∞ (Findeamna; eamna, –Љ–љ–Њ–ґ. —З–Є—Б–ї–Њ –Њ—В –і—А.-–Є—А–ї. eamn — «–±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж», —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Ї–∞–Ї –і—А.-–Є–љ–і.–£–∞—И–∞, —В–∞–Ї –Є –∞–≤–µ—Б—В. Yima), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —А–Њ–і–љ–∞—П —Б–µ—Б—В—А–∞ —Г–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ —Б–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Б –љ–µ–є, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –±–µ–Ј–і–µ—В–љ–Њ–є. –Я—А–µ–і–∞–љ–Є—П –Њ–± –Є–љ—Ж–µ—Б—В–µ —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г—О—В—Б—П –Є —Г —В–µ—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–Љ–µ–љ–∞ –±—А–∞—В–∞ –Є —Б–µ—Б—В—А—Л, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–∞–Љ–Є. –Т –Њ—Б–µ—В–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П—Е –°–∞—В–∞–љ–∞ —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–Є–ї–∞ –Є –≤—Л—И–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞, –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –љ–∞—А—В–Њ–≤ –£—А—Л–Ј–Љ–∞–≥–∞. –°–ї–µ–і—Г–µ—В —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М –Є –і—А–µ–≤–љ–µ—Е–µ—В—В—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—Д –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е —Ж–∞—А–Є—Ж–µ–є –Ъ–∞–љ–Є—И–∞ (–Э–µ—Б—Л—–і—А–µ–≤–љ–µ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞) —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –≤–Њ–Ј–Љ—Г–ґ–∞–≤, –≤—Б—В—Г–њ–∞—О—В –≤ –±—А–∞–Ї —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М—О —Б–µ—Б—В—А–∞–Љ–Є-–±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–∞–Љ–Є: «–Є –Њ–љ–∞ (—В–Њ –µ—Б—В—М –Є—Е –Љ–∞—В—М) —Б–≤–Њ–Є—Е –і–Њ—З–µ—А–µ–є –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є –≤—Л–і–∞–ї–∞». –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤ –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–µ—А–µ—З—М —Б–≤–Њ–Є—Е –±—А–∞—В—М–µ–≤ –Њ—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞, —З—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –±—А–∞–Ї–Є –Њ—Б—Г–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М —Г —Е–µ—В—В–Њ–≤ —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Є –≤ –Ш–љ–і–Є–Є. –Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–є –Љ–Њ—В–Є–≤ –±—А–∞–Ї–∞, –њ—А–∞–≤–і–∞, –љ–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –љ–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є, –∞ –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –±—А–∞—В–Њ–Љ –Є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –Є –≤ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–є –≥–ї–∞–≤–µ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Ф–µ–≤–Ї–∞–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤—Л–Љ –њ–Њ—В–Њ–њ–Њ–Љ. –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ —Д–∞–Ї—В—Л —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –µ—Й–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –љ–µ—А–∞—Б–њ–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Љ–Є—Д–∞ –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞, —В.–µ. –Є—Е —Б–∞–Љ–Є—Е, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –±—А–∞–Ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –±—А–∞—В–Њ–Љ –Є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є, –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Њ—Б—М —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–∞–Љ–Є. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–∞–Љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±–Њ–≥–Њ–≤ –Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї –≤ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—И–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞—Е, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В –±—А–∞–Ї–∞ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–∞—А—Л –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї–µ, —В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Є–љ—Ж–µ—Б—В –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П «–љ–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ—Л–Љ» –Є, –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Ї—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ, —П–≤–ї—П—П—Б—М –≤ —А—П–і–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–Љ –і–ї—П –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–Є—П310. –°—А–µ–і–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–≤—П—Й–µ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –Р—Е–µ–Љ–µ–љ–Є–і–Њ–≤ –Њ–±—Л—З–∞–є –ґ–µ–љ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж–∞—Е –±—Л–ї —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ: –Ъ–∞–Љ–±–Є–Ј –Я –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Њ–±–µ–Є—Е —Б–≤–Њ–Є—Е —А–Њ–і–љ—Л—Е —Б–µ—Б—В—А–∞—Е, –Р—В–Њ—Б—Б–µ –Є –†–Њ–Ї—Б–∞–љ–µ, –Ф–∞—А–Є–є –Я — –љ–∞ –Я–∞—А–Є—Б–∞—В–Є–і–µ –Є —В.–і. –Ю —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—В–Є–≤–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Є–љ—Ж–µ—Б—В–љ—Л–µ –±—А–∞–Ї–Є —Г –µ–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Д–∞—А–∞–Њ–љ–Њ–≤ –Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Є–љ–Ї–Њ–≤, —В.–µ. –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Ї—А–Њ–≤–Њ—Б–Љ–µ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–Њ—О–Ј —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–Њ—Б–Є–ї —Б–∞–Ї—А–∞–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Є –±—Л–ї –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞—В—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –њ—А–∞–≤—П—Й–µ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—И–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї — –ѓ–Љ–∞, –Щ–Є–Љ–∞, –Я–Є—А—А — –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ; –Ї —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ –Є–ї–Є —Б–µ–Љ—М–µ –≤–Њ–ґ–і—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Љ–Є—Д –Њ–± –Є–љ—Ж–µ—Б—В–µ –≤ —Е–µ—В—В—Б–Ї–Њ–є –Є –Њ—Б–µ—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Љ–Њ—В–Є–≤ –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞ –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є –Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –Љ–Є—Д–∞—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤. –≠—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤, –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ—Л –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–Љ—Б—П –ї–Є—И—М —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—В–Є–≤–∞ –≤ –Љ–Є—Д–µ –Њ–± –Ш—Б–Є–і–µ –Є –Ю—Б–Є—А–Є—Б–µ –≤ –Х–≥–Є–њ—В–µ –Є –±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Є—Д–µ –Њ –Ы–Њ—В–µ.
–Т —З–µ–Љ –ґ–µ –±—Л–ї —Б–Љ—Л—Б–ї –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –±—А–∞–Ї–Њ–≤? –° –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М –љ–∞ —Н—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –Т —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –і–≤–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –±–Њ–≥–Њ–≤ — –∞—Б—Л –Є –≤–∞–љ—Л. –Р—Б—Л –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –Ю–і–Є–љ–Њ–Љ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –≤–∞–љ—Л –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—В –≤—А–∞–≥–∞–Љ–Є –∞—Б–Њ–≤ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –≤ –Љ–Є—А–µ –≤–Њ–є–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Љ–Є—А–Њ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є –±–Њ–≥–Њ–≤ –Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ—Л–Љ –Њ–±–Љ–µ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –°–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤–∞–љ–Њ–≤ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –Э—М–µ—А–і –Є –µ–≥–Њ –і–µ—В–Є –§—А–µ–є—А –Є –§—А–µ–є—П, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –≤ –Ї—А–Њ–≤–Њ—Б–Љ–µ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є. –Т «–°—В–∞—А—И–µ–є –≠–і–і–µ» —Н—В—Г —Б–≤—П–Ј—М –Њ–±–ї–Є—З–∞–µ—В –Ы–Њ–Ї–Є. –Т –њ–µ—Б–љ–µ «–Я–µ—А–µ–±—А–∞–љ–Ї–Є –Ы–Њ–Ї–Є» –Њ–љ —Г–њ—А–µ–Ї–∞–µ—В –Э—М–µ—А–і–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В–Њ—В «–њ—А–Є–ґ–Є–ї —Б—Л–љ–∞ —Б —Б–µ—Б—В—А–Њ—О —А–Њ–і–љ–Њ–є», –∞ –њ—А–Њ –µ–≥–Њ –і–Њ—З—М –§—А–µ–є—О –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В:
«–Ґ—Л, –§—А–µ–є—П, –Љ–Њ–ї—З–Є!
–Ґ—Л, –Ј–ї–Њ–±–љ–∞—П –≤–µ–і—М–Љ–∞,
–Я–Њ–≥—А—П–Ј–ї–∞ –≤ —А–∞–Ј–≤—А–∞—В–µ:
–Э–µ —В–µ–±–µ –ї–Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —
–Я–Њ–є–Љ–∞–љ–љ–Њ–є —Б –±—А–∞—В–Њ–Љ —
–Т–Є–Ј–ґ–∞—В—М —Б –њ–µ—А–µ–њ—Г–≥—Г !»–Ј–Є
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤–∞–љ—Л —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –±–Њ–≥–∞–Љ–Є –њ–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Є—П, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –°–љ–Њ—А—А–Є –°—В—Г—А–ї—Г—Б–Њ–љ–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э—М–µ—А–і–∞ –Є –§—А–µ–є—А–∞, –њ—А–Є–љ—П–≤—И–Є—Е –≤–ї–∞—Б—В—М —Г —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ю–і–Є–љ–∞: «–Э—М–µ—А–і –Є–Ј –Э–Њ–∞—В—Г–љ–∞ —Б—В–∞–ї —В–Њ–≥–і–∞ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ —И–≤–µ–і–Њ–≤ –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї –ґ–µ—А—В–≤–Њ–њ—А–Є–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П. –®–≤–µ–і—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –≤–ї–∞–і—Л–Ї–Њ–є. –Ю–љ –±—А–∞–ї —Б –љ–Є—Е –і–∞–љ—М. –Т –µ–≥–Њ –і–љ–Є —Ж–∞—А–Є–ї –Љ–Є—А, –Є –±—Л–ї —Г—А–Њ–ґ–∞–є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ, –Є —И–≤–µ–і—Л —Б—В–∞–ї–Є –≤–µ—А–Є—В—М, —З—В–Њ –Э—М–µ—А–і –і–∞—А—Г–µ—В –ї—О–і—П–Љ —Г—А–Њ–ґ–∞–є–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л –Є –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ. (...) –§—А–µ–є—А —Б—В–∞–ї –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –Э—М–µ—А–і–∞. –Х–≥–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –≤–ї–∞–і—Л–Ї–Њ–є —И–≤–µ–і–Њ–≤, –Є –Њ–љ –±—А–∞–ї —Б –љ–Є—Е –і–∞–љ—М. –Я—А–Є –љ–µ–Љ –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –ґ–µ —Г—А–Њ–ґ–∞–є–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л, –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–Є –µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–µ, –Є –µ–≥–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ –ї—О–±–Є–ї–Є. (...) –Я—А–Є –§—А–µ–є—А–µ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –Љ–Є—А –§—А–Њ–і–Є. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Є —Г—А–Њ–ґ–∞–є–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е. –®–≤–µ–і—Л –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Є –Є—Е –§—А–µ–є—А—Г. –Х–≥–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є—Е –±–Њ–≥–Њ–≤, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –њ—А–Є –љ–µ–Љ –љ–∞—А–Њ–і —Б—В–∞–ї –±–Њ–≥–∞—З–µ, —З–µ–Љ —А–∞–љ—М—И–µ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Љ–Є—А—Г –Є —Г—А–Њ–ґ–∞–є–љ—Л–Љ –≥–Њ–і–∞–Љ»312. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ї—А–Њ–≤–љ–Њ—А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –±—А–∞–Ї–Є –≤–∞–љ–Њ–≤ —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –Є—Е —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П–Љ–Є –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є –њ–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Є—П, —Г—А–Њ–ґ–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є –Є –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞ (–∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –Є –≤ —Б—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –∞–≥—А–∞—А–љ—Л—Е –Љ–Є—Д–∞—Е), —Н—В–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В –Ї–∞–Ї —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, —В–∞–Ї –Є –Є—Е —И–Є—А–Њ–Ї—Г—О —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ю –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є–і–µ–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –±—А–∞–Ї —Б —А–Њ–і–љ–Њ–є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є —Г—А–Њ–ґ–∞–є –Є –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —Е–Њ—В—П –±—Л —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ —Г–ґ–µ —Г –У–Њ–Љ–µ—А–∞. –†–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–µ —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–µ–љ–Є—П –Ч–µ–≤—Б–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В–≤–ї–µ—З—М –≥—А–Њ–Љ–Њ–≤–µ—А–ґ—Ж–∞ –Њ—В —Е–Њ–і–∞ –Ґ—А–Њ—П–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –ґ–µ–љ–∞ –У–µ—А–∞ —Б–Ї–ї–Њ–љ—П–µ—В –µ–≥–Њ –Ї –Ј–∞–љ—П—В–Є—О –ї—О–±–Њ–≤—М—О –љ–∞ –≥–Њ—А–µ –Ш–і–µ. –Я–Њ—Н–Љ–∞ —В–∞–Ї –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—А–∞–Ї–∞ –љ–∞ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й—Г—О –Є—Е –Ј–µ–Љ–љ—Г—О –њ—А–Є—А–Њ–і—Г:
–†–µ–Ї — –Є–≤ –Њ–±—К—П—В–Є—П —Б–Є–ї—М–љ—Л–µ –Ч–µ–≤—Б –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В —Б—Г–њ—А—Г–≥—Г.
–С—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ–і –љ–Є–Љ–Є –Ј–µ–Љ–ї—П –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–Є–ї–∞ —Ж–≤–µ—В—Г—Й–Є–µ —В—А–∞–≤—Л,
–Ы–Њ—В–Њ—Б —А–Њ—Б–Є—Б—В—Л–є, —И–∞—Д—А–∞–љ –Є —Ж–≤–µ—В—Л –≥–Є–∞—Ж–Є–љ—В—Л –≥—Г—Б—В—Л–µ,
–У–Є–±–Ї–Є–µ, –Ї–Њ–Є –±–Њ–≥–Њ–≤ –Њ—В –Ј–µ–Љ–ї–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –њ–Њ–і—Л–Љ–∞–ї–Є313.
–С—А–∞—З–љ—Л–є —Б–Њ—О–Ј –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —Б—В–Є–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Є–µ –Ч–µ–Љ–ї–Є, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Н—В–Њ –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –±—А–∞–Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –±–Њ–≥–Њ–≤ — –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –њ–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Є—П –≤ —А—П–і–µ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ —Б–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –Њ–±—А—П–і—Л, –Є–Љ–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –±—А–∞–Ї –љ–µ–±–Њ–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Т —Б–≤–µ—В–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є —В–µ–Љ—Л –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Є –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ –Є–Ј –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–∞ –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Њ—В –У–µ—А—Л, –±—Л–≤—И–µ–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ–љ–Њ–є, –љ–Њ –Є —А–Њ–і–љ–Њ–є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є –Ч–µ–≤—Б–∞.
–Т —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —В–Њ, —З—В–Њ –≤ –Ї—Г–њ–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—Б–љ—П—Е —Б –Ш–≤–∞–љ–Њ–Љ –Є –Ь–∞—А—М–µ–є —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–љ–Є–µ –Є —Г–±–Њ—А–Ї–∞ —Г—А–Њ–ґ–∞—П —Е–ї–µ–±–∞:
–Ю–є! 4ie –ґ–Є—В–Њ –њ–Є–і—М –≥–Њ—А—Г —Б—В–Њ—П–ї–Њ?
–Ш–≤–∞–љ–Ї–Њ–≤–µ –ґ–Є—В–Њ –њ–Є–і—М –≥–Њ—А—Г —Б—В–Њ—П–ї–Њ,
–Я–Є–і—М –≥–Њ—А—Г –Ј–µ–ї–µ–љ—М–Ї–Њ, –њ–Њ –Љ–Є—Б—П—Ж—Г –≤–Є–і–µ–љ—М–Ї–Њ.
–Ь–Њ–ї–Њ–і–∞ –Ь–∞—А–Є—З–Ї–∞ —Е–Њ–і–Є—В—М –ґ–Є—В–Њ –ґ–∞—В–Є:
— –Ь–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Ш–≤–∞–љ–Ї–Њ! –Э–µ –≤–Љ–і–∞ —П –ґ–∞—В–Є.
— –ѓ–Ї —П —В–µ–±–µ –≤–Є–Ј—М–Љ—Г, –ґ–Є—В–Њ –ґ–∞—В–Є –љ–∞—Г—З—Г!314
–Х—Б–ї–Є –≤—Л—И–µ –Љ—Л –≤–Є–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ —Б–∞–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —Б–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–љ–Є—П —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П —Б–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –±—А–∞–Ї–Њ–Љ –±–Њ–≥–Њ–≤ –Є–ї–Є –ї—О–і–µ–є, —В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Є –ґ–∞—В–≤–∞ –њ–µ—А–µ–Ї–ї–Є–Ї–∞–µ—В—Б—П —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Ш–≤–∞–љ –≤–Њ–Ј—М–Љ–µ—В –Ј–∞ —Б–µ–±—П –Ь–∞—А—М—О. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—В–Є–≤–∞, –≤–љ–Њ–≤—М –Њ—В—Б—Л–ї–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞—Б –Ї —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ—Г –љ–∞–Љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Є—Д—Г –Њ–± –Є–љ—Ж–µ—Б—В–µ –±—А–∞—В–∞ –Є —Б–µ—Б—В—А—Л, –≤ –Ї—Г–њ–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П —В–µ–Ї—Б—В—Л, —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ —Б —Н—В–Є–Љ–Є –і–≤—Г–Љ—П –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞–Љ–Є –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Г—А–Њ–ґ–∞–є —Е–ї–µ–±–∞, –∞ –µ–≥–Њ —Б–≤–µ—А—Е–Њ–±–Є–ї–Є–µ:
–Ь–∞—А—М—П –Ш–≤–∞–љ–∞
–Т –ґ–Є—В–Њ –Ј–≤–∞–ї–∞:
— –Я–Њ–є–і–µ–Љ, –Ш–≤–∞–љ,
–Ц–Є—В–Њ –≥–ї—П–і–µ—В—М!
–І—М–µ –ґ–Є—В–Њ –Ы—Г—З—И–µ–µ –Є–Ј –≤—Б–µ—Е?
–Э–∞—И–µ –ґ–Є—В–Њ –Ы—Г—З—И–µ–µ –Є–Ј –≤—Б–µ—Е!
–Ъ–Њ–ї–Њ—Б–Є—Б—В–Њ,
–ѓ–і—А–µ–љ–Є—Б—В–Њ.
–ѓ–і—А–Њ –≤ –≤–µ–і—А–Њ,
–Ъ–Њ–ї–Њ—Б –≤ –±—А–µ–≤–љ–Њ!315
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —В–Њ—В –ґ–µ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ —Б –Ш–≤–∞–љ–Њ–Љ –Є –Ь–∞—А—М–µ–є –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є —Г—А–Њ–ґ–∞–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е–ї–µ–±–∞, –љ–Њ –Є –ї—О–±—Л—Е —В—А–∞–≤ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ:
–Ш–≤–∞–љ –і–∞ –Ь–∞—А—М—П –Э–∞ –≥–Њ—А–µ –Ї—Г–њ–∞–ї—Л—Б—П;
–У–і–Ј–µ –Ш–≤–∞–љ –Ї—Г–њ–∞–≤—Б—П —
–С–µ—А–µ–≥ –Ї–Њ–ї—Л—Е–∞–≤—Б—П,
–У–і–Ј–µ –Ь–∞—А—М—П –Ї—Г–њ–∞–ї–∞—Б—М —
–Ґ—А–∞–≤–∞ —А–∞—Б—Ж–Є–ї–∞–ї–∞—Б—М316.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –±—А–∞—В –Є —Б–µ—Б—В—А–∞ –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ –Є—В–Њ–≥–µ —Б–∞–Љ–Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –љ–µ –≤ –ґ–Є—В–Њ, –∞ –≤ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–µ–≤—Л–µ —Ж–≤–µ—В—Л, —Н—В—Г —Б–≤—П–Ј—М –Ш–≤–∞–љ–∞ –Є –Ь–∞—А—М–Є —Б –і–Є–Ї–Њ—А–∞—Б—В—Г—Й–µ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–є. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–∞–Ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤ —З–µ—Б—В—М –±—А–∞—В–∞ –Є —Б–µ—Б—В—А—Л —Ж–≤–µ—В–Њ–Ї, —В–∞–Ї –Є —В–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ –†—Г—Б–Є –Љ–∞—А—М—О –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л –ї–µ–±–µ–і—Л.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Д–∞ –Њ –ѓ–Љ–µ –Є –ѓ–Љ–Є –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–± –Ш–≤–∞–љ–µ –Є –Ь–∞—А—М–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є —В–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–∞ –Ї—А–Њ–≤–Њ—Б–Љ–µ—И–µ–љ–Є—П –≤ –Њ–±–Њ–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В —Б–µ—Б—В—А–µ. –Э–∞ —Н—В–Њ –њ—А–Є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–∞ —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Т.–Т. –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –Є –Т.–Э. –Ґ–Њ–њ–Њ—А–Њ–≤: «–Ф–ї—П —Н—В–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Є –і–ї—П –Ї—Г–њ–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—Б–µ–љ –Њ–± –Є–љ—Ж–µ—Б—В–µ, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–∞ –≤ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В —Б–µ—Б—В—А–µ, —П–≤–ї—П—О—Й–µ–є—Б—П –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –Ј–ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞. –°—А. –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –Ь–∞—А—М–Є –≤ –Ї—Г–њ–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Б–љ–µ —Б —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г—В—Л–Љ —Б—О–ґ–µ—В–Њ–Љ:
–Ш–≤–∞–љ —Б–Є–і–Є—В,
–Ч–∞ –љ–Є–Љ –Ь–∞—А—М—П,
–Ч–∞ –љ–Є–Љ –Ь–∞—А—М—П –Т–і–Њ–≥–Њ–љ –±–µ–ґ–Є—В,
–Т–і–Њ–≥–Њ–љ –±–µ–ґ–Є—В.
“–Я–Њ—Б—В–Њ–є, –Ш–≤–∞–љ!
–Я–Њ—Б—В–Њ–є, –Ш–≤–∞–љ!
–°–Ї–∞–ґ—Г –љ–µ—З—В–Њ,
–°–Ї–∞–ґ—Г –љ–µ—З—В–Њ!
–Ґ–µ–±—П –ї—О–±–ї—О,
–Ґ–µ–±—П –ї—О–±–ї—О,
–° —В–Њ–±–Њ–є –њ–Њ–є–і—Г,
–° —В–Њ–±–Њ–є –њ–Њ–є–і—Г!”317
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–µ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –ѓ–Љ–∞ –±—Л–ї –њ–µ—А–≤—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г–Љ–µ—А, –Њ–љ —Б—В–∞–ї —Ж–∞—А–µ–Љ –Ј–∞–≥—А–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞, –Є —Н—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П —Г–ґ–µ –≤ –†–Т. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–Љ—Г –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Є—Д—Г, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ –Ь–∞–є—В—А–µ–µ-—Б–∞–Љ—Е–Є—В–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ѓ–Љ–∞ —Г–Љ–µ—А, –µ–≥–Њ —Б–µ—Б—В—А–∞ –ѓ–Љ–Є –≥–Њ—А—М–Ї–Њ –Њ–њ–ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Г, –∞ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–Њ—З–Є –µ—Й–µ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ, –Њ–љ–∞ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї–∞: ‘–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ–љ —Г–Љ–µ—А”. –І—В–Њ–±—Л –і–∞—А–Њ–≤–∞—В—М –µ–є –Ј–∞–±–≤–µ–љ–Є–µ, –±–Њ–≥–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –љ–Њ—З—М»318. –° —Н—В–Є–Љ –Љ–Є—Д–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –і—А—Г–≥–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Г —А—П–і–∞ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ —Ж–≤–µ—В–Ї–∞ –Є–≤–∞–љ-–і–∞-–Љ–∞—А—М—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–Њ–≥ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –±—А–∞—В –Є —Б–µ—Б—В—А–∞, –±—А–∞—В —Б —Б–µ—Б—В—А–Њ–є, –Є, —З—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –±–µ–ї. –і–µ–љ—М –Є –љ–Њ—З—М, —З–µ—И. deH a noc lesnie, –њ–Њ–ї. dzieD i –њ–Њ—Б, –ї—Г–ґ. noc –∞ zeD, —Б—А.-–љ–µ–Љ. tag-und-nacht –Ї–∞–Ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П. –Ф–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Б–∞–Љ –Љ–Є—Д –Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–Є –і–љ—П –Є –љ–Њ—З–Є, —В–Њ –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —В–µ–Љ–љ–Њ–є –Є —Б–≤–µ—В–ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ —Б—Г—В–Њ–Ї –Є —Г —Б–ї–∞–≤—П–љ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ –Ј—А–Є–Љ—Л–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –ї—О–±–≤–Є –±—А–∞—В–∞ –Є —Б–µ—Б—В—А—Л. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Є —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–∞ –Њ –і–љ–µ –Є –љ–Њ—З–Є, –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї—П–µ–Љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ї—А–Њ–≤–љ—Л—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Њ–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є —Б –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В–Њ–є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–Њ–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞: «–°–µ—Б—В—А–∞ –Ї –±—А–∞—В—Г –≤ –≥–Њ—Б—В–Є –Є–і–µ—В, –∞ –Њ–љ –Њ—В —Б–µ—Б—В—А—Л –њ—А—П—З–µ—В—Б—П»319.
–Ю –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л—Е –±—А–∞—З–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –±—А–∞—В–Њ–Љ –Є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Є —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞ «–Ъ–љ—П–Ј—М –Ф–∞–љ–Є–ї–∞-–У–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞», –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В —А—П–і –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л—Е –Љ–Є—Д—Г –Њ–± –Ш–≤–∞–љ–µ –Є –Ь–∞—А—М–µ –Љ–Њ—В–Є–≤–Њ–≤. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ, —Г —Б—В–∞—А—Г—И–Ї–Є-–Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є –±—Л–ї–Є —Б—Л–љ –Є –і–Њ—З—М. –Т–µ–і—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ј–∞–≤–Є–і–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є–Љ –Є –њ—А–Є—И–ї–∞ –Ї –Є—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є: «–Ъ—Г–Љ—Г—И–Ї–∞- –≥–Њ–ї—Г–±—Г—И–Ї–∞! –Т–Њ—В —В–µ–±–µ –њ–µ—А—Б—В–µ–љ–µ–Ї, –љ–∞–і–µ–љ—М –µ–≥–Њ –љ–∞ –њ–∞–ї—М—З–Є–Ї —В–≤–Њ–µ–Љ—Г —Б—Л–љ–Ї—Г, —Б –љ–Є–Љ –Њ–љ –±—Г–і–µ—В –Є –±–Њ–≥–∞—В –Є —В–Њ—А–Њ–≤–∞—В, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л –љ–µ —Б–љ–Є–Љ–∞–ї –Є –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ —В–Њ–є –і–µ–≤–Є—Ж–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–µ—З–Ї–Њ –±—Г–і–µ—В –њ–Њ —А—Г—З–Ї–µ!» –°—В–∞—А—Г—И–Ї–∞ –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї–∞, –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є, —Г–Љ–Є—А–∞—П, –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —Б—Л–љ—Г –≤–Ј—П—В—М –Ј–∞ —Б–µ–±—П –ґ–µ–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–µ—А—Б—В–µ–љ—М –≥–Њ–і–Є—В—Б—П. –°—Л–љ –≤—Л—А–Њ—Б, —Г–њ–Њ—А–љ–Њ –Є—Б–Ї–∞–ї –њ–Њ –Ї–Њ–ї—М—Ж—Г —Б–≤–Њ—О —Б—Г–ґ–µ–љ—Г—О –Є, —В–∞–Ї –Є –љ–µ –љ–∞–є–і—П, –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є. –Т–Є–і—П, —З—В–Њ –±—А–∞—В –Ї—А—Г—З–Є–љ–Є—В—Б—П, —Б–µ—Б—В—А–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –Є –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —Г–і–Є–≤–Є–ї–∞—Б—М, —Г—Б–ї—Л—И–∞–≤ –µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј. –Ч–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Б—М –Ј–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ, —Б–µ—Б—В—А–∞ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–∞ –њ–Њ–Љ–µ—А—П—В—М –њ–µ—А—Б—В–µ–љ–µ–Ї. «–Т–Ј–і–µ–ї–∞ –љ–∞ –њ–∞–ї—М—З–Є–Ї — –Ї–Њ–ї–µ—З–Ї–Њ –Њ–±–≤–Є–ї–Њ—Б—М, –Ј–∞—Б–Є—П–ї–Њ, –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–Њ —А—Г–Ї–µ, –Ї–∞–Ї –і–ї—П –љ–µ–є –љ–∞—А–Њ—З–љ–Њ –≤—Л–ї–Є—В–Њ. “–Р—Е, —Б–µ—Б—В—А–∞, —В—Л –Љ–Њ—П —Б—Г–ґ–µ–љ–∞—П, —В—Л –Љ–љ–µ –±—Г–і–µ—И—М –ґ–µ–љ–∞!” — “–І—В–Њ —В—Л, –±—А–∞—В! –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є –±–Њ–≥–∞, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є –≥—А–µ—Е, –ґ–µ–љ—П—В—Б—П –ї–Є –љ–∞ —Б–µ—Б—В—А–∞—Е?” –Э–Њ –±—А–∞—В –љ–µ —Б–ї—Г—И–∞–ї, –њ–ї—П—Б–∞–ї –Њ—В —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –Є –≤–µ–ї–µ–ї —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –Ї –≤–µ–љ—Ж—Г». –°–µ—Б—В—А–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –≥–Њ—А—М–Ї–Њ –њ–ї–∞–Ї–∞—В—М, –Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –Љ–Є–Љ–Њ —Б—В–∞—А—Г—И–Ї–Є –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї–Є –µ–є —Б–і–µ–ї–∞—В—М —З–µ—В—Л—А–µ –Ї—Г–Ї–Њ–ї–Ї–Є, —А–∞—Б—Б–∞–і–Є—В—М –Є—Е –њ–Њ —Г–≥–ї–∞–Љ, –њ–Њ–і –≤–µ–љ–µ—Ж —Б –±—А–∞—В–Њ–Љ –Є–і—В–Є, –∞ –≤ —Б–≤–µ—В–ї–Є—Ж—Г –љ–µ —В–Њ—А–Њ–њ–Є—В—М—Б—П. «–С—А–∞—В —Б —Б–µ—Б—В—А–Њ–є –Њ–±–≤–µ–љ—З–∞–ї—Б—П, –њ–Њ—И–µ–ї –≤ —Б–≤–µ—В–ї–Є—Ж—Г –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: “–°–µ—Б—В—А–∞ –Ъ–∞—В–µ—А–Є–љ–∞, –Є–і–Є –љ–∞ –њ–µ—А–Є–љ—Л!” –Ю–љ–∞ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В: “–°–µ–є—З–∞—Б, –±—А–∞—В–µ—Ж, —Б–µ—А–µ–ґ–Ї–Є —Б–љ–Є–Љ—Г”. –Р –Ї—Г–Ї–Њ–ї–Ї–Є –≤ —З–µ—В—Л—А–µ—Е —Г–≥–ї–∞—Е –Ј–∞–Ї—Г–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є:
–Ъ—Г-–Ї—Г, –Ї–љ—П–Ј—М –Ф–∞–љ–Є–ї–∞!
–Ъ—Г-–Ї—Г, –У–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞!
–Ъ—Г-–Ї—Г, —Б–µ—Б—В—А—Г —Б–≤–Њ—О,
–Ъ—Г-–Ї—Г, –Ј–∞ —Б–µ–±—П –±–µ—А–µ—В.
–Ъ—Г-–Ї—Г, —А–∞—Б—Б—В—Г–њ–Є—Б—М, –Ј–µ–Љ–ї—П,
–Ъ—Г-–Ї—Г, –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, —Б–µ—Б—В—А–∞!
–Ч–µ–Љ–ї—П —Б—В–∞–ї–∞ —А–∞—Б—Б—В—Г–њ–∞—В—М—Б—П, —Б–µ—Б—В—А–∞ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П»320.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ї—Г–Ї–Њ–ї–Ї–Є –њ—А–Њ–њ–µ–ї–Є —В–∞–Ї —В—А–Є —А–∞–Ј–∞, —Б–µ—Б—В—А–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї–∞—Б—М –Є –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –њ–Њ–і –Ј–µ–Љ–ї–µ–є –≤ –Є–Ј–±—Г –Ї –≤–µ–і—М–Љ–µ –С–∞–±–µ-—П–≥–µ. –Ф–Њ—З—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –љ–µ–Ј–≤–∞–љ—Г—О –≥–Њ—Б—В—М—О, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–∞—П—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є –≤–µ–і—М–Љ–∞ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–∞ –µ–µ —Б—К–µ—Б—В—М. –Ф–∞–ї–µ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–є –≤ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞—Е —Б—О–ґ–µ—В –њ—А–Њ —В–Њ, –Ї–∞–Ї –ґ–µ—А—В–≤–∞ –С–∞–±—Л-—П–≥–Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї —Б–∞–і–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –ї–Њ–њ–∞—В—Г –≤ –њ–µ—З—М, –≤–µ–і—М–Љ–∞ —Б–∞–і–Є—В—Б—П –љ–∞ –ї–Њ–њ–∞—В—Г —Б–∞–Љ–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –і–µ–≤–Є—Ж—Л –µ–µ –Ј–∞—Б—Г–љ—Г–ї–Є –≤ –њ–µ—З—М. –С–∞–±–∞-—П–≥–∞ –≤—Л–±—А–∞–ї–∞—Б—М –Є–Ј –њ–µ—З–Є, –њ–Њ–≥–љ–∞–ї–∞—Б—М –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є, –љ–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ —Б–≥–Њ—А–µ–ї–∞ –≤ –Њ–≥–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ.
–Ю–±–µ –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є –≤—Л—И–ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –Ј–µ–Љ–ї–Є –Є –њ—А–Є—Б–µ–ї–Є –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г—В—М. «–Т–Њ—В –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –љ–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В: –Ї—В–Њ –Њ–љ–Є? –Ш –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –±–∞—А–Є–љ—Г, —З—В–Њ –≤ –µ–≥–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ—М—П—Е —Б–Є–і—П—В –љ–µ –і–≤–µ –њ—В–∞—И–Ї–Є –Ј–∞–ї–µ—В–љ—Л–µ, –∞ –і–≤–µ –і–µ–≤–Є—Ж—Л –љ–∞–Љ–∞–ї–µ–≤–∞–љ–љ—Л–µ — –Њ–і–љ–∞ –≤ –Њ–і–љ—Г —А–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –і–Њ—А–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ, –±—А–Њ–≤—М –≤ –±—А–Њ–≤—М, –≥–ї–∞–Ј –≤ –≥–ї–∞–Ј; –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –≤–∞—И–∞ —Б–µ—Б—В—А–Є—Ж–∞, –∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П——Г–≥–∞–і–∞—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П». –С—А–∞—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е –µ–≥–Њ —Б–µ—Б—В—А–∞, –љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ, –∞ —Б–µ—Б—В—А–∞ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В. –І—В–Њ–±—Л —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М —Н—В—Г –Ј–∞–≥–∞–і–Ї—Г, —Б–ї—Г–≥–∞ –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї –Ї–љ—П–Ј—О –љ–∞–ї–Є—В—М –±–∞—А–∞–љ–Є–є –њ—Г–Ј—Л—А—М –Ї—А–Њ–≤–Є –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –µ–≥–Њ –њ–Њ–і –Љ—Л—И–Ї—Г. –°–і–µ–ї–∞–≤ —В–∞–Ї, –±—А–∞—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞–Љ–Є, –∞ —Б–ї—Г–≥–∞ —Г–і–∞—А–Є–ї –µ–≥–Њ –≤ –њ—Г–Ј—Л—А—М –љ–Њ–ґ–Њ–Љ. –Т–Є–і—П –ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –≤ –Ї—А–Њ–≤–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞, —Б–µ—Б—В—А–∞ –Ї–Є–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ї –љ–µ–Љ—Г –Є —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–Є—З–Є—В–∞—В—М. «–Р –±—А–∞—В –≤—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –љ–Є –≥–Њ—А–µ–ї—Л–є, –љ–Є –±–Њ–ї–µ–ї—Л–є, –Њ–±–љ—П–ї —Б–µ—Б—В—А—Г –Є –Њ—В–і–∞–ї –µ–µ –Ј–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –∞ —Б–∞–Љ –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –µ–µ –њ–Њ–і—А—Г–≥–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є –њ–µ—А—Б—В–µ–љ–µ–Ї –њ—А–Є—И–µ–ї—Б—П –њ–Њ —А—Г—З–Ї–µ, –Є –Ј–∞–ґ–Є–ї–Є –≤—Б–µ –њ—А–Є–њ–µ–≤–∞—О—З–Є»321. –Ґ–µ–Ї—Б—В –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї —В—Г –ґ–µ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Г—О —Ж–µ–љ–Ј—Г—А—Г, —З—В–Њ –Є –Ї—Г–њ–∞–ї—М—Б–Ї–Є–µ –њ–µ—Б–љ–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ —А—П–і–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є —Б—О–ґ–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ —П–≤–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Є–Ј-–њ–Њ–і –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –љ–∞–њ–ї–∞—Б—В–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Т –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —В–Њ, —З—В–Њ –Ї—А–Њ–≤–љ–Њ—А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –±—А–∞–Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ, –њ—А–Є—З–µ–Љ –њ–Њ –њ—А–µ–і—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є. –°–∞–Љ –Є–љ—Ж–µ—Б—В –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–Є—Б–Ї–∞–Љ–Є –≤–µ–і—М–Љ—Л, –њ–Њ–і–∞—А–Є–≤—И–µ–є –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б—Л–љ—Г –њ–µ—А—Б—В–µ–љ—М –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Б—Г–ґ–µ–љ–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ —Б–µ—Б—В—А–∞. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤–µ–і—М–Љ–∞ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ, –љ–Њ—Б—П —Н—В–Њ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –Є –ґ–µ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ —В–Њ–є, –Ї–Њ–Љ—Г –Њ–љ–Њ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –≤–њ–Њ—А—Г, –Ї–љ—П–Ј—М «–±—Г–і–µ—В –Є –±–Њ–≥–∞—В –Є —В–Њ—А–Њ–≤–∞—В», –≤ —З–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є, –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ —Ж–µ–ї—М –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞. –Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞ –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ –≤–µ–і—М–Љ–∞ –Њ–±–Љ–∞–љ—Г–ї–∞ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї—Г—О —Б–µ–Љ—М—О –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є. –Ю —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–Љ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б—О–ґ–µ—В–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л –≤–µ–і—М–Љ—Л, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –њ—А–Є—З–Є–љ—Г —В–Њ–≥–Њ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Љ–∞—В—М-–Ї–љ—П–≥–Є–љ—П –Њ—В–і–∞–ї–∞ –і–µ—В—П–Љ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –љ–∞—З–∞–ї–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є, –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–є –≤ –І–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є «–¶–∞—А–µ–≤–љ–∞ –≤ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ»: «–Ц–Є–≤ —Б–∞–±–µ —Ж–∞—А—М –і–∞ —Ж–∞—А–Є—Ж–∞, –Є —Г –Є—Е –±—Л–≤ —Б—Л–љ –Є –і–Њ—З–Ї–∞. –ѓ–љ—Л –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —Б—Л–љ—Г, —И—В–Њ–± –є–Њ–љ, —П–Ї —П–љ—Л —Г–Љ—А—Г—В—М, –ґ–∞–љ–Є–≤—Б—П –љ–∞ —Б—П—Б—В—А–µ». –Ъ–Њ–≥–і–∞ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є —Г–Љ–µ—А–ї–Є, –±—А–∞—В –њ–Њ—Б–њ–µ—И–Є–ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –Є—Е –≤–Њ–ї—О: «–Т–Њ –±—А–∞—В –Є –Ї–∞–ґ–µ —Б—П—Б—В—А–µ, —И—В–Њ–± –≥–∞—В–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ї –≤—П–љ—Ж—Г, –∞ —Б–∞–Љ –њ–∞—И–Њ–≤ –і–∞ –њ–∞–њ–∞ –њ—А–∞—Б–Є—В—М, —И—В–Њ–± –Є—Е –њ–∞–≤—П–љ—З–∞–≤»322. –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П, –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ –≤–Њ–ї–µ–є –Њ–±–Њ–Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –±–µ–Ј–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л. –•–Њ—В—М –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ —Б–µ—Б—В—А–∞ –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–Є –Њ—В –±—А–∞—В–∞ –Є –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–µ—В –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ—Л—Е –Ї—Г–Ї–Њ–ї –Є–Ј–±–µ–≥–∞–µ—В –Ї—А–Њ–≤–Њ—Б–Љ–µ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞, –Ї–љ—П–Ј—М –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ –Є—В–Њ–≥–µ –ґ–µ–љ–Є—В—Б—П –љ–∞ –µ–µ –њ–Њ–і—А—Г–≥–µ, –і–Њ—З–µ—А–Є –С–∞–±—Л-—П–≥–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —В–∞–Ї–ґ–µ –і–∞–љ–љ—Л–є –њ–µ—А—Б—В–µ–љ—М –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤–њ–Њ—А—Г. –Ґ–Њ, —З—В–Њ –і–Њ—З—М —П–≥–Є –Є–Ј –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б –µ–≥–Њ —Б–µ—Б—В—А–Њ–є «–Њ–і–љ–∞ –≤ –Њ–і–љ—Г —А–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –і–Њ—А–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ, –±—А–Њ–≤—М –≤ –±—А–Њ–≤—М, –≥–ї–∞–Ј –≤ –≥–ї–∞–Ј» –і–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, —З—В–Њ –Є—Е –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—В—М, —В.–µ. —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –і–≤–Њ–є–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є –Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–є —Ж–µ–љ–Ј—Г—А–µ, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–є –љ–∞–Љ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –±—А–∞–Ї –Ї–љ—П–Ј—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П —Б —А–Њ–і–љ–Њ–є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞—В–µ–Љ, –њ–Њ–і –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –љ–Њ–≤–Њ–є –Љ–Њ—А–∞–ї–Є, –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ–∞ –љ–∞ –µ–µ –±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Љ–Њ—В–Є–≤–Њ—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –Ї–љ—П–ґ–љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —А–Њ–і–љ–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є –Є –њ–Њ—Е–Њ–ґ–∞ –љ–∞ –љ–µ–µ –Ї–∞–Ї –і–≤–µ –Ї–∞–њ–ї–Є –≤–Њ–і—Л, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –њ–∞–ї—М—Ж–∞. –Т–µ—А–љ—Г–≤—И–Є–µ—Б—П –Є–Ј –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –і–µ–≤–Є—Ж—Л –Љ–Њ–ї—З–∞—В, —З—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В —Б–≤–Њ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є –≤ —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–Є —В–µ—Е —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Л—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О –Є–Ј –Ј–∞–≥—А–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. –Х—Й–µ –Њ–і–љ–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ — —Н—В–Њ –Є —Б–Љ–µ—А—В—М —Б–µ—Б—В—А—Л, –Ј–∞–ґ–Є–≤–Њ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–≤—И–µ–є—Б—П –њ–Њ–і –Ј–µ–Љ–ї—О, –Є –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є—П —Б–Љ–µ—А—В–Є –±—А–∞—В–∞, –Њ–±—К—П—Б–љ—П—О—Й–∞—П—Б—П –≤ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ—Б—В—А—Г –≤—Л–і–∞—В—М —Б–µ–±—П, —З—В–Њ–±—Л –ґ–µ–љ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –µ–µ –њ–Њ–і—А—Г–≥–µ. –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –Њ–±–∞ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞ —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —Б –Ј–∞–≥—А–Њ–±–љ—Л–Љ –Љ–Є—А–Њ–Љ, –Њ–њ—П—В—М- —В–∞–Ї–Є –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–Љ –љ–∞–Љ –≤–µ–і–Є–є—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—Д –Њ –ѓ–Љ–µ –Ї–∞–Ї –Њ –≤–ї–∞—Б—В–µ–ї–Є–љ–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –±—А–∞–Ї —Б —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ-–У–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М –њ–Њ –≤–Њ–ї–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є, –∞ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –≤ —Б—О–ґ–µ—В–µ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є –≤–µ–і—М–Љ—Л –Є –С–∞–±—Л-—П–≥–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–±–µ–ґ–і–∞–µ—В –љ–∞—Б, —З—В–Њ —Б–∞–Љ –Љ–Є—Д –Њ–± –Є–љ—Ж–µ—Б—В–µ, —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –Њ–њ—П—В—К-—В–∞–Ї–Є –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є, «–¶–∞—А–µ–≤–љ–∞ –≤ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ», —Б—О–ґ–µ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –≥–µ—А–Њ–Є–љ—П –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–і –Ј–µ–Љ–ї—О, —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ —А—Г—Б–ї–µ, —В–Њ –Є —В–∞–Љ –Њ–љ–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Ј–∞–Љ—Г–ґ –Ј–∞ —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–∞ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞, —В.–µ. –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б –њ–Њ—В—Г—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Љ –Љ–Є—А–Њ–Љ.
–Я—А–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є –Є –±–∞–ї–ї–∞–і–љ—Л–µ –њ–µ—Б–љ–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Љ–Њ—В–Є–≤ –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞, –Я.–Т. –Ы–Є–љ—В—Г—А –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –≤—Л–≤–Њ–і—Г: «–Ш–Ј —З–µ—В—Л—А–µ—Е —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞–Љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–Ї–∞–Ј–Њ–Ї –Њ–± –Є–љ—Ж–µ—Б—В–µ –≤ —В—А–µ—Е —Б–µ—Б—В—А–∞ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Ј–∞ –±—А–∞—В–∞, –Ї–∞–Ї –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–ї–Є —Г–Љ–Є—А–∞—О—Й–Є–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Њ–љ–∞ –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М –≥—А–µ—Е–∞. (...) –Э–µ—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л —В–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—А–∞—В –Є —Б–µ—Б—В—А–∞, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П –≤–Њ–ї—О —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –±–µ—Б–њ—А–µ–Ї–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤—Б—В—Г–њ–∞—О—В –≤ –±—А–∞—З–љ—Л–є —Б–Њ—О–Ј, –∞ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ —В–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –∞–Ї—В –Ї—А–Њ–≤–Њ—Б–Љ–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ–±—К—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–Љ –≥—А–µ—Е–Њ–Љ»323. –Ф–∞–љ–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Є –Ї —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–Љ –≤—Л—И–µ –Ї—Г–њ–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –њ–µ—Б–љ—П–Љ –Њ–± –Ш–≤–∞–љ–µ –Є –Ь–∞—А—М–µ. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—О–ґ–µ—В–∞ –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї—Г–њ–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–µ—Б–љ—П–Љ–Є, —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞–Љ–Є –Є –±–∞–ї–ї–∞–і–∞–Љ–Є. –Ь–Њ—В–Є–≤ –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞, —Б–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Є–ї–Є –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Ї–∞–Ї –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –±—Л–ї–Є–љ–µ «–Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ –Ъ–∞–Ј–∞—А–Є–љ», —В–∞–Ї –Є –≤ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Н–њ–Њ—Б–µ —О–ґ–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –µ—Б—В—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –њ–µ—Б–љ–Є –љ–∞ —В–µ–Љ—Г «–Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–Є—З –Ь–∞—А–Ї–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В —Б–≤–Њ—О —Б–µ—Б—В—А—Г»324. –Ш–Ј —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ –љ–∞–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤—Л–≤–Њ–і, —З—В–Њ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —Б—О–ґ–µ—В–Њ–≤ –±—Л–ї –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ—Ж–µ–і–µ–љ—В, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –±—А–∞–Ї –±—А–∞—В–∞ –Є —Б–µ—Б—В—А—Л, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–Є–є –љ–∞—З–∞–ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–Њ–і—Г –Є –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є—О –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ. –Т –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ—О—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –±—А–∞–Ї –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ—Л–є –Є–љ—Ж–µ—Б—В, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —В–∞–±—Г, –Є –ї—О–і–Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В –≤—Б–µ –Ј–∞–≤–Є—Б—П—Й–Є–µ –Њ—В –љ–Є—Е –Љ–µ—А—Л, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В—М –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Ї–∞—А–і–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–Є, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤—Б–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –µ–≥–Њ –Є—Б–Ї–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ —Г–Ї–Њ—А–µ–љ–Є–ї–∞—Б—М –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –Є, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ, –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞—–≤ –Љ–Є—Д–µ, —Н–њ–Њ—Б–µ, —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ, –±–∞–ї–ї–∞–і–µ.
–Я–Њ—Е–Њ–ґ–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –Є –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞: «–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –≤ –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –Њ–± –Є–љ—Ж–µ—Б—В–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–∞–Љ–Є (–±—А–∞—В–Њ–Љ –Є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є) –њ–µ—А–µ–і–∞—О—В —Б—О–ґ–µ—В –Њ “–љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є —Б–≤–∞–і—М–±–µ”. –Ш–љ—Ж–µ—Б—В –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–µ—А–≤–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —Н—В–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–љ—Ж–µ—Б—В –Љ—Л—Б–ї–Є–ї—Б—П –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ. –Т –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Є—Е –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—Е —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ —Е–Њ—З–µ—В –ґ–µ–љ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ—Б—В—А–µ — –Ы—Г–љ–µ –Є–ї–Є –Ч–∞—А–љ–Є—Ж–µ, –∞ –Љ–µ—Б—П—Ж — –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ—Б—В—А–µ –Т–µ—З–µ—А–љ–Є—Ж–µ (–Т–µ–љ–µ—А–µ). –£—В—А–µ–љ–љ—П—П –Є –≤–µ—З–µ—А–љ—П—П –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б–Є –Т–µ–љ–µ—А—Л –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–∞–Љ–Є, –±—А–∞—В–Њ–Љ –Є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –ѓ–љ–Ї—Г–ї –Є –ѓ–љ–Ї–∞, –°—В–∞–љ–∞ –Є –Ь–Є–ї—М–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ґ–µ–љ—П—В—Б—П, –љ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—П –Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї –±—А–∞—В –Є —Б–µ—Б—В—А–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞—О—В –≤ –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–≤–µ—А—М—П—Е –љ–µ–±–Њ –Є –Ј–µ–Љ–ї—П, –Њ—В —Б–∞–Ї—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Љ–µ—Б—П—Ж»325. –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –±–Њ–ї–≥–∞—А—Л –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –≤—Б–µ—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П –Њ–± –Є–љ—Ж–µ—Б—В–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–∞–Љ–Є (–≤ –Ї—Г–њ–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—Б–љ—П—Е –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –Ш–≤–∞–љ –Є –Ь–∞—А—М—П –±—Л–ї–Є –±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–∞–Љ–Є), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –≤–Є–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—Б–Љ–Њ—Б–∞ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –±—Л–ї –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ, –љ–µ —П–≤–ї—П—П—Б—М –Є–љ—Ж–µ—Б—В–Њ–Љ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤–Є–і–Є–Љ–Њ–є –Т—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є, —В.–µ. –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞, –Њ—В –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Є –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–µ: «–Т —О–ґ–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ –Љ–Њ—В–Є–≤ –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—Е
–Њ –С–∞–±–µ –Ь–∞—А—В–µ, –љ–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–є —Б–µ–Ї—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –±—А–∞—В—М–µ–≤ –У–Њ–ї—П–Љ –°–µ—З–Ї–Њ –Є –Ь–∞–ї—К–Ї –°–µ—З–Ї–Њ (—В.–µ. —П–љ–≤–∞—А—П –Є —Д–µ–≤—А–∞–ї—П). –Ш–љ—Ж–µ—Б—В –С–∞–±—Л –Ь–∞—А—В—Л —Б –±—А–∞—В—М—П–Љ–Є —В—А–∞–Ї—В—Г–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –љ–∞—З–∞–ї–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–Є–Ї–ї–∞»326. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞, —В–Њ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –ї–Њ–≥–Є–Ї–∞ —В—А–µ–±—Г–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Ї–∞–Ї –Љ–Є–Ї—А–Њ–Ї–Њ—Б–Љ–Њ—Б–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —Н—В–Є–Љ –њ—Г—В–µ–Љ. –Ю–± –Њ–±—Й–µ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ–Ї–∞—Е –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Є —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –Є –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–µ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ–є –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б–∞–Ї—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –≤–Ї—А–∞–њ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ—Д–∞–љ–љ–Њ–µ, –Є–љ—Ж–µ—Б—В –Љ–µ–ґ–і—Г –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є –љ–∞ –†—Г—Б–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П –≥—А–µ—Е–Њ–Љ: «–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—А–∞—В—З–Є–љ—Л... —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–ї—П—О—В—Б—П –≤ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–љ—П—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–∞: —Б–љ–Њ—Е–∞ —Б –і–µ–≤–µ—А–µ–Љ, —Б–≤–µ–Ї—А–Њ–Љ, –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є. –С—Л–≤–∞–ї–Є —Б–ї—Г—З–∞–Є –Є —Б —А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є — –±—А–∞—В—М—П –Є —Б–µ—Б—В—А—Л (–≤—Б–µ –ґ–µ–љ–∞—В—Л–µ) –Є –≥—А–µ—Е–Њ–Љ –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є»327.
–Ъ–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –љ–µ–і–∞–≤–љ–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Є–љ—Ж–µ—Б—В —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥—А–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –љ–Њ –Є –≤ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Ї–∞–Ї —Г–ґ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л—И–µ, –Њ–љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ –њ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–∞—А–∞. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –≤—Б–µ –ґ–Є–≤–Њ–µ –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є –њ–ї–∞–љ–µ—В–µ –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –Я–µ—А–≤–Њ–±–Њ–≥–∞, –Є–ї–Є –µ—Б–ї–Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В—М—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –ї–Є—И—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —А–Њ–і–Њ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞–Љ–Є –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Ї–∞, —В–Њ —Б–∞–Љ —Д–∞–Ї—В –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–µ—В –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—П –µ–≥–Њ —А–Њ–ї—М –≤ –Ї–µ–ї—М—В—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –±—А–∞—В—М—П –†–Є—Б –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—В –Ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤—Л–≤–Њ–і—Г: «–£–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є –µ–і–Є–љ–Њ—Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М —Б–≤–µ—А—Е—К–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А—П–Љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –Љ–Њ—В–Є–≤—Г –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —З–∞—Б—В–Њ —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г–µ—В –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П—Е –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є. –≠—В–Њ—В –Љ–Њ—В–Є–≤ —В–Є–њ–Є—З–µ–љ –і–ї—П –Ј–∞—З–∞—В–Є—П –≥–µ—А–Њ—П, –Є, –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—П –µ–≥–Њ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л, –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ –ї—О–±–Њ–µ –Ј–∞—З–∞—В–Є–µ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Є–љ—Ж–µ—Б—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ. –Т–µ–і—М –µ—Б–ї–Є –Њ—В–µ—Ж –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б–Ї—А—Л –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ –њ–Њ —Б—Г—В–Є –µ–і–Є–љ, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Љ–∞—В—М, –і–Є—В—П, –Њ—В–µ—Ж, –ґ–µ–љ–∞, —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–µ —Б—Г—В—М –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –±—А–∞—В—М—П –Є —Б–µ—Б—В—А—Л. –Ш–љ—Ж–µ—Б—В, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, “–љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–µ–љ –≤ —Б–Є–ї—Г —А–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤—Б–µ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ ab intra”. –Ґ—Г –ґ–µ –Є—Б—В–Є–љ—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Ї–Њ—Б–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є. –†–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є–љ—Ж–µ—Б—В—Г–∞–ї—М–љ–∞—П —Б–≤—П–Ј—М —Б –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ–Є –Є —Б –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—В –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–µ –і–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –Є –љ–µ–ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ, —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, –ї—О–і–µ–є –Є –Ј–≤–µ—А–µ–є». –†–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—П –і–∞–ї–µ–µ —Б–≤–Њ—О –Љ—Л—Б–ї—М, –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –њ–Њ—Б—В—Г–ї–Є—А—Г—О—В: «–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Є–љ—Ж–µ—Б—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≥–µ—А–Њ—П —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤ –љ–µ–Љ –љ–µ–Ї–Њ–µ–≥–Њ –Є–Љ–Љ–∞–љ–µ–љ—В–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞, –∞–ї—М—Д—Л –Є –Њ–Љ–µ–≥–Є, –Є –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–µ—В –љ–Є –±—А–∞—В–∞, –љ–Є —Б–µ—Б—В—А—Л, –љ–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є, –љ–Є –Њ—В—Ж–∞, –∞ –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ — –љ–Є —А–Њ–і–∞, –љ–Є –≤–Є–і–∞, –љ–Є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞»328. –Э–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –±—А–∞—В—М–µ–≤ –†–Є—Б –Є –њ—А–Є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–µ –љ–µ –Ї–µ–ї—М—В—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є—Д–Њ–≤, –∞ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є –∞–ї—Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Ї –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–Љ—Г –≤—Л–≤–Њ–і—Г –њ—А–Є—И–µ–ї –Є –Ъ.–У. –Ѓ–љ–≥: «–Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Ф—Г—Е–∞ –њ—А–Є–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В —Б–Ї—А—Л—В–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞ — —Е–Њ—В—М –Љ–µ–ґ–і—Г –±—А–∞—В–Њ–Љ –Є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є, —Е–Њ—В—М –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ–∞—В–µ—А—М—О –Є —Б—Л–љ–Њ–Љ — –Ї–∞–Ї –Њ—В—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї unio mystica (–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П). –•–Њ—В—М –±—А–∞—З–љ—Л–є —Б–Њ—О–Ј –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –Ї—А–Њ–≤–љ—Л—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–µ–Ј–і–µ —В–∞–±—Г–Є—А—Г–µ—В—Б—П, –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ—А–Њ–≥–∞—В–Є–≤–Њ–є —Ж–∞—А–µ–є (—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —В–Њ–Љ—Г — –Є–љ—Ж–µ—Б—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ –±—А–∞–Ї–Є —Д–∞—А–∞–Њ–љ–Њ–≤ –Є —В.–њ.). –Ш–љ—Ж–µ—Б—В —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В –≤–Њ—Б—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М—О, –Њ–љ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞—Ж–Є—О –Є–ї–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П —Б—В–Њ–ї—М –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–∞, –Њ–љ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –ґ—Г—В–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ–є –Ј–∞—З–∞—А–Њ–≤—Л–≤–∞—О—Й–µ–є —Б–Є–ї–Њ–є — –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї –≥—А—Г–±–∞—П —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б, –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г–µ–Љ—Л–є –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ: —Д–∞–Ї—В, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ—Г, –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ —Б –њ—Б–Є—Е–Њ–њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ, –∞ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–µ –±–Њ–≥–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ –≤ –Є–љ—Ж–µ—Б—В–µ. –Ш–љ—Ж–µ—Б—В — –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Б –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–µ —Б–Њ–±–Њ–є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О —Б—В–∞–і–Є—О –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ–Њ–є –Є–і–µ–Є —Б–∞–Љ–Њ–Њ–њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П»329. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б—В—А–Њ–ґ–∞–є—И–µ–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ, –љ–∞—З–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –≤–Є–і–µ—В—М –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ –≤–µ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Д–∞ –Њ –ѓ–Љ–µ –Є –ѓ–Љ–Є, –Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞, –і–∞–љ–љ–∞—П –Є–і–µ—П –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–∞, –љ–Њ –Є —Г –∞–ї—Е–Є–Љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–Љ –°—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М–µ, –Є –і–∞–ґ–µ —Г –У–µ—В–µ: «–ѓ–≤–љ—Л–є “–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є” –∞—Б–њ–µ–Ї—В –Р–љ–Є–Љ—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –µ–µ –Ї–Њ–Љ–њ—А–µ—Б—Б–Є—П —Б —Б–µ—Б—В—А–Њ–є, –Љ–∞—В–µ—А—М—О, –ґ–µ–љ–Њ–є –Є –і–Њ—З–µ—А—М—О –≤–Ї—Г–њ–µ —Б –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–Љ–Є—Б—П —Б—О–і–∞ –Љ–Њ—В–Є–≤–∞–Љ–Є –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –Є —Г –У–µ—В–µ (“–Р—Е, —В—Л –±—Л–ї–∞ –≤ –±—Л–ї—Л–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Љ–Њ–µ–є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є –Є –Љ–Њ–µ–є –ґ–µ–љ–Њ–є”), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ —Д–Є–≥—Г—А–µ –Р–љ–Є–Љ—Л –Ї–∞–Ї regina –Є–ї–Є femina alba –≤ –∞–ї—Е–Є–Љ–Є–Є. –£ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Е–Є–Љ–Є–Ї–∞ –Ш–µ—А–µ–љ–µ—П –§–Є–ї–∞–ї–µ—В–∞, –њ–Є—Б–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1645 –≥–Њ–і–∞, –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ “–Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –Ї–Њ—А–Њ–ї—О —Б–µ—Б—В—А–Њ–є, –Љ–∞—В–µ—А—М—О –Є –ґ–µ–љ–Њ–є”»330. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—В–Є–≤–∞ –Є–љ—Ж–µ—Б—В–∞ –≤ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Є—Д–µ –Њ –±—А–∞—В–µ –Є —Б–µ—Б—В—А–µ — –њ—А–∞—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ — –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –і–∞–ґ–µ —И–Њ–Ї–Є—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–±—А–µ—Б—В–Є —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ–Њ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—И–Є, –њ—Г—В—М –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –ї–µ–ґ–∞–ї —З–µ—А–µ–Ј –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Є–љ—Л –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ–≥–Њ –≤–Њ –Т—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є, –њ—А–Њ–љ–Є–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Я–µ—А–≤–Њ–±–Њ–≥–∞ –Є–ї–Є, –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —В–Њ–є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є, –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–Є.
–°–њ–Њ—А—Л –Є –°–њ–Њ—А—Л—И
–° «—А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ» –Љ–Є—Д–Њ–Љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ –Є –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є—Е —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є —Б–ї–∞–≤—П–љ, –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ VI –≤. –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–Љ –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ–Є–µ–Љ –Ъ–µ—Б–∞—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ: «–Ш –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –і–∞–ґ–µ –Є–Љ—П —Г —Б–ї–∞–≤—П–љ –Є –∞–љ—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –Њ–і–љ–Њ –Є —В–Њ –ґ–µ. –Т –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±–∞ —Н—В–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —Б–њ–Њ—А–∞–Љ–Є (“—А–∞—Б—Б–µ—П–љ–љ—Л–Љ–Є”), –і—Г–Љ–∞—О, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –ґ–Є–ї–Є, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—П —Б—В—А–∞–љ—Г “—Б–њ–Њ—А–∞–і–µ–љ”, “—А–∞—Б—Б–µ—П–љ–љ–Њ”, –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞–Љ–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г-—В–Њ –Є–Љ –Є –Ј–µ–Љ–ї–Є –љ–∞–і–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ»331. –Э–µ—З–µ–≥–Њ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –Є–Љ—П —Б–ї–∞–≤—П–љ –Ї–∞–Ї «—А–∞—Б—Б–µ—П–љ–љ—Л–µ» —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ–≥–∞–і–Ї–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ–Є—П, –≤–Ј—П–≤—И–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї —Б–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є. –°–∞–Љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ «—Б–њ–Њ—А—Л» –≤ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П–≤–ї—П—О—В—Б—П «—Б–µ—П–љ–Є–µ, –њ–Њ—Б–µ–≤, —Б–µ–Љ—П», –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ «–і–µ—В–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є». –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –і–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Г –љ–∞—И–Є—Е –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –µ—Й–µ –і–Њ –Є—Е —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–∞ —Б–ї–∞–≤—П–љ –Є –∞–љ—В–Њ–≤ –Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Н—В–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—О–Ј–Њ–≤. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–∞–Љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Б–ї–∞–≤—П–љ, –Ї–∞–Ї –±—Г–і–µ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –±—Л–ї–Њ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –Љ–Є—Д–Њ–Љ –Њ–± –Є—Е –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Њ—В –Ф–∞–ґ—М–±–Њ–≥–∞-–°–Њ–ї–љ—Ж–∞, —В–Њ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Н—В–Њ–Љ—Г –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–Є—О —Б–≤–Њ–µ–є —А–Њ–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Љ–Њ–≥ –ї–Є—И—М –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–Є–є –Љ–Є—Д.
–Я–Њ–љ—П—В—М –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В —В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Й–Є–є –љ–∞—Б –Ї–Њ—А–µ–љ—М —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е. –Т –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ —Б–њ–Њ—А—М –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ «–Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–є», –∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–љ—Л–µ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П —Б–њ–Њ—А—Л—И — «—Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–є—Б—П, —Г–Љ–љ–Њ–ґ–∞—О—Й–Є–є—Б—П», —Б–њ–Њ—А—Л–љ—П — «–Њ–±–Є–ї–Є–µ». –Ю–±–∞ —Н—В–Є—Е —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї —Е–ї–µ–±—Г: «–Х —Е–ї4–± –≤—К –µ —Б–њ–Њ—А–Є –±—Л–≤—И–µ» –Є–ї–Є «–Х–≥—Г–њ—В—П–љ–µ —З–µ—В—М –Є —В—А–µ–±—Л –Ї–ї–∞–і—Г—В –Э–Є–ї—Г
i –Њ–≥–љ–µ–≤–™, —А–µ–Ї—Г—Й–µ: –Э–Є–ї—К –њ–ї–Њ–і–∞–≤–µ—Ж—М –Є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М –Ї–ї–∞—Б–Њ–Љ, –Њ–≥–љ—М —В–≤–Њ—А–Є—В —Б–њ–Њ—А—Л–љ—О, —Б—Г—И–Є—В—М i –Ј—А–ђ–µ—В—М»332. –°–ї–Њ–≤–∞ —Б–њ–Њ—А—Л–љ—М—П, —Б–њ–Њ—А–Є–ї–∞, —Б–њ–Њ—А–Њ—Б—В—М –Є –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—В «—Г—Б–њ–µ—Е, —Г–і–∞—З–∞, –≤—Л–≥–Њ–і–∞, –њ—А–Є–±—Л–ї—М, –њ—А–Њ–Ї, —А–Њ—Б—В», –∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–љ—Л–µ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Ї–Њ—А–љ—П —Б–њ–Њ—А–љ—Л–є, —Б–њ–Њ—А- –Ї–Є–є — «–≤—Л–≥–Њ–і–љ—Л–є, –њ—А–Є–±—Л–ї—М–љ—Л–є, –њ—А–Њ—З–љ—Л–є, —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–є; –і–∞—О—Й–Є–є –Є–Ј –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–є –і–Њ–ї–≥–Њ; —Б—Л—В–љ—Л–є, –њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є»333.
–Ф–∞–љ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–µ–љ—М –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ –Є —Б —Б–µ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Њ–є —З–Є—Б–ї–∞ –і–≤–∞: —Б–њ–Њ—А—Л—И—«–і–≤–Њ–є—З–∞—В–Ї–∞»334. –Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е: –±–µ–ї–Њ—А. —Б–њ–Њ—А — «–њ—А–Є–±—Л–ї—М, —Г—Б–њ–µ—Е», —Б–њ–Њ—А–Є—Ж—М — «—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –њ—А–Є–±—Л–ї—М–љ—Л–Љ», —Б–њ–Њ—А–љ—Л–є: 1) –њ—А–Є–±—Л–ї—М–љ—Л–є, –≤—Л–≥–Њ–і–љ—Л–є, «—Б–њ–Њ—А–љ–∞—П –Љ—Г–Ї–∞», 2) –≤–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є «—Б–њ–Њ—А–љ—Л–є –Љ–µ—И–Њ–Ї», 3) —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–є, —Б–њ–Њ—А–љ–Њ — —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ; —Г–Ї—А. cnip — —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ—Б—В—М –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ, —Б–њ–Њ—А–Є—В–Є — —Г–Љ–љ–Њ–ґ–∞—В—М, —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—В—М, —Б—И—А–љ—Л–є: 1) —Б–Ї–Њ—А—Л–є, –±—Л—Б—В—А—Л–є: «–°—И—А–љ–Є–є —О–љ—М», 2) —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–є; —Б–њ–Њ—А–Є—И——А–∞—Б—В–µ–љ–Є–µ. –Т —Б–µ—А–±—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ —Б–њ–Њ—А –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В «–і–Њ–ї–≥–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–є—Б—П», —Б–њ–Њ—А–Є—В–Є — —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—В—М, —Б–њ–Њ—А–Є, —Б–њ–Њ—А–Є—И–∞ — —В—Л—Б—П—З–µ–ї–Є—Б—В–љ–Є–Ї. –£ —З–µ—Е–Њ–≤ sporost — –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є–µ, sporota — –±–µ—А–µ–ґ–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М, spory — –±–µ—А–µ–ґ–ї–Є–≤—Л–є, –Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–є, spore — –≤ –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є–Є, —Й–µ–і—А–Њ, –∞ —Г –њ–Њ–ї—П–Ї–Њ–≤ spor — —Г—Б–њ–µ—Е, sporzyc — —Г–Љ–љ–Њ–ґ–∞—В—М, —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—В—М, spory — –њ—А–Є–±—Л–ї—М–љ—Л–є, –≤—Л–≥–Њ–і–љ—Л–є, sporo — —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ, –≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ335. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–µ—З–љ—О —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М –±–Њ–ї–≥. —Б–њ–Њ—А — «–њ—А–Є–±—Л–ї—М, —Г—А–Њ–ґ–∞–є», —Б–ї–Њ–≤–µ–љ. spor, spora — «–Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–є, –њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є», —Б–ї–≤—Ж. spory — «—Й–µ–і—А—Л–є, –Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–є», –њ–Њ–ї—М—Б–Ї. spory — «—Й–µ–і—А—Л–є, –Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–є», –≤.-–ї—Г–ґ., –љ.-–ї—Г–ґ. spory — «—Й–µ–і—А—Л–є, –Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–є». –Ш–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Й–Є–є –љ–∞—Б —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–µ–љ—М —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–µ–љ –і—А.-–Є–љ–і. sphiras — «—В—Г—З–љ—Л–є, –Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–є, –±–Њ–≥–∞—В—Л–є», –ї–∞—В. prosper (prosparos) — «—Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–є, –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є», –∞—А–Љ. —А 'art 'am — «–Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–є». –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Ї—А—Г–≥—Г, –њ–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Є –љ–µ–Љ. Spore, –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј –ї–∞—В. spora, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –і—А.-–≥—А–µ—З. –Њ–њ–Њ—А–∞ — «–њ–Њ—Б–µ–≤», –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ£ — «—А–∞—Б—Б–µ—П–љ–љ—Л–є, –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ—Л–є»336. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ї –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї—А—Г–≥—Г –і—А.-–∞–љ–≥–ї. spir— «–і–ї–Є–љ–љ—Л–є –њ–Њ–±–µ–≥», –ї–∞—В. asparagus, –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –і—А.-–≥—А–µ—З. –∞–∞—П–Њ—Б—А–∞—Г–Њ£—«–Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–љ—М–Ї–Є–є –њ–Њ–±–µ–≥», –∞–≤–µ—Б—В. fraspareya — «–Њ—В—А–Њ—Б—В–Њ–Ї, –≤–µ—В–Ї–∞», –ї–Є—В.$—А–Є^–∞$ — «–≥–ї–∞–Ј–Њ–Ї —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П»337, —Е–Њ—В—М —А–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Н—В–Њ, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –±–Њ–ї–µ–µ –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–µ. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—П –і–∞–љ–љ—Л–µ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤, –Э.–Э. –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Є—Ж–Ї–∞—П –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –Ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –≤—Л–≤–Њ–і—Г: «–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б–њ–Њ—А——А–Њ—Б—В, —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Є–±—Л–ї—М, —Г—Б–њ–µ—Е. –°–њ–Њ—А—Л—И, —Б–њ–Њ—А—Л–љ—М—П, —Б–њ–Њ—А–Є–љ–∞—–і–≤–Њ–є–љ–Њ–є, —В—А–Њ–є–љ–Њ–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В (–Ї–Њ–ї–Њ—Б, –Њ—А–µ—Е, –Њ–≥—Г—А–µ—Ж), —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–њ–Њ—А»338.
–Ф–Њ—И–µ–і—И–Є–µ –і–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–љ—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М —Б–њ–Њ—А —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П —Б —Е–ї–µ–±–Њ–Љ. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ
–њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤—Л—И–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Н—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є –Є–Ј –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –µ—Й–µ –≤ XIX –≤. –Т.–Ш. –Ф–∞–ї–µ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Ї: «–Э–∞–Ј–µ–Љ —Б–њ–Њ—А–Є—В —Г—А–Њ–ґ–∞—О»; «–Ф–Њ—Б–њ–Њ—А–Є—В –ї–Є —Е–ї–µ–± –і–Њ –≤–µ—Б–љ—Л?» –≤ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є «—Б—В–∞–љ–µ—В –ї–Є –µ–≥–Њ»; «–†–Њ–ґ—М —Б–њ–Њ—А–µ–µ –њ—И–µ–љ–Є—Ж—Л»; «–°–њ–Њ—А–Є–љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–њ–Њ—А–Є–љ—Л –љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П: —А–ґ–Є –і–µ—Б—П—В—М –Љ–µ—А –љ–∞ –і–µ—Б—П—В–Є–љ—Г, –∞ –Љ–∞–Ї—Г — –Љ—Г–ґ–Є—З—М—О —И–∞–њ–Ї—Г»339. –Т –Ф–Љ–Є—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–∞–µ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ—А–Є –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Є –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Ј–∞–ґ–Є–љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А-–Љ–Њ–ї–Є—В–≤–∞: «–Ф–∞–є, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, —Б–њ–Њ—А—Л–љ—М–Є –Є –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В–Є, –Є –і–Њ–±—А–Њ–≥–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П! »340 –Т XIX –≤. –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–∞–µ –Я. –®–µ–є–љ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –њ–Њ–≤–µ—А—М–µ: «–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –ґ–∞—В–≤—Л –Ї–∞–Ї –ґ–љ–µ—Ж—Л, —В–∞–Ї –Є –ґ–љ–Є—Ж—Л —Б—В–∞—А–∞—О—В—Б—П –љ–∞–є—В–Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б—В–µ–±–ї–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ–ї–Њ—Б—М–µ–≤. –Х—Б–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е –љ–∞–є–і–µ—В—Б—П 12, —В–Њ –Њ–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П “–ґ–Є—В–љ–Њ–є –Љ–∞—В–Ї–Њ–є” –Є–ї–Є “—Б–њ–Њ—А—Л–љ—М–µ–є”. –Т –Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –Т–Є—В–µ–±—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±. –µ–≥–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В “—Б–њ–Њ—А—Л—И–µ–Љ”. –Э–∞—И–µ–і—И–Є —Н—В–Є –Ї–Њ–ї–Њ—Б—М—П, —Е—А–∞–љ—П—В –Є—Е –Ї–∞–Ї –Ј–µ–љ–Є—Ж—Г –Њ–Ї–∞, –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞, –њ—А–Є–±–µ—А–µ–≥–∞—П –Є—Е –Ї –њ–Њ—Б–µ–≤—Г, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є—Е —А–∞—Б—Б–µ–Є–≤–∞—О—В –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є, —Б —В–≤–µ—А–і–Њ–є –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ—В –љ–Є—Е –Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–ґ–∞—П»341. –•—А–∞–љ–Є–ї—Б—П —Н—В–Њ—В –Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї–Њ–≥ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є—П –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ —Б–∞–Ї—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ. –Ґ–∞–Ї, –≤ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–∞–µ —Б–њ–Њ—А—Л—И–Є –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –≤ –і–Њ–Љ –Є —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –љ–∞ –±–Њ–ґ–љ–Є—Ж–µ, –∞ –≤ –Т—П—В–Ї–µ — –≤—В—Л–Ї–∞–ї–Є –≤ —Б—В–µ–љ—Г —Е–ї–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –∞–Љ–±–∞—А–∞ –Є–ї–Є –≤ –Є–Ј–±–µ –њ–Њ–і –Љ–∞—В–Є—Ж–µ–є. –Т.–Т. –£—Б–∞—З–µ–≤–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В –Њ–±—Й–µ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ —З—Г–і–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї–µ —Б–њ–Њ—А—Л–љ—М–Є: «–Ф–≤–Њ–є–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ—Б (–і–≤–∞ –Є –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–Њ–ї–Њ—Б—М–µ–≤ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б—В–µ–±–ї–µ: —А—Г—Б. –і–≤–Њ–є—З–∞—В–Ї–∞, –ґ–Є—В–љ–∞—П –Љ–∞—В–Ї–∞, —Б–њ–Њ—А—Л—И, —Б–њ–Њ—А—Л–љ—М—П, —Б—Г–њ–Њ—А—Л–ґ–Ї–∞, —Ж–∞—А—М-–Ї–Њ–ї–Њ—Б; –±–µ–ї. –і–Є–∞–ї. –±–ї—Л–Ј–љ–µ—В–∞, –і–≤–∞—З–Ї—Л, —Б–њ–Њ—А—Л—И–Є–Ї–Є; –њ–Њ–ї. parka; –±–Њ–ї–≥. –Ї–ї–∞—Б-—Ж–∞—А, –ґ–Є—В–љ–∞-–Љ–∞—В–Ї–∞, –±–ї–Є–Ј–љ–∞—Ж–Є, –Љ–∞–є–Ї–∞ –љ–∞ –љ–Є–≤–∞—В–∞ — –°—В—А–∞–љ–і–ґ–∞) —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–ї–Њ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ–Њ–є —Б–Є–ї—Л, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–µ–є —Г—А–Њ–ґ–∞–є. –Т –њ–Њ–≤–µ—А—М—П—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–∞ –і–≤–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Њ—Б–∞ —Б—Г–ї–Є–ї–∞ —Б—З–∞—Б—В—М–µ, —Г—Б–њ–µ—Е –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ —Б–µ–Љ–Є –ї–µ—В (—Г–Ї—А., –њ–Њ–ї.), –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –µ–≥–Њ –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –Ј–∞ –ї–µ–љ—В–Њ–є —И–ї—П–њ—Л (–≤–µ—А—Е–љ–µ-—Б–Є–ї–µ–Ј.; –ї—Г–ґ.); –і–µ–≤—Г—И–Ї–µ –њ—А–µ–і–≤–µ—Й–∞–ї–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ–µ –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ (–Ї–Њ–ї–Њ—Б –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –њ—А–Є —Б–µ–±–µ, –Ј–∞—И–Є–≤ –≤ –Њ–і–µ–ґ–і—Г); –њ–∞—А–љ—О — –ґ–µ–љ–Є—В—М–±—Г, –Ј–∞–Љ—Г–ґ–љ–µ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ — —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤. –Т —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Г –±–Њ–ї–≥–∞—А –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–∞ –і–≤–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Њ—Б–∞ –њ—А–µ–і–≤–µ—Й–∞–ї–∞ —Б–Љ–µ—А—В—М —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞ (–Ы–Њ–≤–µ—З); –≤ –°—В—А–∞–љ–і–ґ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ–Њ–≤–µ—А—М–µ, —З—В–Њ –і–≤–Њ–є–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ—Б –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М –Є–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ, –Є–ї–Є –њ–ї–Њ—Е–Є–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ: –µ—Б–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —П—А–Њ–≤–Њ–є —А–ґ–Є — —Н—В–Њ –њ—А–µ–і–≤–µ—Й–∞–ї–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–µ–Љ—М–Є, –Ї–Њ–ї–Њ—Б —В—Г—В –ґ–µ –Ј–∞–Ї–∞–њ—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О, –µ—Б–ї–Є –≤ –Њ–Ј–Є–Љ–Њ–є — —Н—В–Њ –Ї –і–Њ–±—А—Г»342. –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –±–Њ–≥–∞—В–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–ґ–∞—П –і–≤–Њ–є–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ—Б –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–Њ–≥ –њ—А–µ–і–≤–µ—Й–∞—В—М –±—А–∞–Ї–Њ—Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ, —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤ –Є–ї–Є —Б–Љ–µ—А—В—М. –Э–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ —Н—В–Є –њ–Њ–≤–µ—А—М—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —В–Њ—З–љ–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤—Л—И–µ –Љ–Є—Д—Г –Њ–± –Ш–≤–∞–љ–µ-–і–∞-–Ь–∞—А—М–µ: –Є—Е –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –±–ї–Є–Ј–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В—М, –±—А–∞–Ї –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –Є —Б–Љ–µ—А—В—М. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–Љ–Є, –Є –і–∞–љ–љ—Л–µ —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В —Б–≤—П–Ј—М –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–њ–Њ—А—Л—И–µ–Љ –Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Є–Љ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–Љ –Ї—Г–њ–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—Б–µ–љ. –Э–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В –Я.–Я. –І—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –≤ –љ–Њ—З—М –љ–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –Ъ—Г–њ–∞–ї—Г –Є—Б–Ї–∞–ї–Є –≤–Њ —А–ґ–Є –і–≤–∞ –Ї–Њ–ї–Њ—Б–∞ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б—В–µ–±–ї–µ, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Г—О «–Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Г –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г», –њ–Њ–і –љ–µ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –±—Л—В—М –Љ–Њ–љ–µ—В–Ї–∞, –Є —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Љ–Њ–≥ –µ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М, —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М —Б –µ–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–ї–∞–і343. –У–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –Є —Г –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Ж–µ–≤: «–Я–Њ–ї—П–Ї–Є –•–µ–ї–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ –љ–Њ—З—М –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Ш–≤–∞–љ–∞ –Ъ—Г- –њ–∞–ї—Л —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–Є–≤–∞–ї–Є –≤ –Ј–ї–∞–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ –і–≤–Њ–є–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ—Б, —Б—З–Є—В–∞—П, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–µ–љ—М, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, —Б–і–µ–ї–∞–љ –Є–Ј —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ —Б–µ—А–µ–±—А–∞ –Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –Њ—Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Є—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –≤—Л–Ї–Њ–њ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –µ–≥–Њ»344. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г—О—В —Б–≤—П–Ј—М –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б —Ж–≤–µ—В–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —В–µ–Љ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ј—А–Є–Љ—Л–Љ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є–ї—Л.
–°–њ–Њ—А—Л—И —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—И–µ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞-–Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –Є–Ј –Ф–Љ–Є—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В —В–∞–Ї–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–Є, –Ї–∞–Ї: «–С–µ–Ј –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ—М—П –љ–Є –≤ —З–µ–Љ —Б–њ–Њ—А—Л–љ—М–Є –љ–µ –ґ–і–Є», «–Т–ї–Њ–ґ–Є –С–Њ–ґ–µ —Б–њ–Њ—А—Л, –Є –≤ —Б–Ї–Є—А–і–∞—Е –Є –≤ —Б–±–Њ—А–µ!»345, —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –Є —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ: «–°–њ–Њ—А–Є, –±–Њ–ґ–µ, —Е–ї1–±–∞-—Б–Њ–ї–Є –Є –≤—Б—М–Њ–≥–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї–ђ346. –Х—Б–ї–Є —Н—В–Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л, –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ –≤ XIX –≤., —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б–њ–Њ—А —Б —Е–ї–µ–±–Њ–Љ, —В–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–µ —П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–Њ —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –∞—А—Е–∞–Є—З–љ—Л–є –њ–ї–∞—Б—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –≤–Њ–Ј–і–µ–ї—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –љ–Њ –Є —Б –і–Є–Ї–Њ—А–∞—Б—В—Г—Й–µ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О. –Т –Ц–Є—В–Є–µ –Ю—В—В–Њ–љ–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Т–µ–ї–µ–≥–Њ—Й–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–є –ґ—А–µ—Ж, —А–µ—И–Є–≤ –љ–∞–њ—Г–≥–∞—В—М –љ–∞—А–Њ–і –њ–µ—А–µ–і –њ—А–Є–µ–Ј–і–Њ–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б–њ—А—П—В–∞–ї—Б—П –≤ –Ї—Г—Б—В–∞—Е –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–Љ—Г –Љ–Є–Љ–Њ –њ—Г—В–љ–Є–Ї—Г: «–°—В–Њ–є, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є –≤–љ–µ–Љ–ї–Є –Љ–Њ–µ–Љ—Г —Б–ї–Њ–≤—Г! –Ю–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ–Љ—Г: —П –±–Њ–≥ —В–≤–Њ–є, —П —В–Њ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–±–ї–µ–Ї–∞–µ—В –њ–Њ–ї—П —В—А–∞–≤–Њ—О –Є –ї–µ—Б–∞ –ї–Є—Б—В–Є–µ–Љ; –њ–ї–Њ–і—Л –Ј–µ–Љ–ї–Є –Є –і—А–µ–≤–µ—Б –Є —Б—В–∞–і –Є –≤—Б–µ, —З—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –≤—Б–µ –≤ –Љ–Њ–µ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є: –і–∞—О –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Љ–Њ–Є–Љ, –Њ—В—Л–Љ–∞—О —Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ–Є—Е. –°–Ї–∞–ґ–Є –љ–∞—А–Њ–і—Г –≤ –Т–µ–ї–µ–≥–Њ—Й–µ –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —З—Г–ґ–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞»347. –Ш–Љ—П –±–Њ–≥–∞, –Њ—В –ї–Є—Ж–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –ґ—А–µ—Ж –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Ї –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–µ–Љ—Г, –≤ –Ц–Є—В–Є–µ –љ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Њ. –Р. –У–Є–ї—М—Д–µ—А–і–Є–љ–≥ —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї –°–≤—П—В–Њ–≤–Є—В, –Я.–°. –Х—Д–Є–Љ–µ–љ–Ї–Њ –Є –Э. –Ъ–∞—А–µ–µ–≤ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї –ѓ—А–Њ–≤–Є—В, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–±–∞ –±–Њ–≥–∞ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Є —П—А–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–Њ–ї—П—А–љ—Л–Љ–Є —З–µ—А—В–∞–Љ–Є. –°–≤—П–Ј—М —Б–њ–Њ—А–∞ —Б —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є: –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–љ—П —Б–ї–Њ–≤–Њ —Б–њ–Њ—А—Л–і–∞—В—М –Ј–љ–∞—З–Є—В «—Б–≤–µ—В–Є—В—М, –Њ–Ј–∞—А—П—В—М»348 –Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–∞–њ—А—П–Љ—Г—О –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –Ї –і–љ–µ–≤–љ–Њ–Љ—Г —Б–≤–µ—В–Є–ї—Г: «–Я–Њ—А–∞ –≤—Б—В–∞–≤–∞—В—М, —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ —Б–њ–Њ—А—Л–і–∞–µ—В»349. –Т –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–∞ «–°–ї–Њ–≤–Њ —Б–≤. –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П» –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ –і–љ–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–Є–ї–∞ –њ—А–Є–≤–µ—А–ґ–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є —Б—В–∞—А–Њ–є –≤–µ—А—Л –љ–∞–њ—А—П–Љ—Г—О –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—В –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –Ј–µ–Љ–љ—Л–µ –Ј–ї–∞–Ї–Є: «–Ш –Њ–≥–љ—М —А–µ–Ї—Г—Й–µ —Б–њ–Њ—А—Л–љ—О —Б–Њ—Г—И–∞, –µ–≥–і–∞ –Ј—А–™–µ—В—М. –°–µ–≥–Њ —А–∞–і–Є –Њ–Ї–∞–љ—М–љ–Є–Є –њ–Њ–ї—Г–і–љ—М–µ —З—В–Њ—Г—В—М –Є –Ї–ї–∞–љ—П—О—В—М—Б—П –њ–Њ–ї—К–і–љ–µ –Њ–±—А–∞—В–Є–≤—И–µ–µ»350. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—О –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ—П –љ–∞ –Ј—А–µ—О—Й—Г—О —Б–њ–Њ—А—Л–љ—М—О —Б–ї–∞–≤—П–љ–µ-—П–Ј—Л—З–љ–Є–Ї–Є –Є –Ї–ї–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞ —О–≥ —Б–Њ–ї–љ—Ж—Г.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є–µ–Љ, —Б–њ–Њ—А–Є- –љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б–Њ —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ, —Б–ї–µ–і—Л —З–µ–≥–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–∞–Љ–Є –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –≤ XIX—XX –≤–≤. «–Я—А–Є–µ–Љ—Л —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞–≥–Є–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –і–≤–Њ–є–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ, — –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В –Э.–Э. –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Є—Ж–Ї–∞—П, — —П—А–Ї–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—В –≤ —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ —Б —Ж–µ–ї—М—О —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–њ–ї–Њ–і–∞. –Т –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б–Є–Є –≤–µ—А—П—В: –µ—Б–ї–Є —Б–њ–Њ—А—Л—И–Є, –і–≤–Њ–є–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–Њ—Б—М—П, –і–∞—В—М —Б—К–µ—Б—В—М –Њ–≤—Ж–µ, —В–Њ –Њ–љ–∞ —А–Њ–і–Є—В –±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤. –Э–∞ –Т–Њ–ї—Л–љ–µ, –≤ –У–Њ–ї–Њ–≤–љ–Є—Ж–µ –і–≤–Њ–є–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ—Б –і–∞–µ—В—Б—П –Њ–≤—Ж–∞–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –±–ї–Є–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –ґ–µ –њ–Њ–≤–µ—А—М–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –У–Њ–љ- –ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ»351. –Я—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–µ–≥–Є–Њ–љ—Г —В–∞–Ї–Њ–µ –ґ–µ –њ–Њ–≤–µ—А—М–µ –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А—Г–µ—В –Є –Т.–Т. –£—Б–∞—З–µ–≤–∞: «–°—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –і–≤–Њ–є–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ—Б —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В –њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Є—В–Њ—Б—В–Є —Б–Ї–Њ—В–∞: –µ—Б–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ–≤–∞ –Є–ї–Є –Њ–≤—Ж–∞ —Б—К–µ—Б—В –µ–≥–Њ, —А–Њ–і–Є—В—Б—П –і–≤–Њ–є–љ—П (–±—А–µ–µ—В., –≥–Њ–Љ–µ–ї., –≤–Є—В–µ–±), —Б—А. –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–є —А–Є—В—Г–∞–ї —Б–Ї–∞—А–Љ–ї–Є–≤–∞–љ–Є—П —Б–њ–Њ—А—Л—И–∞ –Њ–≤—Ж–∞–Љ»352.
–°–∞–Љ–∞ —Б–њ–Њ—А–Є–љ–∞ –Љ—Л—Б–ї–Є–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Г–ґ–µ –љ–∞ –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ: —А—Г—Б—Б–Ї.—Б–њ–Њ—А–Њ–ґ–∞—В—М, —Б–њ–Њ—А–Њ–і–Є—В—М –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є «—А–Њ–ґ–∞—В—М, —А–Њ–і–Є—В—М, –љ–∞—А–Њ–ґ–і–∞—В—М, –љ–∞—А–Њ–і–Є—В—М». –Ю–± —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ–Љ –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Й–µ–Љ –љ–∞—Б –Ї–Њ—А–љ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Є –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–є –Т.–Ш. –Ф–∞–ї–µ–Љ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є: «–°–њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞ –≤ –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–Љ —Б–∞–і—Г, –њ–Њ–і –≥—А—Г—И–µ—О»353. –Ґ–Њ, —З—В–Њ –≤ XIX –≤. —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–Њ–Љ, –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤—Л—И–µ, –±—Л–ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П –≤ –Є–і–µ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞—Б –Ї–Њ—А–љ—П –≤ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В —В–Њ, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П —Г–ґ–µ –≤ –±—Л–ї–Є–љ–∞—Е –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–Є–Ї–ї–∞. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –Ф–Њ–±—А—Л–љ–Є –Э–Є–Ї–Є—В–Є—З–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –µ–≥–Њ «–љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–∞», –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В:
«–ѓ –±—Л —А–∞–і–∞ –±—Л —В—П, –і–Є—В—П—В–Ї–Њ, —Б–њ–Њ—А–Њ–і–Є—В–Є:
–ѓ —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–Љ-—Г—З–∞—Б—В—М—О –≤ –Ш–ї—М—О –Ь—Г—А–Њ–Љ—Ж–∞,
–ѓ –±—Л —Б–Є–ї–Њ–є –≤ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ—А–∞ –і–∞ –±–Њ–≥–∞—В—Л—А—П,
–ѓ –±—Л —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В—М—О –≤–Њ —Б–Љ–µ–ї–Њ–≥–Њ –Р–ї–µ—И—Г –≤–Њ –Я–Њ–њ–Њ–≤–Є—З–∞,
–ѓ –њ–Њ—Е–Њ–і–Ї–Њ—О —В–µ–±—П —Й–∞–њ–ї–Є–≤–Њ—О –Т–Њ —В–Њ–≥–Њ –І—Г—А–Є–ї—Г –≤–Њ –Я–ї–µ–љ–Ї–Њ–≤–Є—З–∞,
–ѓ –±—Л –≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ –Ф–Њ–±—А—Л–љ—О –≤–Њ –Э–Є–Ї–Є—В–Є—З–∞,
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—Л–Є —Б—В–∞—В—М–Є –µ—Б—В—М, –∞ –і—А—Г–≥–Є—Е –±–Њ–≥ –љ–µ –і–∞–ї,
–Ф—А—Г–≥–Є—Е –±–Њ–≥ —Б—В–∞—В—М–µ–є –љ–µ –і–∞–ї –і–∞ –љ–µ –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї»354.
–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞–Ј–і—А–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—З–Є—В–∞–љ–Є—П —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–µ: «–°–њ–Њ- —А–Њ–і–Є –Љ–љ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Ж–∞: —Б—В–∞–љ–Њ–Љ –≤ –Љ–µ–љ—П, –±–µ–ї—Л–Љ –ї–Є—З–Є–Ї–Њ–Љ –≤ —Б–µ–±—П, –Њ—З–Є —П—Б–љ—Л –≤ —Б–Њ–Ї–Њ–ї–∞, –±—А–Њ–≤–Є —З–µ—А–љ—Л –≤ —Б–Њ–±–Њ–ї—П!» –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Б–њ–Њ—А–Њ–і–Є—В—М —З—В–Њ- –ї–Є–±–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–Є–≤–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ, –∞ –љ–µ–ґ–Є–≤–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –і—А—Г–≥–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є, –≤ —Н—В–Њ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ: «–Э–Є—З–µ–≥–Њ-—В–Њ –≤—Л, –≥–Њ—А—Л, –љ–µ —Б–њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–Є»355. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–њ–Њ—А—Л–љ—М–Є –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В–µ–Ї—Б—В–∞—Е –µ–µ –≤–µ–ї–Є—З–∞—О—В «–Љ–∞—В—Г—И–Ї–Њ–є», —З—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є —Б –ґ–Є–≤–Њ—В–≤–Њ—А—П—Й–µ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М—О –Ь–∞—В–µ—А–Є –°—Л—А–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є: «–Э–∞ —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –і–≤–∞ –Ї–Њ–ї–Њ—Б–∞, –≤—Л—А–Њ—Б—И–Є–µ –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–µ–±–ї—П, —Б—А–Њ—Б—И–Є–µ—Б—П –Ї–∞—А—В–Њ—Д–µ–ї–Є–љ—Л, –Љ–Њ—А–Ї–Њ–≤–Є–љ—Л, –Њ—А–µ—Е–Є –Є —В.–і. –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П “—Б–њ–Њ—А–Є–љ–Њ–є”. –°—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ “—Б–њ–Њ—А–Є–љ–∞-–Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В—Б—П –Ї —Б—З–∞—Б—В—М—О". (–°—А. –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–µ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–≤–µ—А—М–µ –Њ “–і–≤–Њ–є–љ–Њ–є” –Ї–∞–њ—Г—Б—В–µ)»356. –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є —Н—В–Є—Е «–Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Є—Е» –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤ —Б–њ–Њ—А—Л–љ—М–µ –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ–±—А–∞–Ј—Л –µ–µ –і–µ—В–µ–є: «–Ц–∞—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ–µ—Б–љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Њ “—П—А–Њ–≤–Њ–є —Б–њ–∞—А–Є–љ—М–µ”, —Б—В–Њ—П—Й–µ–є –≤ –њ–Њ–ї–µ “–љ–∞ –Ї–∞—А–љ—О”, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ –≥—Г–Љ–љ–Њ, –≤ –Ї–ї–µ—В—М, –≤—М–µ—В –≥–љ–µ–Ј–і–Њ, –≤—Л–≤–Њ–і–Є—В –і–µ—В–µ–є –Є —А–∞—Б–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –Є—Е –њ–Њ –љ–Њ–≤—Л–Љ –Ї–ї–µ—В—П–Љ. (...)
–ѓ—А–Њ–≤–∞—П —Б–њ–Њ—А—Л–љ—П,
–Ш–і–Є —Б –љ–Є–≤—Г—И–Ї–Є –і–Њ–Љ–Њ–є,
–°–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤—Г—И–Ї–Є –і–Њ–Љ–Њ–є,
–Ъ –љ–∞–Љ –≤–Њ –Ъ–Њ—Й–µ–љ–Њ —Б–µ–ї–Њ,
–Т–Њ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Ї–Њ–≤–Њ –≥—Г–Љ–љ–Њ.
–Р —Б –≥—Г–Љ–љ–∞ —Б–њ–∞—А—Л–љ—П –Т–Њ –∞–Љ–±–∞—А –њ–µ—А–µ—И–ї–∞,
–Ю–љ–∞ –≥–љ–µ–Ј–і—Г—И–Ї–Њ —Б–≤–Є–ї–∞,
–Ь–∞–ї—Л—Е –і–µ—В–Њ–Ї –≤—Л–≤–µ–ї–∞ —
–Я—И–µ–љ–Њ–є –≤—Л–Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–∞,
–°—Л—В–Њ–є –≤—Л–њ–Є–ї–∞»357.
–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ –Є–Ј –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤, —Б–њ–Њ—А—Л–љ—М—П –≤ –љ–Є—Е —А–Є—Б—Г–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–µ –і–µ—В–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –±—Г–і—Г—В —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞ –Є –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є—П.
–Э–∞—А—П–і—Г —Б —Н—В–Є–Љ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —Б–њ–Њ—А–Є- –љ—Л, –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –µ–µ —З–µ—А—В–∞–Љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–ї–Є–Ї–∞. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤—Л—И–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞—Е –Ї–Њ—А–µ–љ—М –і–≤–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Њ—Б–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є—Б–Ї–∞–ї–Є –≤ –љ–Њ—З—М –љ–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –Ъ—Г–њ–∞–ї—Г, –±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞—Е –†—Г—Б–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б–љ–Њ–њ, —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П–≤—И–Є–є —Б–Њ–±–Њ–є —Б–њ–Њ—А–Є–љ—Г, –љ–∞—А—П–ґ–∞–ї–Є –≤ –ґ–µ–љ—Б–Ї—Г—О –Њ–і–µ–ґ–і—Г –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є «–±–∞–±–Њ–є» –Є–ї–Є «–і–Њ–ґ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –±–∞–±–Њ–є». –Т –Я—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Є–Ј —Б–і–≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–Њ—Б—М–µ–≤ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –Њ—Б–Њ–±–∞—П –Ї—Г–Ї–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —В–∞–Ї –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М — —Б–њ–Њ—А—Л–љ—М—П. –Т –С–Њ–ї–≥–∞—А–Є–Є –Є–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Б–љ–Њ–њ–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–µ–ї–∞–ї–Є –Ї—Г–Ї–ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Є «–ґ—Г—В–≤–∞—А–Ї–∞ —Ж–∞—А–Ї–∞» –Є–ї–Є «–ґ—Г—В–≤–∞—А—Б–Ї–∞ –Љ–Њ–Љ–∞». –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б–љ–Њ–њ –Є–ї–Є –≤–µ–љ–Њ–Ї —Г–љ–Њ—Б–Є–ї–Є —Б –њ–Њ–ї—П –≤ –і–Њ–Љ –µ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞, —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д—Л –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б–Њ —Б–љ–Њ–њ–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –љ–∞ –µ–µ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Г: «–Э–∞—А—П–і—Г —Б –њ–µ—А—Б–Њ–љ–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Б–љ–Њ–њ–∞, –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ —Б–љ–Њ–њ–∞ –Є –≤–µ–љ–Ї–∞ —Б–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б —Н—В–Є–Љ —Б–љ–Њ–њ–Њ–Љ –Є –≤–µ–љ–Ї–Њ–Љ –Є –Њ–±—А—П–і—Л –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –љ–∞ –љ–µ–µ. –°—Г–і—П –њ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П–Љ, —Б–љ–Њ–њ –љ–µ—Б–µ—В –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ (—Б—В–∞—А—И–∞—П –Є–ї–Є –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–∞—П), –≤–µ–љ–Њ–Ї –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–і–µ–≤–∞—О—В —Б–∞–Љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–є –Є–ї–Є —А–∞–±–Њ—В—П—Й–µ–є –і–µ–≤—Г—И–Ї–µ»338. –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–љ–Њ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П, —Б –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–њ–Њ—А—Л–љ—М–Є –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Є–ї–Є —Б—В–∞—А—И–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –Њ–±—А–∞–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є — –њ—А–∞—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ —А–Њ–і–∞, –Є–ї–Є —Б–∞–Љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В—П—Й–∞—П, —В.–µ. —Б–∞–Љ–∞—П —Б–Є–ї—М–љ–∞—П –Є–Ј —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ –ґ–∞—В–≤–µ, –Є–ї–Є —Б–∞–Љ–∞—П –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П, —В.–µ. –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Б–µ–Ї—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞, —З—В–Њ –Њ–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є –њ–µ—А–µ–Ї–ї–Є–Ї–∞–µ—В—Б—П —Б –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–љ—П.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–њ–Њ—А—Л—И –Љ–Њ–≥ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –љ–Њ –Є —Б –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. «–Т –і–Њ–ґ–Є–љ–Њ—З–љ—Л—Е –њ–µ—Б–љ—П—Е –њ–µ—А–≤–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ “—Б–њ–Њ—А—Л—И–µ”, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Е–Њ–і–Є—В –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–µ –Є –ґ–і–µ—В –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П. –•–Њ–Ј—П–Є–љ –Є–ї–Є —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–µ—В –µ–≥–Њ –Ї —Б–µ–±–µ –≤ —Е–∞—В—Г –Є–ї–Є –≤–Њ –і–≤–Њ—А, –≥–і–µ —Б—В–Њ—П—В —Б—В–Њ–ї—Л —Б —Г–≥–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ (–љ–∞–њ–µ—З–µ–љ—Л –њ–Є—А–Њ–≥–Є, –љ–∞–≤–∞—А–µ–љ–∞ –Ї–∞—И–∞, –µ—Б—В—М –њ–Є–≤–Њ, –Љ–µ–і, –≤–Є–љ–Њ). –°–њ–Њ—А—Л—И–∞ —Г–≥–Њ—Й–∞—О—В, –Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–µ—Б–љ—П –Ј–∞–Ї–ї–Є–љ–∞–љ–Є–µ–Љ «—Б–њ–Њ—А–∞».
- –Р–є, —Е–Њ–і–Ј–є—Г –°–њ–Њ—А—Л—И –Є–Ј –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –≤—Г–ї–Є—Ж—Л –≤ –Ї–Њ–љ–µ—Ж,
–Р—Е –љ–Є—Е—В–Њ –°–њ–Њ—А—Л—И–∞ –і–∞ —Г —Е–∞—В—Г –љ—П –Ј–Њ–≤–µ—Ж—М –Ю–±–Њ–±—А–∞–ї–∞—Б—М –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Л–љ—П –і–∞ –Ь–∞—А—В—Л–љ–Њ–≤–∞ –ґ–∞–љ–∞:
«–•–Њ–і–Ј–Є-–ґ–∞ —В—Л, –°–њ–Њ—А—Л—И, –Њ—Е —Г —Е–∞—В—Г –Ї–Њ –Љ–љ–µ!
–°–≤—П–і–Ј—М-–ґ–∞ —В—Л, –°–њ–Њ—А—Л—И, –Ј–∞ —Ж–Є—Б–Њ–≤—Л —Б—В–Њ–ї,
–Ч–∞ —Ж–Є—Б–Њ–≤—Л–Љ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ, –Ј–∞ –Ј—П–ї–µ–љ—Л–Љ –≤–Є–љ–Њ–Љ,
–Ч–∞ –Ј—П–ї–µ–љ—Л–Љ –≤–Є–љ–Њ–Љ, –Ј–∞ –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ–Є –Ї—Г–±–Ї–∞–Љ–Є».
–ѓ–Ї —Б—В–∞–ї–∞ —П–љ–∞ –њ—А–Њ—Б–Є—Ж—М –°–њ–Њ—А—Л—И–∞:
«–Я—А–Є—Б–њ–Њ—А—Л –Љ–љ–µ, –°–њ–Њ—А—Л—И, –Є —Г –і–Њ–Љ–Є, –Є —Г –њ–Њ–ї–Є,
–Ш —Г –≥—Г–Љ–љ—Л, –Є —Г –і–≤–Њ—А—Л –Є —Г –Ї–ї–µ—Ж–Є –Є —Г –њ–µ—Ж–Є,
–Ш —Г –Ї–ї–µ—Ж–Є –Ї–Њ—А–Њ–±–Њ–Љ, –Є —Г –њ–µ—З–Є –њ–Є—А–Њ–≥–Њ–Љ,
–Ш —Г –њ–µ—З–Є –њ–Є—А–Њ–≥–Њ–Љ –Є –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ –њ–Є—А–Њ–≥–∞–Љ–Є».
2. Xo3iy —Б–њ–Њ—А—Л—И –њ–Њ –≤—Г–ї–Є—Г–µ,
–Я–Њ –≤—Г–ї–Є—Ж–µ –њ–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є,
–Я–Њ –Љ—Г—А–∞—Г—Ж–µ –њ–Њ –Ј—П–ї–µ–љ–Њ–є,
–Р –љ–Є—Е—В–Њ –°–њ–Њ—А—Л—И–∞ —Г –і–≤–Њ—А –љ—П –Ј–Њ–≤–µ—Ж—М.
–Т—Л—И–ї–∞, –≤—Л–µ—Е–∞–ї–∞ –•–≤—П–і–Њ—А–Є—Е–∞:
–•–Њ–і–Ј–Є, –°–њ–Њ—А—Л—И, –Ї–Њ –Љ–љ–µ –љ–∞ –і–≤–Њ—А,
–Ъ–Њ –Љ–љ–µ –љ–∞ –і–≤–Њ—А, –љ–∞ —З–Є—Б–Њ–≤—Л–є —Б—В–Њ–ї,
–£ –Љ—П–љ–µ —Б—В–Њ–ї—Л –њ–Њ–Ј–∞—Б—Ж–Є—Б–ї–∞–љ—Л,
–Т–Є–љ–Њ–Љ –Ї—Г–±–Ї–Є –њ–Њ–љ–∞–ї–Є–≤–∞–љ—Л,
–£ –Љ—П–љ–µ –њ–Є—А–Њ–≥–Њ—Г –њ–Њ–љ–∞–њ–µ—З–∞–љ–∞,
–£ –Љ—П–љ–µ –Љ–µ–і—Г –њ–Њ–љ–∞—Б—Л—З–∞–љ–∞,
–£ –Љ—П–љ–µ –Ї–∞—И–∞ –љ–∞–≤–∞—А–µ–љ–∞.
–°—П–і–Ј—М, –°–њ–Њ—А—Л—И, –љ–∞ –њ–Њ–Ї—Г—Ж–µ,
–Э–∞ –њ–Њ–Ї—Г—Ж–µ –і–∞ –љ–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—Ж–µ.
–Я–Є, –°–њ–Њ—А—Л—И, –Ј—П–ї–µ–љ–Њ –≤–Є–љ–Њ.
–°–њ–Њ—А—Л, –±–Њ–ґ–∞, —Г –Љ–Њ–µ–Љ –≥—Г–Љ–љ–µ –£ –Љ–Њ–µ–Љ –≥—Г–Љ–љ–µ, —Г –Љ–Њ–µ–Љ –і–≤–Њ—А–µ:
–Э–∞ —В–Њ–Ї—Г –≤–Љ–Њ–ї–Њ—В, –∞ –≤ –і–Ј—П–ґ–Є –њ–Њ–і–Њ—Е–Њ–і,
–Р –≤ –њ–µ—З–Є —А–Њ—Б—В–∞, –∞ –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ —Б—Л—В—Ж—Ж–µ»359.
–Т–µ—Б—М —Б—О–ґ–µ—В –і–∞–љ–љ—Л—Е –і–Њ–ґ–Є–љ–Њ—З–љ—Л—Е –њ–µ—Б–µ–љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –љ–∞ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–µ–Љ–µ –Њ –±–Њ–≥–µ –Ї–∞–Ї –љ–µ—Г–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ–Љ –≥–Њ—Б—В–µ. –°–њ–Њ—А—Л—И —Е–Њ–і–Є—В –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–µ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –≤ –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–љ–Њ–Љ –Њ–±–ї–Є–Ї–µ, –љ–Є–Ї—В–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–Є –і–Њ–Љ–∞, –µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–Њ–≤–µ—В –≤ –≥–Њ—Б—В–Є, –∞ –Ј–∞ —Н—В–Њ –≥–Њ—Б—В–µ–њ—А–Є–Є–Љ—Б—В–≤–Њ –°–њ–Њ—А—Л—И –Њ–і–∞—А—П–µ—В –µ–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є–µ–Љ-—Б–њ–Њ—А–Њ–Љ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е — –≤ –њ–Њ–ї–µ, –љ–∞ –≥—Г–Љ–љ–µ, –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ, –≤ –Ї–ї–µ—В–Є, –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ. –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞—П —Б–њ–Њ—А –Ї–∞–Ї —А–Њ—Б—В, —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ, —Г—А–Њ–ґ–∞–є–љ–Њ—Б—В—М, –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—Й—Г—О—Б—П –≤ –і–≤–Њ–є–љ–Њ–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–µ, –Э.–Э. –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Є—Ж–Ї–∞—П —В–∞–Ї –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В —Б–≤–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ: «–Р–љ–Є–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Є—А–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Њ “—Б–њ–Њ—А—Л—И” — –і–≤–Њ–є—З–∞—В—Л–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В — –ґ–Є–≤—Л–Љ, –Ј–Њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–љ—Л–Љ –Є –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–љ—Л–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ —Б–њ–Њ—А: “–°–њ–µ—И–Ї–∞- –°–њ–Њ—А—Л—И–Ї–∞”, “–°–њ–∞—А–Є–љ—М–љ—П”, “–°–њ–Њ—А—Л—И”, “–†–∞–є”, –±–Њ–≥. –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Њ–±—А—П–і–∞—–ґ–љ–Є—Ж–∞ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –љ–∞ —Б–µ–±—П —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є “–°–њ–Њ—А—Л—И–∞” –Є –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–ґ–µ –≤ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ... –°–∞–Љ–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ “—Б–њ–Њ—А”, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–ї–∞–Ї–Њ–≤, —Б–Ї–Њ—В–∞, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П, —Б —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є—П, –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ (“—Б–њ–Њ—А–љ–∞—П –Љ—Г–Ї–∞”) –Є–ї–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П (“–љ–∞ —В–Њ–Ї—Г — —Г–Љ–Њ–ї–Њ—В”, “—Г –њ–µ—Ж–Є –њ–Є—А–Њ–≥–Њ–Љ”), –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞, —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ, –Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ–Љ —Б—З–∞—Б—В—М—П –≤–Њ–Њ–±—Й–µ»360.
–Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —Н—В–Њ–є –≥–ї–∞–≤–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Њ —Б–њ–Њ—А–Њ–Љ –Њ–±—А—П–і—Л –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є –љ–∞ —Б—В–∞–і–Є–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –≤ —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –≤ –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—З–µ—Б–Ї—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М —В–µ—Б–љ—Г—О —Б–≤—П–Ј—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—П —Б–њ–Њ—А—Л—И–∞ —Б —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —Н—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ї–љ–Є–≥–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –≠—В–Њ –Є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–Љ —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞, –Є –µ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–µ –Ї–∞–Ї «–±–∞–±—Л», «–ґ–Є—В–љ–Њ–є –Љ–∞—В–Ї–Є» –Є–ї–Є «–Љ–∞—В—Г—И–Ї–Є-—Б–њ–Њ—А—Л–љ—М–Є», –Є –µ–≥–Њ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П —Б –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –°–њ–Њ—А—Л—И–∞ –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±–ї–Є–Ї–µ, –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ–Љ –і–≤–Њ–є–љ–Є. –Ґ–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –Ї–∞–Ї —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ —Б–њ–Њ—А (—Б–њ–Њ—А—Л—И) –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М –Ї –њ—А–Њ–Є–Ј—А–∞—Б—В–∞–љ–Є—О —Е–ї–µ–±–∞ –Є –Љ–Њ–≥–ї–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –≤ –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–љ–Њ–Љ –Њ–±–ї–Є–Ї–µ, —В–∞–Ї –Є –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б—И–Њ—А–Њ1 –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є «—Б–µ–Љ—П», –Є «–њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є» (–њ—А–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –≤ –і—А–µ–≤–љ–µ–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б—О–ґ–µ—В–∞ –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б–њ–∞—А—В–Њ–≤ — –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –њ—П—В–Є —Д–Є–≤–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–і–Њ–≤ –Є–Ј –њ–Њ—Б–µ—П–љ–љ—Л—Е –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О —Б–µ–Љ—П–љ), –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–± –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ–Ї–∞—Е –Љ–Є—Д–∞ –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є–Ј –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ—Л–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—П—Е —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤—Л—И–µ. –Т —Б–≤–µ—В–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—А–∞–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–Є—О –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —Б–ї–∞–≤—П–љ —Б —Б–µ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –µ–Љ—Г –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ–Љ —Н—В–Њ—В —Д–∞–Ї—В –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї –Ї —Б–µ–±–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ–Є—П –Ъ–µ—Б–∞—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, –Њ—В—А–∞–Ј–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Н—В–Њ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е. –°—В–Њ–Є—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Г—О —Б–≤—П–Ј—М —Н—В–љ–Њ–љ–Є–Љ–∞ 5–ї—В–Њ—А–Њ1 –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ–Є—П —Б–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А, —Б–њ–Њ—А—Л–є –≤ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є «—Г—Б–њ–µ—Е, –њ—А–Є–±—Л–ї—М, –Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–є, —Г—А–Њ–ґ–∞–є» –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –Є —В–∞–Ї–Њ–є –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В, –Ї–∞–Ї –Ь. –§–∞—Б–Љ–µ—А361, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–љ–µ—Б –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞ —Б –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –°–њ–Њ—А—Л—И–∞ –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –µ–Љ—Г –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –≤—Б—О –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Ъ–∞–Ї —Г–ґ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Б–ї–∞–≤—П–љ –љ–µ —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є –Њ–і–љ–Є–Љ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ–Є—П —Б–ї—Г–ґ–Є—В –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–љ—П –≤ –ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –Є–Љ–µ–љ–∞—Е. –Ґ–∞–Ї, –≤ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–µ –±–∞–≤–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –Ґ–∞—Б—Б–Є–ї–Њ –® –Ъ—А–µ–Љ—Б–Љ—О–љ—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—О 777 –≥. —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –Р–ї—М–њ «–њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ґ–∞–ї–Є—Г–њ –Є –°–њ–∞—А—Г–љ–∞...»362 –Х—Б–ї–Є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–∞ –±–∞–≤–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –£–® –≤., —В–Њ –≤ XX –≤. –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Ш.–Р. –Р—А—Б–µ–љ—В—М–µ–≤ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–µ- –Љ—Г—А–∞—Е «–Ъ–Њ—А–Њ—В–Ї–∞—П –љ–Њ—З—М –і–Њ–ї–≥–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л» —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –°–њ–Њ—А–Є–љ—Г, —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–µ—В—З–Є–Ї–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л363. –Т –љ–µ–є —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Ь–Ы. –°–њ–Њ—А—И–µ–≤ –Є –Ш.–Р. –°–њ—А—Л—И–Ї–Њ–≤364. –≠—В–Є —Д–∞–Ї—В—Л —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ–Љ –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є —Г —Б–ї–∞–≤—П–љ, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–µ–Љ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Г –љ–Є—Е –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–∞—П —А–µ–і–Ї–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –Є–Љ–µ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –љ–Є–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, —З—В–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ–Є—П, —З—В–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ–µ –Є–Ј–і—А–µ–≤–ї–µ –Ј–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–њ–Њ—А–∞–Љ–Є –Є –Ї –µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —В–∞–Ї —Г–ґ–µ –љ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Ю—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–ї–µ–і—Л –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ —Б–њ–Њ—А–∞-—Б–њ–Њ—А–Є–љ—Л –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –Є –≤ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П—Е. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —Б–µ–ї–Њ –°–њ–Њ—А–Њ–≤–Њ, —З—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ—В –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–љ—П –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Г –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Є –Њ–Ј–µ—А–Њ –°–њ–Њ—А–Њ–≤- —Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Є –ѓ—Б–µ–ї—М–і–µ –≤ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є365. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —Б–ї–µ–і—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–љ—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –љ–∞–Љ –≤ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–њ—А–µ–≤–∞–љ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є—Е –Є–Љ—П –Њ—В —А–µ–Ї–Є –°–њ—А–µ–≤—Л366.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –і–∞–љ–љ–Њ–µ –∞—А—Е–∞–Є—З–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Б–ї–∞–≤—П–љ –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ї –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г «—А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г» –Љ–Є—Д—Г –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–∞—А—Л, –і–∞–≤—И–µ–є –љ–∞—З–∞–ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–Њ–і—Г, –Є–Ј –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Х—Б–ї–Є –њ–Њ–њ—Л—В–∞—В—М—Б—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П, —В–Њ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Н—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л—В—М –Ї–∞–Ї —Н–њ–Њ—Е–∞ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–∞–Љ–∞—В–µ—А—М—О –ї—О–і–µ–є —Б—З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М –Њ–і–љ–∞ –Ь–∞—В—М –°—Л—А–∞ –Ч–µ–Љ–ї—П, —В–∞–Ї –Є —Н–њ–Њ—Е–∞ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –ї—О–і—П—Е –Ї–∞–Ї –і–µ—В—П—Е –Э–µ–±–∞ –Є –Ч–µ–Љ–ї–Є. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—О —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Љ–Є—Д–∞. –Х—Б–ї–Є —Н—В–Њ —В–∞–Ї, —В–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞ –і–∞–љ–љ—Л–є –Љ–Є—Д –±—Л–ї —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ –Ј–∞ —Б—З–µ—В –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –≤ –љ–µ–≥–Њ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞, –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—П –°–њ–Њ—А—Л—И–∞ —Г–ґ–µ –Ї–∞–Ї –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞ –Є –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–Њ—И–µ–ї –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–ї–∞–љ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –ї–Є—И—М —Б —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –љ–µ–Љ —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—Д–∞ –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б–ї–∞–≤—П–љ. –Я–Њ —Н—В–Њ–є –ґ–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –Є–Ј –Њ–±–Є—Е–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–∞–µ—В –Є —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Б–њ–Њ—А—Л, –≤—Л—В–µ—Б–љ—П–µ–Љ–Њ–µ –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –Я—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —З–µ–Љ—Г –µ–≥–Њ –µ—Й–µ —Г—Б–њ–µ–≤–∞–µ—В –Ј–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –≤ VI –≤. –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ–Є–є –Ъ–µ—Б–∞—А–Є–є—Б–Ї–Є–є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–∞–µ—В.
–І–µ—А–љ–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞
–Ъ–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ –≤–Њ—Б—М–Љ–Њ–є –≥–ї–∞–≤–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –Њ—В –Є–і–µ–Є –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—И–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї –Є–љ—Ж–µ—Б—В—Г –Ї–∞–Ї —Б—А–µ–і—Б—В–≤—Г –µ–≥–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, —А–∞–Ј –≤—Б—В—Г–њ–Є–≤ –љ–∞ –њ—Г—В—М –њ–Њ—В–∞–Ї–∞–љ–Є—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —В–µ–Љ–љ—Л–Љ –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В–∞–Љ, –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М, –∞ —Б—В–∞–ї–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞—В—М—Б—П –≤–Њ –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Б—В—А–∞—И–љ—Г—О —В—М–Љ—Г, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤—Б–µ —В—А—Г–і–љ–µ–µ –Є —В—А—Г–і–љ–µ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ–±–ї–Є–Ї. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –і–µ–≥—А–∞–і–∞—Ж–Є–Є —Б—В–∞–ї–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ —Б –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ–Є, —А–∞–Ј—А—Г—И–∞—О—Й–µ–µ –≥—А–∞–љ—М –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ. –Т—Л—И–µ —Г–ґ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Љ–Є—Д–∞ –Њ –±—А–∞–Ї–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л —Б–Њ –Ј–Љ–µ–µ–Љ. –Ъ–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї –Ѓ.–Ш. –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤, –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Я–Њ–ї–µ—Б—М–µ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ —З–µ—В—Л—А–µ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є «–Ь—Г–ґ-—Г–ґ». –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –Љ–Њ—В–Є–≤ —Б–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л —Б –Љ–µ–і–≤–µ–і–µ–Љ –Є–ї–Є –≤–Њ–ї–Ї–Њ–Љ, –∞ –≤ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є—Д–∞—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –Љ–Њ—В–Є–≤ –±—А–∞–Ї–∞ —Б –±—Л–Ї–Њ–Љ. –Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –≤ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ –Ї–∞–Ї –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е, —В–∞–Ї –Є –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—П –Є—Б—В–Њ–Ї–Є –Ї–µ–ї—М—В—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л, –†. –У—А–µ–є–≤—Б –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –µ–µ –ї–µ–ґ–Є—В –Ґ–µ–Љ–∞ — «–і—А–µ–≤–љ—П—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –≤ —В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є —З–∞—Б—В—П—Е —Б —Н–њ–Є–ї–Њ–≥–Њ–Љ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є, –ґ–Є–Ј–љ–Є, —Б–Љ–µ—А—В–Є –Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–Є –±–Њ–≥–∞ –Я—А–Є–±—Л–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –У–Њ–і–∞, –≥–і–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Г–і–µ–ї–µ–љ–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О –≤ –±–Є—В–≤–µ —Б –С–Њ–≥–Њ–Љ –£–±—Л–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –У–Њ–і–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ј–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Є –≤—Б–µ–≤–ї–∞—Б—В–љ–Њ–є –Ґ—А–Є–µ–і–Є–љ–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–Є, –Є—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є, –ґ–µ–љ—Л –Є —Г–±–Є–є—Ж—Л»367. –°–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –ї–Є—Ж–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –С–Њ–≥–Є–љ–Є –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є, –ґ–µ–љ—Л –Є —Г–±–Є–є—Ж—Л —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є, —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—Й–Є—Е—Б—П –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Љ—Г–ґ—М—П–Љ–Є –Є –ґ–µ—А—В–≤–∞–Љ–Є, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є –њ—Б–Є—Е–Њ–њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—Б–Є—Е–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±–µ–Ј–љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –≤—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–ї–∞—Б—М –≤ —Б–∞–Љ—Л–µ —В–µ–Љ–љ—Л–µ –±–µ–Ј–і–љ—Л –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, —А–µ–∞–ї–Є–Ј—Г—П —Б–≤–Њ–Є —Б–∞–Љ—Л–µ –Є–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Є —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–Є. –Ю—В–≥–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Є —Н—В–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –ґ–Є–≤—Г—З–Є –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –µ—Й–µ –≤ —И–∞–±–∞—И–∞—Е –≤–µ–і—М–Љ: «–Ь–∞–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Ј–µ–ї, –Ї–∞–Ї —П—Б–љ–Њ –Є–Ј –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≤–µ–і—М–Љ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—А—П–і–Њ–≤ –Є —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П Bukkerwise, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –Љ—Г–ґ–µ–Љ –±–Њ–≥–Є–љ–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –≤ –ґ–µ—А—В–≤—Г –Є –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–∞–ї–Є: —В–Њ –µ—Б—В—М –ґ—А–Є—Ж–∞ –±–Њ–≥–Є–љ–Є –њ—А–Є –≤—Б–µ—Е —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–ї—П–ї–∞—Б—М —Б —Ж–∞—А–µ–Љ –≥–Њ–і–∞, –Њ–і–µ—В—Л–Љ –≤ —И–Ї—Г—А—Г –Ї–Њ–Ј–ї–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –µ–≥–Њ —Г–±–Є–≤–∞–ї–Є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–∞–ї–Є –≤ –≤–Є–і–µ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞, –Є–ї–Є –ґ–µ –Ї–Њ–Ј–ї–∞ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –≤ –ґ–µ—А—В–≤—Г –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ–≥–Њ, –∞ –Њ–љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М»368. –†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П —А–∞–љ–љ–µ–Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—З–µ—Б–Ї—Г—О —А–µ–ї–Є–≥–Є—О –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –µ–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–є, –≠.–Ю. –С–µ—А–Ј–Є–љ —В–∞–Ї —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Г—О –≤ –µ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Г —Б—Е–µ–Љ—Г: «–Ъ–Њ—Б–Љ–Њ—Б –≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –і–µ–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞ —В—А–Є –Ј–Њ–љ—Л. –Т —Ж–µ–љ—В—А–µ –Љ–Є—А–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П (–Љ–µ–ґ–і—Г –љ–µ–±–Њ–Љ –Є –Ј–µ–Љ–ї–µ–є; —Н—В–∞ —Б—Е–µ–Љ–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–Є–і–љ–∞ –љ–∞ —А–Њ—Б–њ–Є—Б—П—Е —Б–Њ—Б—Г–і–Њ–≤) –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –С–Њ–≥–Є–љ—П-–Ь–∞—В—М. –Т–µ—А—Е–љ—П—П –Ј–Њ–љ–∞ — –љ–µ–±–Њ — –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –С—Л–Ї—Г-–°–Њ–ї–љ—Ж—Г, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Є—Б–µ–ї–Њ –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–µ—Б–љ—Л. –•–Њ–Ј—П–Є–љ–Њ–Љ –љ–Є–ґ–љ–µ–є –Ј–Њ–љ—Л — —А–µ–Ї, –Њ–Ј–µ—А –Є –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞, –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –≤–Њ–і — –±—Л–ї –Ч–Љ–µ–є. –Э–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Ж–Є–Ї–ї –≤ –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є–Є, –њ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ –љ–∞—И–Є—Е –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤, –Љ–Њ–≥ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є —Н—В–Є—Е —В—А–µ—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є. –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –±–Њ–≥–Є–љ—П –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –≤ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –±—А–∞–Ї —В–Њ —Б –С—Л–Ї–Њ–Љ-–°–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ, —В–Њ —Б–Њ –Ч–Љ–µ–µ–є-–Т–Њ–і–Њ–є, –Є –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Б–≤–µ—В –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –ї—О–і–Є, –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–µ –Є —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П. (...) –Т –Ї—Г–ї—М—В–Њ–≤–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є –С—Л–Ї–∞ –Є–ї–Є –Ч–Љ–µ—П –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –ґ—А–Є—Ж–∞ –Є–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞, –≤—Л–±—А–∞–љ–љ–∞—П –Њ–±—Й–Є–љ–Њ–є»369. –Ъ–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л —Б –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ —А–∞–љ–Њ. –£–ґ–µ –љ–∞ –≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–Ї–µ –љ–∞ —А–Њ–≥–µ –Њ–ї–µ–љ—П –Є–Ј —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А–Њ—В–∞ –Ы–Њ–ґ–µ—А–Є-–С–∞—Б—Б, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Ї —Н–њ–Њ—Е–µ –њ–∞–ї–µ–Њ–ї–Є—В–∞, –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ —Б—Ж–µ–љ—Г —Б–Њ–Є—В–Є—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л —Б –Ї–Њ–њ—Л—В–љ—Л–Љ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ, –њ–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, —Б –Њ–ї–µ–љ–µ–Љ370.
–Э–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П –≥—А–∞–љ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–Њ–ї–Њ–≤—Л–Љ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ, –і—А–µ–≤–љ–µ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–Њ –і–µ–ї–∞—В—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Є –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є –Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—В—М –≤ –њ–Є—Й—Г. –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–љ–љ–Є–±–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Б—В–∞–ї–∞ —Б—В–Є—А–∞—В—М—Б—П –≥—А–∞–љ—М –Љ–µ–ґ–і—Г –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ–Є —А–Њ–і–Є—З–∞–Љ–Є –Є —З—Г–ґ–∞–Ї–∞–Љ–Є. –Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ –≤ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ, –і–∞ –Є –≤ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ –Њ–±—А–∞–Ј —Б–µ—Б—В—А—Л-–ї—О–і–Њ–µ–і–Ї–Є. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ «–Т–µ–і—М–Љ–∞ –Є –°–Њ–ї–љ—Ж–µ–≤–∞ —Б–µ—Б—В—А–∞» –Ї–Њ–љ—О—Е –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–µ—В –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П: «–Ш–≤–∞–љ-—Ж–∞—А–µ–≤–Є—З! –£ —В–≤–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є —Б–Ї–Њ—А–Њ —А–Њ–і–Є—В—Б—П –і–Њ—З—М, –∞ —В–µ–±–µ —Б–µ—Б—В—А–∞; –±—Г–і–µ—В –Њ–љ–∞ —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П –≤–µ–і—М–Љ–∞, —Б—К–µ—Б—В –Є –Њ—В—Ж–∞, –Є –Љ–∞—В—М, –Є –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є.. .»371 –Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–∞—П —Б–µ—Б—В—А–∞-–ї—О–і–Њ–µ–і–Ї–∞ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Є –≤ –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Н–њ–Њ—Б–µ. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Е—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –С–∞–±—Л-—П–≥–Є –Ї–∞–Ї –ї—О–і–Њ–µ–і–Ї–Є –≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –µ—Й–µ –Є –Ы–Є—Е–Њ –Ю–і–љ–Њ–≥–ї–∞–Ј–Њ–µ, –Є, —З—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Њ–њ—П—В—М –≤ –≤–Є–і–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л: «–Ы–Є—Е–Њ –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П–µ—В—Б—П –≤ –љ–∞—И–Є—Е —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П—Е –±–∞–±–Њ–є-–≤–µ–ї–Є–Ї–∞–љ–Ї–Њ–є, –ґ–∞–і–љ–Њ –њ–Њ–ґ–Є—А–∞—О—Й–µ–є –ї—О–і–µ–є»372. –Ч–∞—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –µ—О –ї—О–і–µ–є –Њ–љ–∞ –ґ–∞—А–Є—В –≤ –њ–µ—З–Є, –∞ –≥–Њ—Б—В—П –њ–Њ—В—З—Г–µ—В –Њ—В—А—Г–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є.
–° —В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ –ї—О–і–µ–є —Б —Ж–µ–ї—М—О –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П —Б–µ–±—П –њ–Є—Й–µ–є —Б—В–∞–ї–Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –і–ї—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –≤ –Ј–∞–±–∞–≤—Г, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Г—О —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В—М –Є—Е —Б–∞–і–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В–Ї–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞ —Г —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —П–≤–љ–Њ–µ –≤—Л—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —Г –Њ—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е –±–µ–Ј—Г–і–µ—А–ґ–љ—Л–Љ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ—Г—З–∞—В—М –і—А—Г–≥–Є—Е –ї—О–і–µ–є –њ—А–µ—Б—В–∞—А–µ–ї—Л—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —А–µ–∞–ї–Є—П—Е —В–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є –і–∞—О—В –љ–∞–Љ –Ї–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ –±–µ–Ј—Г–Љ—Б—В–≤–∞—Е –і—А–µ–≤–љ–µ–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–∞–Ї—Е–∞–љ–Њ–Ї, —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞ —З–∞—Б—В–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, –љ–Њ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—В–µ–є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —Б —Д–Є–≤–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —Ж–∞—А–µ–Љ –Я–µ–љ—Д–µ–µ–Љ, —А–∞—Б—В–µ—А–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ —З–∞—Б—В–Є –ґ—А–Є—Ж–∞–Љ–Є –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–∞ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –µ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А—М—О –Р–≥–∞–≤–Њ–є. –Т —Б–≤–µ—В–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –Ґ. –Ь—Н–ї–Њ—А–Є «–°–Љ–µ—А—В—М –Р—А—В—Г—А–∞» –Љ–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Т–ї–∞–і—Л—З–Є—Ж–∞ –Ю–Ј–µ—А–∞, –њ—А–Є–±—Л–≤ –Ї –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–≤–Њ—А—Г, —Б—А–∞–Ј—Г —В—А–µ–±—Г–µ—В —Б–µ–±–µ –Њ–і–љ—Г, –∞ –µ—Й–µ –ї—Г—З—И–µ –і–≤–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л. –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –Є –µ—Й–µ –Њ–і–љ–∞ –Ї–Њ–ї–Њ—А–Є—В–љ–∞—П –Ј–∞—А–Є—Б–Њ–≤–Ї–∞: –њ–Њ–Ј–∞–≤–Є–і–Њ–≤–∞–≤ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–µ –Њ–і–љ–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Л, –і–≤–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Л-–≤–µ–і—М–Љ—Л –Њ–±—А–µ–Ї–ї–Є –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Г—О –Ј–∞–ґ–Є–≤–Њ –≤–∞—А–Є—В—М—Б—П –≤ –Ї–Є–њ—П—В–Ї–µ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—П—В–Є –ї–µ—В. –Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ы–∞–љ—Б–µ–ї–Њ—В –Є–Ј–±–∞–≤–Є–ї –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж—Г-–Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Г –Њ—В –Љ—Г—З–µ–љ–Є–є, –Њ–љ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ –µ–µ –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л—Е, —Г–±–Є–ї —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞, –Њ–±–Є—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–і –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Є—В–Њ–є. –Ь–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В –Є –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –±—Л–ї —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б —Н—В–Є–Љ —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ. –•–Њ—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В–Є –Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ —З—Г–ґ–µ—А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –≤ –Ї—Г—А—В—Г–∞–Ј–љ–Њ–Љ —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ, –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Њ–љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ—В–≥–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ—А–∞–≤–Њ–≤, –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —Ж–∞—А–Є–≤—И–µ–Љ –≤ –Ї–µ–ї—М—В—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ. –Э–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ї—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–і–љ—Л–Љ–Є –Є –њ—Г–≥–∞—О—Й–Є–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є–µ –±–Њ–≥–Є–љ–Є –Ъ–∞–ї–Є –Є –Ф—Г—А–≥–∞.
–Ґ–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ –Ї—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–і–љ—Л–Љ–Є –Є —Г–ґ–∞—Б–љ—Л–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Є —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Б–Ї–Є–µ –і–µ–≤—Л-–≤–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –≤–∞–ї—М–Ї–Є—А–Є–Є. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–Є—В–≤—Л –њ—А–Є –Ъ–ї–Њ–љ—В–∞—А–≤–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –≤–Є–Ї–Є–љ–≥–∞–Љ–Є –Є –Є—А–ї–∞–љ–і—Ж–∞–Љ–Є –≤ 1014 –≥. –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ф–∞—А—А—Г–і –±—Л–ї–Њ –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ: «–Ю–љ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –і–Њ–Љ—Г, –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г–ї –≤ –Њ–Ї–Њ—И–Ї–Њ –Є —Г–≤–Є–і–∞–ї, —З—В–Њ —В–∞–Љ –≤–љ—Г—В—А–Є —Б–Є–і—П—В –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Є —В–Ї—Г—В. –£ —Б—В–∞–љ–Ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –≥—А—Г–Ј–Є–ї –±—Л–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л, —Г—В–Ї–Њ–Љ –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –±—Л–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Є—И–Ї–Є, –љ–Є—В—М –њ–Њ–і–±–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Љ–µ—З–Њ–Љ, –∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Ї–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Є —Б—В—А–µ–ї—Л. –Ю–љ–Є –њ–µ–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –≤–Є—Б—Л:
–°–Њ—В–Ї–∞–љ–∞ —В–Ї–∞–љ—М,
–С–Њ–ї—М—И–∞—П, –Ї–∞–Ї —В—Г—З–∞,
–І—В–Њ–± –≤–Њ–Ј–≤–µ—Б—В–Є—В—М –Т–Њ–Є–љ–∞–Љ –≥–Є–±–µ–ї—М.
–Ю–Ї—А–Њ–њ–Є–Љ –µ–µ –Ї—А–Њ–≤—М—О.
–Э–∞–Ї—А–µ–њ–Ї–Њ —В–Ї–∞–љ—М,
–°—В–∞–ї—М–љ—Г—О –Њ—В –Ї–Њ–њ–Є–є,
–Ъ—А–Њ–≤–∞–≤—Л–Љ —Г—В–Ї–Њ–Љ –С–Є—В–≤—Л —Б–≤–Є—А–µ–њ–Њ–є –Ґ–Ї–∞—В—М –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л.
–°–і–µ–ї–∞–µ–Љ —В–Ї–∞–љ—М –Ш–Ј –Ї–Є—И–Њ–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З—М–Є—Е.
–Т–Љ–µ—Б—В–Њ –≥—А—Г–Ј–Є–ї –Э–∞ —Б—В–∞–љ–Ї–µ —З–µ—А–µ–њ–∞,
–Р –њ–µ—А–µ–Ї–ї–∞–і–Є–љ—Л —
–Ъ–Њ–њ—М—П –≤ –Ї—А–Њ–≤–Є.
–У—А–µ–±–µ–љ—М — –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є,
–°—В—А–µ–ї—Л — –Ї–Њ–ї–Ї–Є.
–С—Г–і–µ–Љ –Љ–µ—З–∞–Љ–Є –Ґ–Ї–∞–љ—М –њ–Њ–і–±–Є–≤–∞—В—М
(...) –Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ–Є —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–Є —Б–≤–µ—А—Е—Г –і–Њ–љ–Є–Ј—Г —Б–≤–Њ—О —В–Ї–∞–љ—М, –Є –њ–Њ—А–≤–∞–ї–Є –µ–µ –≤ –Ї–ї–Њ—З—М—П, –Є –Ї–∞–ґ–і–∞—П –Є–Ј –љ–Є—Е –≤–Ј—П–ї–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Г –љ–µ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —А—Г–Ї–µ. –Ф–∞—А—А—Г–і –Њ—В–Њ—И–µ–ї –Њ—В –Њ–Ї–Њ—И–Ї–∞ –Є –њ–Њ—И–µ–ї –і–Њ–Љ–Њ–є. –Р –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л —Б–µ–ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ–є –Є —Г—Б–Ї–∞–Ї–∞–ї–Є, —И–µ—Б—В–µ—А–Њ—–љ–∞ —О–≥ –Є —И–µ—Б—В–µ—А–Њ—–љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А»373. –Т –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В–Є —Б –љ–Є–Љ–Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є—З–∞—В—М –Є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–Є —О–ґ–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–∞ — —Б–∞–Љ–Њ–≤–Є–ї—Л. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–µ—Б–љ—П «–Ґ–µ—А–µ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–≤–Є–ї—Л» —В–∞–Ї –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –µ–µ –ґ–Є–ї–Є—Й–µ:
–Т–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ–≤–Є–ї–∞,
–Т–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–∞ —Б—В—А–Њ–є–љ—Л–є —В–µ—А–µ–Љ,
–Ь–µ–ґ–і—Г –љ–µ–±–Њ–Љ –Є –Ј–µ–Љ–ї–µ—О –Т–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–∞, –≤ —З–µ—А–љ—Л—Е —В—Г—З–∞—Е.
–Ъ–∞–Ї –Њ–љ–∞ —Б—В–Њ–ї–±—Л –≤–±–Є–≤–∞–ї–∞,
–І—В–Њ –љ–Є —Б—В–Њ–ї–± — —О–љ–∞–Ї –њ—А–Є–≥–Њ–ґ–Є–є,
–Ъ–∞–Ї –Ј–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–∞ —Б—В–µ–љ—Л,
–С—А–µ–≤–љ–∞ — –і–µ–≤—Л-–±–µ–ї–Њ–ї–Є—З–Ї–Є,
–Ъ–∞–Ї —Б—В—А–Њ–њ–Є–ї–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–Є–ї–∞ —
–І–µ—А–љ–Њ–≥–ї–∞–Ј—Л–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Ї–Є.
–Ъ—А—Л–ї–∞ –Ї—А–Њ–≤–ї—О, –љ–Њ –љ–µ —В–µ—Б–Њ–Љ,
–Р –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є –≥—А—Г–і–љ—Л–Љ–Є,
–Р —Б—В–∞—А—Г—И–Ї–Є –≤ –±–µ–ї—Л—Е —О–±–Ї–∞—Е –°—В–∞–ї–Є –Ї–Њ–ї—М—П–Љ–Є –Њ–≥—А–∞–і—Л,
–Р –і–≤–µ—А–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ—Б—П–Ї–∞–Љ–Є —
–°—В–∞—А—Ж—Л —Б –±–µ–ї–Њ–є –±–Њ—А–Њ–і–Њ—О.
–Э–Њ —Б–µ–Љ–Є–і–µ—Б—М—В–Є –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–µ–≤
–Э–µ–і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–і–Є–≤–µ,
–І—В–Њ–±—Л —Б–≤–Њ–є –і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М —В–µ—А–µ–Љ.
–Ш –њ–Њ—Б–ї–∞–ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ–≤–Є–ї–∞,
–Т –Я—А–∞—Б–Ї–Њ–≤–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј –њ–Њ—Б–ї–∞–ї–∞,
–Т –Я—А–∞—Б–Ї–Њ–≤–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–∞–Љ:
«–Ф–∞–є—В–µ, –њ—А–∞—Б–Ї–Њ–≤—Ж—Л, –Љ–љ–µ –≤—Л–±—А–∞—В—М –Т –ї—О–і–љ—Л—Е —Б–µ–ї–∞—Е –њ—А–Є–і—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Є—Е –°–µ–Љ—М–і–µ—Б—П—В –≥—А—Г–і–љ—Л—Е –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–µ–≤,
–І—В–Њ–±—Л —Б–≤–Њ–є –і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М —В–µ—А–µ–Љ!»374
–Ъ–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В –Э.–Ь. –У–∞–ї—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, —Г –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ —Б –≤–Є–ї–∞–Љ–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —З–µ–Љ-—В–Њ –і—Г—А–љ–Њ–Љ –Є –њ–Њ–Ј–Њ—А–љ–Њ–Љ: —З–µ—И. vila — «—Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–є», vilny — «—Б–ї–∞–і–Њ—Б—В—А–∞—Б—В–љ—Л–є, —А–∞—Б–њ—Г—В–љ—Л–є», –њ–Њ–ї—М—Б–Ї. wila — «—Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–є, –≥–ї—Г–њ–µ—Ж»; –≤ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ –≤–Є–ї–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є –і—Г—И–Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л—Е –і–µ–≤—Г—И–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ј–∞ –Є—Е –≥—А–µ—Е–Є —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –≤–µ—З–љ–Њ –љ–Њ—Б–Є—В—М—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–µ–±–Њ–Љ –Є –Ј–µ–Љ–ї–µ–є. –°–∞–Љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ –≤–Є–ї–∞, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Р.–Э. –Т–µ—Б–µ–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В –Є.-–µ. uel — «–≥–Є–±–љ—Г—В—М». –Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –Є –≤–∞–ї—М–Ї–Є—А–Є–є, –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї—Г—О –і–µ–≤—Г-–≤–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Г –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ —З–µ—И—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Я—А—И–µ–Љ—Л—Б–ї–∞, –њ—А–µ–і—А–µ–Ї–∞–≤—И–µ–µ –µ–Љ—Г —В—П–≥–Њ—В—Л –≤ –≥—А—П–і—Г—Й–µ–є –Ф–µ–≤–Є—З—М–µ–є –≤–Њ–є–љ–µ: «–Ш –≤–Њ—В –≤ –Ј–∞—А–µ–≤–µ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ —Г–Ј—А–µ–ї —П –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г. –Ш–Ј-–њ–Њ–і —И–ї–µ–Љ–∞ —Б–њ–∞–і–∞–ї–Є —Г –љ–µ–µ –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л; –≤ –Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–µ –і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –Љ–µ—З, –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є — —З–∞—И—Г. –Э–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –≤ –Ї—А–Њ–≤–Є –Є –≤–Њ –њ—А–∞—Е–µ —Г–±–Є—В—Л–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л. –Ъ–∞–Ї –±–µ–Ј—Г–Љ–љ–∞—П, –Љ–µ—В–∞–ї–∞—Б—М –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –Є –њ–Њ–њ–Є—А–∞–ї–∞ –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є. –Ч–∞—В–µ–Љ –љ–∞–±—А–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –Ї—А–Њ–≤–Є –њ–Њ–ї–љ—Г—О —З–∞—И—Г –Є, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —Е–Є—Й–љ–Њ–Љ—Г –Ј–≤–µ—А—О, —Б –љ–µ–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–є –ґ–∞–і–љ–Њ—Б—В—М—О —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Є—В—М –µ–µ»375.
–Т —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ «–Т–∞—Б–Є–ї–Є—Б–∞ –Я—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П» –С–∞–±–∞-—П–≥–∞ «–љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї —Б–µ–±–µ –љ–µ –њ–Њ–і–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–∞ –Є –µ–ї–∞ –ї—О–і–µ–є, –Ї–∞–Ї —Ж—Л–њ–ї—П—В», –∞ «–Є–Ј–±—Г—И–Ї–∞ —П–≥–Є-–±–∞–±—Л» –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї: «...–Ј–∞–±–Њ—А –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Є–Ј–±—Л –Є–Ј —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З—М–Є—Е –Ї–Њ—Б—В–µ–є, –љ–∞ –Ј–∞–±–Њ—А–µ —В–Њ—А—З–∞—В —З–µ—А–µ–њ–∞ –ї—О–і—Б–Ї–Є–µ —Б –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є; –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –і–≤–µ—А–µ–є —Г –≤–Њ—А–Њ—В — –љ–Њ–≥–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З—М–Є, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–∞–њ–Њ—А–Њ–≤ — —А—Г–Ї–Є, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ — —А–Њ—В —Б –Њ—Б—В—А—Л–Љ–Є –Ј—Г–±–∞–Љ–Є»376. –Т –і—А—Г–≥–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ — «–Ь–∞—А—М—П –Ь–Њ—А–µ–≤–љ–∞» — –С–∞–±–∞-—П–≥–∞ –ґ–Є–≤–µ—В –≤ —В—А–Є–і–µ—Б—П—В–Њ–Љ —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ, –Ј–∞ –Њ–≥–љ–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–Ї–Њ–є — –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є, –Њ—В–і–µ–ї—П—О—Й–µ–є –Љ–Є—А –ґ–Є–≤—Л—Е –Њ—В –Љ–Є—А–∞ –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е. –Т–Њ–Ј–ї–µ –µ–µ –і–Њ–Љ–∞ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —И–µ—Б—В–Њ–≤, –љ–∞ –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є —И–µ—Б—В–∞—Е –њ–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є, –љ–µ–Ј–∞–љ—П—В—Л–є, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В—Б—П –і–ї—П –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –Ш–≤–∞–љ–∞-—Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–∞, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –љ–µ —Г—Б—В–µ—А–µ–ґ–µ—В –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е —П–≥–µ –Ї–Њ–±—Л–ї. –Т–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞—Е –і–Њ–Љ –С–∞–±—Л-—П–≥–Є «—В—Л–љ–Њ–Љ –Њ–≥–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є, –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —В—Л—З–Є–љ–µ — –њ–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ». –Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–і —Н—В–Є–Љ–Є —Г–ґ–∞—Б–∞—О—Й–Є–Љ–Є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞–Љ–Є –њ—А–Є –≤—Б–µ–Љ –Є—Е –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–Є –Є–Љ–µ–ї–∞—Б—М —А–µ–∞–ї—М–љ–∞—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –∞–љ–≥–µ–ї–∞ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Є –µ–µ –і–Њ—З–µ—А–µ–є –Ш–±–љ-–§–∞–і–ї–∞–љ–Њ–Љ –µ—Й–µ –≤ X –≤.
–Т –і–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г —Г –і–∞–љ–љ—Л—Е —Д—Г—А–Є–є –њ—А–Њ–њ–∞–ї –і–∞–ґ–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В –ї–Є–±–Њ –ґ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї –Є–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л. –Т—Л—И–µ —Г–ґ–µ –≤ —Н—В–Њ–є –≥–ї–∞–≤–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї—Б—П –њ—А–Є–Љ–µ—А –Ї–µ–ї—М—В—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –≥–і–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –С–Њ–≥–Є–љ—П –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –±—Л–ї–∞ –Љ–∞—В–µ—А—М—О, –ґ–µ–љ–Њ–є –Є —Г–±–Є–є—Ж–µ–є —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є. –Ш –і–∞–љ–љ—Л–є –њ—А–Є–Љ–µ—А –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ–і–Є–љ–Є—З–љ—Л–Љ. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞ –±—А–∞—В—М–µ–≤ –У—А–Є–Љ–Љ «–Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –±—А–∞—В—М–µ–≤» –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П: «–Ц–Є–ї–Є –і–∞ –±—Л–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ–ї—М —Б –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–Њ–є; –ґ–Є–ї–Є –Њ–љ–Є –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Є –Є –њ—А–Є–ґ–Є–ї–Є –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–µ—В–µ–є, –Є –≤—Б–µ –±—Л–ї–Є –Љ–∞–ї—М—З—Г–≥–∞–љ—Л. –Т–Њ—В –Ї–Њ—А–Њ–ї—М –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–µ: “–Х—Б–ї–Є —В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В—Л–є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В—Л —А–Њ–і–Є—И—М, –±—Г–і–µ—В –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞, —В–Њ –≤—Б–µ—Е –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–µ–Ї –≤–µ–ї—О —Г–±–Є—В—М, —З—В–Њ–±—Л –Є –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞ —Г –љ–µ–є –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ, –Є –≤—Б–µ –љ–∞—И–µ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б—В–≤–Њ –µ–є –Њ–і–љ–Њ–є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ’’»377. –Ю—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є –љ–µ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ. –Ъ–Њ—А–Њ–ї—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Е–Њ—В–µ—В—М—Б—П –Є–Љ–µ—В—М –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б—Л–љ–∞ — –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В–µ–ї—П —А–Њ–і–∞ –Є –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є –Њ–љ –≥–Њ—В–Њ–≤ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–±–Є—В—М –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –і–Њ—З–µ—А–Є. –Т —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –і–Њ—З—М, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –≤—Б–µ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б—В–≤–Њ, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≤—Л—И–ї–∞ –±—Л –Ј–∞–Љ—Г–ґ, —В–Њ –≤—Б–µ –µ–µ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ –Є —В—А–Њ–љ —Б—В–∞–ї–Є –±—Л –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В—М –µ–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ—Г –Љ—Г–ґ—Г. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –≤—Б–µ—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–є –≤ —А—Г–Ї–Є –Ј—П—В—П –±—Л–ї –±—Л –і–ї—П –Ї–Њ—А–Њ–ї—П –Љ–µ–љ–µ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї–µ–љ, —З–µ–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Є—Е –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –µ–≥–Њ —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞. –Ш —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ї–Њ—А–Њ–ї—М- –Њ—В–µ—Ж –≥–Њ—В–Њ–≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—А—Г—З–љ–Њ –њ—А–µ—Б–µ—З—М —Б–≤–Њ–є —А–Њ–і –њ–Њ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є, –ї–Є—И—М –±—Л –≤—Б–µ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –µ–≥–Њ –і–Њ—З–µ—А–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–∞—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П, –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –Њ–±—А–∞—В–Є–Љ—Б—П –Ї –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–Њ—А–≤–µ–ґ—Б–Ї–Њ–є —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—Й–µ–є —В–Њ—В –ґ–µ —Б—О–ґ–µ—В. –Т –љ–µ–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ, –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї —Г –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Л –Ї–∞–њ–ї—П –Ї—А–Њ–≤–Є –Є–Ј –љ–Њ—Б–∞ —Г–њ–∞–ї–∞ –љ–∞ —Б–љ–µ–≥, –Њ–љ–∞ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–∞ –Є–Љ–µ—В—М –і–Њ—З—М –±–µ–ї—Г—О –Ї–∞–Ї —Б–љ–µ–≥ –Є –Ї—А–∞—Б–љ—Г—О –Ї–∞–Ї –Ї—А–Њ–≤—М. –Ч–∞ —Н—В–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–∞ –Њ—В–і–∞—В—М –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є. –Ґ—А–Њ–ї–ї–Є—Е–∞,
—Б–≤–µ—А—Е—К–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–∞, –Њ–±–µ—Й–∞–µ—В –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –µ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Є, –њ–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –Ј–∞–±–µ—А–µ—В –µ–µ —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ—З—М –Њ–Ї—А–µ—Б—В—П—В378. –Т –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –≤—Б–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є –Љ–µ—Б—В–∞: –і–Њ—З—М –ґ–µ–ї–∞–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–∞, –∞ –љ–µ –Ї–Њ—А–Њ–ї—М, –Є –і–ї—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–∞—В—М –≥–Њ—В–Њ–≤–∞ –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤—Б–µ–Љ–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П–Љ–Є. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –µ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Њ–±–µ—Й–∞–µ—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ —Б–≤–µ—А—Е—К–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ. –Т—Б–µ —Н—В–Є —Д–∞–Ї—В—Л –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є —Б—О–ґ–µ—В –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –∞ –љ–µ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –≠—В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В —Б—В–Њ–ї—М —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—В–і–∞–µ—В—Б—П –і–µ–≤–Њ—З–Ї–µ –њ–µ—А–µ–і –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М—О —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В—М—О –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є –≤ –ґ–µ—А—В–≤—Г, –ї–Є—И—М –±—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–∞ –Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї –≤ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ, –Њ–±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–Є—В—М –µ–µ –њ—А–∞–≤–∞ –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –≤ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г. –Т —Б—А–µ–і–љ–µ–і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–Є—Й–µ –Ј–∞—А—Г–±–Є–љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –њ–Њ–і —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –С–∞–±–Є–љ–∞ –≥–Њ—А–∞, –і–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–µ I –≤. –і–Њ –љ.—Н. — I –≤. –љ.—Н. –Э–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–Љ —Е–Њ–ї–Љ–µ –±—Л–ї —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–∞–љ –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –Ї–∞–Ї —В—А—Г–њ–Њ—Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є—П, —В–∞–Ї –Є —В—А—Г–њ–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —В–Њ, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–Љ —Ж–µ–ї—Л—Е 25 % –≤—Б–µ—Е —В—А—Г–њ–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П –Љ–ї–∞–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —З–µ—А–µ–њ–Њ–≤ –±–µ–Ј —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—П. –С.–Р. –†—Л–±–∞–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л —Н—В–Є—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Ї —Б —В–µ–Љ–Є –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –ґ–µ—А—В–≤–Њ–њ—А–Є–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–µ–≤379. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –≥–Њ—А–Њ–і–Є—Й–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤—Г, –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є–ї–Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –≤ –ґ–µ—А—В–≤—Г –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж—Л. «–Ц–Є—В–Є–µ –Ї–љ—П–Ј—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ –Ь—Г—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ», –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—П—П –њ–Њ–±–µ–і—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞, –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В: «–Ю —В–ђ–Љ—К –ґ–µ –њ—А–µ—Б—В–∞—И–∞ –Њ—В—Ж—Л –і–ђ—В–µ–є –Ј–∞–Ї–∞–ї–∞—В–Є –љ–∞ –ґ–µ—А—В–≤—Г –±–™—Б–Њ–Љ—К –Є —Б–Ї–≤–µ—А–љ–∞–≥–Њ –Ь–Њ–∞–Љ–µ–і–∞ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ—К –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М, —А–™–Ї–∞–Љ—К –Є –µ–Ј–µ—А–Њ–Љ—К —В—А–µ–±—Л –Ї–ї–∞—Б—В–Є.. .»380 –Х—Б–ї–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ –Ь–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞, –≤ —З–µ–Љ –∞–≤—В–Њ—А –ґ–Є—В–Є—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –±–µ–Ј–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–Є–ї —П–Ј—Л—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, —В–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –і–µ—В–µ–є –≤ –ґ–µ—А—В–≤—Г –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г–µ—В —Б –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ–Љ —А–µ–Ї –Є –Њ–Ј–µ—А, –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤—Л—И–µ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ. –Р—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А—Г —Н–њ–Њ—Е–Є –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–µ –Є –і–∞–ґ–µ –≤–∞–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –і–Њ–љ–Њ—Б–Є—В –і–Њ –љ–∞—Б –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А –Њ—В –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–љ–µ–≤–∞: «–Ч–∞–≥–љ–µ–≤–Є–ї–∞—Б—М –Љ–Њ—П —А–Њ–і–Є–Љ–∞—П –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞, –ї–Њ–Љ–∞–ї–∞ –Љ–љ–µ –Ї–Њ—Б—В–Є, —Б—З–Є–њ–∞–ї–∞ –Љ–Њ–µ —В–µ–ї–Њ, —В–Њ–њ—В–∞–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –≤ –љ–Њ–≥–∞—Е, –њ–Є–ї–∞ –Љ–Њ—О –Ї—А–Њ–≤—М»381.
–°–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ —Н—В–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –Љ–µ—Б—В–Њ —Г–ґ–µ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –њ–Њ–љ–µ–≤–Њ–ї–µ —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ –≥–ї–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П —А–Њ–ї—М –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –Ї–∞–Ї –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, —В–∞–Ї –Є –≤ —Б—Д–µ—А–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є. –І—В–Њ –ґ–µ –±—Л–ї–Њ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Љ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е —Г –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤–ї–∞—Б—В—М, –Ї–∞–Ї –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, —В–∞–Ї –Є –≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А–µ, –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –Є—Е –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П? –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–ї—Г–Њ–±–µ–Ј—Г–Љ–µ–≤—И–Є—Е –ґ—А–Є—Ж, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ–±–Њ—Б—В—А–µ–љ–Є—П —Г –љ–Є—Е –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤, –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ —Ж–∞—А–Є–ї —Г–ґ–∞—Б, —Г–ґ–∞—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Ї–Њ–љ—Ж–∞.
–Ь.–Ы. –°–µ—А—П–Ї–Њ–≤
–Ш–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є «–Ф—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ —Б–ї–∞–≤—П–љ»
–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П
163 –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–і–Њ—А. –Ь–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞. –Ы., 1972, —Б. 8.
164 –Р—А–∞—В. –ѓ–≤–ї–µ–љ–Є—П // –Э–µ–±–Њ, –љ–∞—Г–Ї–∞, –њ–Њ—Н–Ј–Є—П: –∞–љ—В–Є—З–љ—Л–µ –∞–≤—В–Њ—А—Л –Њ –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л—Е —Б–≤–µ—В–Є–ї–∞—Е. –Ь., 1992, —Б. 45.
163 –У–Є–≥–Є–љ. –Ь–Є—Д—Л. –°–Я–±., 2000, —Б. 73.
166 –Ь–∞—В–µ—А—М –Ы–∞–і–∞. –Ь., 2004, —Б. 379.
167 –Ґ–∞–є–ї–Њ—А –≠.–С. –Я–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞. –Ь., 1989, —Б. 172.
168 http://grail.chudoforum.ru/forum-f5/tema-t616.htm
169 –С–µ–ї–Њ–≤–∞ –Ю.–Т. –Ю—А–Є–Њ–љ // –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ. 3. –Ь., 2004, —Б. 560—561.
170 –†—Г—В –Ь.–≠. –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—П. –°–≤–µ—А–і–ї–Њ–≤—Б–Ї, 1987, —Б. 20.
171 –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤ –Р.–Э. –Я–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П... –Ґ. 3. –Ь., 1869, —Б. 209.
172 –У–µ–ї—М–Љ–Њ–ї—М–і. –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–∞—П —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–∞. –Ь., 1963, —Б. 129.
173 –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤ –Т.–Р. –Я–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ. –°–Я–±., 2008, —Б. 225.
174 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 206.
175 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 43.
176 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 117.
177 –Р–љ–Є—З–Ї–Њ–≤ –Х.–Т. –ѓ–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є –і—А–µ–≤–љ—П—П –†—Г—Б—М. –°–Я–±., 1914, —Б. 385.
178 –Ы—Г–љ–∞, —Г–њ–∞–≤—И–∞—П —Б –љ–µ–±–∞. –Ь., 1977, —Б. 214.
179 –Я–°–†–Ы. –Ґ. 3, –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–∞—П –њ–µ—А–≤–∞—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –Є –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ –Є–Ј–≤–Њ–і–Њ–≤. –Ь. 2000. –°. 55.
180 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 98.
181 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 379.
182 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 384.
183 –Ь–∞—В–µ—А—М –Ы–∞–і–∞. –Ь. 2004. —Б. 346.
184 –Т–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–Њ–≤–∞ JI.H. –Ч–Є–Љ–љ—П—П –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А–љ–∞—П –њ–Њ—Н–Ј–Є—П –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ. –Ь., 1982, —Б. 194.
183 –Ѓ–љ–≥ –Ъ.–У. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В–Є–њ—Л. –°–Я–±., 2001, —Б. 330.
186 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 325.
187 –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ –Т.–Ь. –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П —А–µ–Ј—М–±–∞ –Є —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М –њ–Њ –і–µ—А–µ–≤—Г XVIII—XX –≤–≤. –Ь., 1960, —Б. 36.
188 –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –і—А–µ–≤–љ–µ–є –†—Г—Б–Є. –Ъ–Њ–љ–µ—Ж XV—–њ–µ—А–≤–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ XVI –≤–µ–Ї–∞. –Ь. 1984. —Б. 641,643.
189 –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –°.–Т. –Э–µ—З–Є—Б—В–∞—П, –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ–∞—П –Є –Ї—А–µ—Б—В–љ–∞—П —Б–Є–ї–∞. –°–Я–±., 1903, —Б. 516.
190 –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ–Є–є –Є–Ј –Ъ–µ—Б–∞—А–Є–Є. –Т–Њ–є–љ–∞ —Б –≥–Њ—В–∞–Љ–Є. –Ь., 1950, —Б. 297.
191 –Т–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–Њ–≤–∞ JI.H. –Ь–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В –њ–Њ–ї–µ—Б—Б–Ї–Њ–є «—А—Г—Б–∞–ї—М–љ–Њ–є» —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є // –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–є –Є –±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А. –Ь. 1986. —Б. 101.
192 –У–∞–ї—К–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Э–Ь'. –С–Њ—А—М–±–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞... –Ґ. 1, –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤, 1916, —Б. 8.
193 –У–∞–ї—К–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Э. –С–Њ—А—М–±–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞... –Ґ. 2 // –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А¬—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞. –Ь., 1913. –Ґ. 18, —Б. 23.
194 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 24.
195 –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–є –У. –Ш–Ј –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –і—А–µ–≤–љ–µ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є–є // –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –њ—А–Є –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ. –Ґ. 34. –Т—Л–њ. 3—4. –Ъ–∞–Ј–∞–љ—М, 1929, —Б. 8.
196 –†—Л–±–∞–Ї–Њ–≤ –С. –Р. –ѓ–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –†—Г—Б–Є. –Ь. 1988. –°. 437.
197 –§–∞—Б–Љ–µ—А –Ь. –≠—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М... –Ь., 1967. –Ґ. 2, —Б. 640.
198 –У–∞–ї—К–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Э. –С–Њ—А—М–±–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞... –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤, 1916. –Ґ. 1, —Б. 33.
199 –®–Є–љ–і–Є–љ –°.–У. –Ь–Є—Д –Њ —Б–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Љ–Є—А–∞ –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А—Л // –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—П –Р–Э –Ы–∞—В–≤–Є–є—Б–Ї–Њ–є –°–°–†.—1989.—вДЦ 10, —Б. 78.
200 –У–∞–ї—К–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Э.–Ь. –С–Њ—А—М–±–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞... –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤, 1916. –Ґ. 1, —Б. 165.
201 –§–∞—Б–Љ–µ—А –Ь. –≠—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М... –Ь., 1967. –Ґ. 2, —Б. 640.
202 –Ґ–Њ–Ї–∞—А–µ–≤ –°.–Р. –†–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ XIX — –љ–∞—З–∞–ї–∞ XX –≤. –Ь., 1957, —Б. 120.
203 –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –°.–Т. –Э–µ—З–Є—Б—В–∞—П, –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ–∞—П –Є –Ї—А–µ—Б—В–љ–∞—П —Б–Є–ї–∞. –°–Я–±., 1903, —Б. 514.
204 –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤ –Р.–Э. –Я–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П... –Ґ. 1. –Ь., 1865, —Б. 233.
205 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 233.
206 –Т–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–Њ–≤ –Т. –Ч–∞–≥–Њ–≤–Њ—А—Л, –Њ–±–µ—А–µ–≥–Є, —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –Є –њ—А–Њ—З. –°–Я–±., 1908. –Т—Л–њ. 1, —Б. 66.
207 –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤ –Р.–Э. –Я–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П... –Ґ. 1. –Ь., 1865, —Б. 240.
208 –У–∞–ї—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Э.–Ь. –С–Њ—А—М–±–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞... –Ґ. 1. –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤, 1916, —Б. 56.
209 –Ы–µ–≥–µ–љ–і—Л i –њ–∞–і–∞–љ–љ—М –Ь—И—Б–Ї, 1983, —Б. 37.
2.0 –§–µ–і–Њ—В–Њ–≤ –У –°—В–Є—Е–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ. –Ь., 1991, —Б. 69—70.
2.1 –Ы–µ–ї–µ–Ї–Њ–≤ –Ы –Ы. –°–њ–∞–љ–і–∞—А–Љ–∞—В // –Ь–Є—Д—Л –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞. –Ґ. 2. –Ь., 1992, —Б. 466.
212 –°–Њ–±–Њ–ї–µ–≤ –Р.–Э. –Ь–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—П —Б–ї–∞–≤—П–љ. –Ч–∞–≥—А–Њ–±–љ—Л–є –Љ–Є—А –њ–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ. –°–Я–±., 2000, —Б. 72.
2.3 –Ъ–Њ–Љ–∞—А–Њ–≤–Є—З BJI. –Ъ—Г–ї—М—В —А–Њ–і–∞ –Є –Ј–µ–Љ–ї–Є –≤ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і–µ XI—–•–Я1 –≤–≤. // –Ґ–Ю–Ф–†–Ы, 1960. –Ґ. 16, —Б. 99.
2.4 –§–µ–і–Њ—В–Њ–≤ –У. –°—В–Є—Е–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ. –Ь., 1991, —Б. 75—76.
2.5 –Ч–∞–±–Є—П–Ї–Њ –Р–Ц –Ъ–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П —Б–≤—П—В–Њ—Б—В–Є. –°—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –ї–Є–љ–≥–≤–Њ-—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є. –Ь., 1998, —Б. 151.
2.6 –†—Л–±–∞–Ї–Њ–≤ –С.–Р. –°—В—А–Є–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Є. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—Б—В—Л XIV —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П. –Ь., 1993, —Б. 98.
217 –§–µ–і–Њ—В–Њ–≤ –У. –°—В–Є—Е–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ. –Ь., 1991, —Б. 72.
218 –Ю–љ—З—Г–Ї–Њ–≤ –Э. –Ю —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–µ –љ–∞ –љ–Є–Ј–Њ–≤–Њ–є –Я–µ—З–µ—А–µ // –Ц–Є–≤–∞—П —Б—В–∞—А–Є–љ–∞, 1901. –Т—Л–њ. 3—4, —Б. 438.
2,9 –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–є —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А. –Ь., 1987, —Б. 146.
220 –С—Г—Б–ї–∞–µ–≤ –§.–Ш. –°–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П. –Ґ. 2. –°–Я–С., 1910, —Б. 188.
221 –§–µ–і–Њ—В–Њ–≤ –У. –°—В–Є—Е–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ. –Ь., 1991, —Б. 78.
222 –С–µ–ї–Њ–≤–∞ –Ю.–Т. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є // –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ. 3. –Ь., 2004. —Б. 399.
223 –С–µ–ї–Њ–≤–∞ –Ю.–Т., –Т–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–Њ–≤–∞ –Ы.–Э., –Ґ–Њ–њ–Њ—А–Ї–Њ–≤ –Р.–Ы. –Ч–µ–Љ–ї—П//–°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ. 2. –Ь., 1999, —Б. 316.
224 –Ь–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї, 1987, —Б. 101.
225 –§–µ–і–Њ—В–Њ–≤ –У. –°—В–Є—Е–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ. –Ь., 1991, —Б. 56.
226 –≠–°–°–ѓ. –Ь., 1990. –Т—Л–њ. 17, —Б. 257.
227 –°–ї–Њ–≤–∞—А—М –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞. –Ь., 1991. –Ґ. 4, —Б. 513.
228 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 254.
229 –Ф–∞–љ–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ –Т.–Э. –≠–љ–µ–Њ–ї–Є—В –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л. –Ъ–Є–µ–≤, 1974, —Б. 119.
230 –Ш–ї–ї–Є—З-–°–≤–Є—В—Л—З –Т.–Ь. –Ю–њ—Л—В —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—П –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤. –Ґ. 1. –Ь., 1971, —Б. 220.
231 –Ь–µ—А–Ї—Г–ї–Њ–≤–∞ –Т.–Р. –Ю—З–µ—А–Ї–Є –њ–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–Њ–Љ–µ–љ–Ї–ї–∞—В—Г—А–µ —А–∞—Б¬—В–µ–љ–Є–є. –Ь. 1967. —Б. 77.
232 –У–∞—В—Л –Ч–∞—А–∞—В—Г—И—В—А—Л. –°–Я–±., 2009, —Б. 175.
233 –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –Т.–Т. –Ч–∞–Љ–µ—В–Ї–Є –Њ —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є¬—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є // –Ґ—А—Г–і—Л –њ–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞–Љ. –Ґ. 4. –Ґ–∞—А—В—Г, 1969.
234 –С–µ–љ–≤–µ–љ–Є—Б—В –≠. –°–ї–Њ–≤–∞—А—М –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤. –Ь., 1995, —Б. 345.
233 –Ґ–Њ–њ–Њ—А–Њ–≤ –Т.–Э. –Р—Б—Г—А—Л // –Ь–Є—Д—Л –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞. –Ґ. 1. –Ь. 1991, —Б. 118.
236 –Ь–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Х.–Р. –°–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Б–Ї–Є–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є. –Ь., 1977, —Б. 121.
237 –Ь–∞—В—М–µ–Ь.–≠. –Ш–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л–µ —В—А—Г–і—Л... –Ь., 1996, —Б. 267.
238 –С–∞–і–ґ –≠.–Р. –£. –Х–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е. –°–Я–±., 2011, —Б. 152.
239 –Ь–∞—В—М–µ –Ь.–≠. –Ш–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л–µ —В—А—Г–і—Л... –Ь., 1996, —Б. 197.
240 –Ь–∞—В—М–µ –Ь.–≠. –Ф—А–µ–≤–љ–µ–µ–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Љ–Є—Д—Л. –Ь.—–Ы., 1956, —Б. 54.
241 –Ґ—Г—А–∞–µ–≤ –С.–Р. –Х–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–∞—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞. –Ґ. 1. –Ь., 1920, —Б. 181.
242 –Ъ–ї–Њ—З–Ї–Њ–≤ –Ш.–°. –Р—И—И—Г—А// http://www.colecta.ru/select.php7idfsl655
243 –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–є —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А. –Ь., 1987, —Б. 39.
244 –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є –Р. –Э. –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–∞. –Ґ. 1. –Ь., 1984, —Б. 127—132.
243 –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤ –Р.–Э. –Я–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П... –Ґ. 1. –Ь., 1865, —Б. 573.
246 –С–∞–љ–і—В–Ї–µ –У.–°. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ґ. 1, –°–Я–±., 1830, —Б. 58.
247 –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤–∞ –Т.–Ъ. –Т–µ—Б–µ–љ–љ–µ-–ї–µ—В–љ–Є–µ –Њ–±—А—П–і—Л... –Ь., 1979, —Б. 231.
248 –©–∞–≤–µ–ї–µ–≤ –Р. –°. –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –ї–µ–≥–µ–љ–і—Л –Њ –њ–µ—А–≤—Л—Е –Ї–љ—П–Ј—М—П—Е. –Ь., 2007, —Б. 141—142.
249 –У–Њ–ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Х. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Ґ. 1. –Ь., 1901, —Б. 636.
230 –У–∞—А–Ї–∞–≤–Є –Р.–ѓ. –°–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є –Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ–∞—Е –Є —А—Г—Б¬—Б–Ї–Є—Е. –°–Я–±., 1870, —Б. 99—100.
231 –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤ –Р.–Э. –Я–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П... –Ґ. 3. –Ь., 1869, —Б. 455—456.
232 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 455.
253 –Ъ–Њ–Ј—М–Љ–∞ –Я—А–∞–ґ—Б–Ї–Є–є. –І–µ—И—Б–Ї–∞—П —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–∞. –Ь., 1962, —Б. 36—37.
254 –Ґ–∞—Ж–Є—В –Ъ. –°–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –≤ 2 —В–Њ–Љ–∞—Е, —В. 1. –Р–љ–љ–∞–ї—Л. –Ь–∞–ї—Л–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ы., 1970, —Б. 357.
255 –Х–≤—А–Є–њ–Є–і. –Ґ—А–∞–≥–µ–і–Є–Є. –Ґ. 2. –Ь., 1999, —Б. 415.
256 –С–Њ–є –љ–∞ –Ї–∞–ї–Є–љ–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–Њ—Б—В—Г. –Ы., 1985, —Б. 291.
257 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 54.
258 –Т–µ—Б–µ–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Р.–Э. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Є –≤–Є–ї—М—В–Є–љ—Л –≤ —Б–∞–≥–µ –Њ –Ґ–Є–і—А–Є–Ї–µ –С–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–Љ // –Ш–Ю–†–ѓ–°. 1906. –Ґ. 11, –Ї–љ. 3, —Б. 187—188.
259 –†—Л–±–∞–Ї–Њ–≤ –С.–Р. –ѓ–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–Њ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ. –Ь., 1981, —Б. 190.
260 –Ф–µ–Љ–Є–і–Њ–≤–Є—З –Я. –Ш–Ј –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б–Њ–≤ // –≠–Ю, 1896, вДЦ 1, —Б. 118.
261 –Т–∞—Б–Є–ї–µ–љ–Ї–Њ –Т.–Ь. –Ю–±—А–∞–Ј –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞-–Ј–Љ–Є—П –≤ –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–≤—И–∞—Е // –Ф—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Б–ї–∞–≤—П–љ –Є –†—Г—Б–Є. –Ь., 1978, —Б. 330.
262 –Т–µ–ї–µ—Ж–Ї–∞—П –Э.–Э. –ѓ–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ї–∞... –Ь., 1976, —Б. 35.
263 –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤ –Р.–Э. –Я–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П... –Ґ. 2. –Ь., 1868, —Б. 551.
264 –§–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Њ–≤ –Р. –Р. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ї –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л —О–≥–∞ –°–°–°–† // –°–Р, 1958, вДЦ 2, —Б. 141.
265 –Р—А—В–∞–Љ–Њ–љ–Њ–≤ –Ь.–Ш. –Ъ–Є–Љ–Љ–µ—А–Є–є—Ж—Л –Є —Б–Ї–Є—Д—Л. –Ы., 1974.
266 –°–Ї–∞–Ј–Ї–Є –Є –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П –°–∞–Љ–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П, —Б–Њ–±—А. –Є –Ј–∞–њ. –Ф.–Э. –°–∞–і–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ. –°–Я–±., 1884, —Б. 363.
267 –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤ –Х.–†. –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї. –Ґ. 1. –Т—Л–њ. 1—2. –Ъ–Є–µ–≤, 1885, —Б. 369.
268 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 370.
269 –Ь–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ь.–Ь. –°—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М... –Ь., 1996, —Б. 178.
270 –Ш–ї–ї–Є—З-–°–≤–Є—В—Л—З –Т.–Ь. –Ю–њ—Л—В —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—П –љ–Њ—Б—В—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤. –Ґ. 1. –Ь., 1971, —Б. 308.
271 –§–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Њ–≤ –Р.–Р. –Ю—З–µ—А–Ї–Є –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г. –Ь., 1969, —Б. 145—146.
272 –Я–Њ–њ–Њ–≤ –Ы. –Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –њ–Є—В–Њ–љ —А–∞—Б–Ї—А—Л–ї —Б–µ–Ї—А–µ—В —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ї—Г–ї—М—В–∞ –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї–µ // http://www.membrana.ru/particle/592
273 –ѓ–Ї–Њ–±—Б–Њ–љ –†. –†–Њ–ї—М –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –≤ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–Є¬—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є // VII –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –Ї–Њ–љ–≥—А–µ—Б—Б –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є¬—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї. –Ґ. 5. –Ь., 1970, —Б. 609.
274 –§–∞—Б–Љ–µ—А–Ь. –≠—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М... –Ґ. 3. –Ь., 1971, —Б. 491.
275 –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –Т.–Т., –Ґ–Њ–њ–Њ—А–Њ–≤ –Т.–Э. –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–∞—П –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—П // –Ь–Є—Д—Л –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞. –Ґ. 2. –Ь. 1992, —Б. 454.
276 –Ь–∞—В–µ—А—М –Ы–∞–і–∞. –Ь., 2004, —Б. 386.
277 –Ъ–Њ–Љ–∞—А–Њ–≤–Є—З –Т.–Ы. –Ъ—Г–ї—М—В —А–Њ–і–∞... //–Ґ–Ю–Ф–†–Ы, 1960. –Ґ. 16, —Б. 104.
278 –Ъ–∞–±–∞–Ї–Њ–≤–∞ –У.–Ш., –Ґ–Њ–ї—Б—В–∞—П –°–Ь. –Ч–∞—З–∞—В–Є–µ // –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ. 2. –Ь., 1999, —Б. 282.
279 –Р–≥–∞–њ–Ї–Є–љ–∞ –Ґ.–Р. –Ф–µ—А–µ–≤–Њ // –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ. 2. –Ь., 1999, —Б. 63.
280 –Я–°–†–Ы. –Ґ. 3. –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–∞—П –њ–µ—А–≤–∞—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –Є –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ –Є–Ј–≤–Њ–і–Њ–≤. –Ь., 2000, —Б. 76.
281 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 400-401.
282 –Ґ–Њ–ї—Б—В–∞—П –°.–Ь. –Ф—Г—И–∞ // –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ. 2. –Ь., 1999, —Б. 166.
283 –Т–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–Њ–≤–∞ –Ы.–Э–£—Б–∞—З–µ–≤–∞ –Т.–Т. –Ч–µ–ї–µ–љ—М // –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ. 2. –Ь., 1999, —Б. 311.
284 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 311.
285 –≠–°–°–І. –Т—Л–њ. 3. –Ь., 1976, —Б. 104.
286 –Ґ–Њ–ї—Б—В–∞—П –°.–Ь. –Ф—Г—И–∞ // –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ. 2. –Ь., 1999, —Б. 166.
287 –Т–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–Њ–≤–∞ –Ы.–Э. –Ь–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В... // –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–є –Є –±–∞–ї¬–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А. –Ь., 1986. —Б. 127.
288 £–∞/–≥–і–µ –Ы.–Т. –Ю —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ –Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –Ї—Г–њ–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—А—П–і–Њ–≤ –Є –Є–≥—А–Є—Й // –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–Є–≤, 1911, –Ї–љ. 3, —Б. 24—25.
289 –Ъ–∞—А—Б–Ї–Є–є –Х.–§. –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Л. –Ґ. 3, —З. 1. –Ь., 1916, —Б. 191.
290 –С–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–∞. –Э–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –њ—А–Њ–Ј–∞. –Ь., 1992, —Б. 57.
291 –Р–љ–љ–µ–љ–Ї–Њ–≤ –Э. –С–Њ—В–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М. –°–Я–±., 1878, —Б. 211.
292 –Ы–µ–ї–µ–Ї–Њ–≤ –Ы.–Р. –Ь–∞—А—В–є–∞ –Є –Ь–∞—А—В–є–∞–љ–∞–≥ // –Ь–Є—Д—Л –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞. –Ґ. 2. –Ь.,
1992, —Б. 121; –С—Г–љ–і–∞—Е–Є—И–љ // http://avesta.tripod.com
293 –Ы–µ–ї–µ–Ї–Њ–≤ –Ы.–Р. –У–∞–є–Њ–Љ–∞—А—В // –Ь–Є—Д—Л –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞. –Ґ. 1. –Ь., 1991, —Б. 261.
294 –Ъ–∞–±–∞–Ї–Њ–≤–∞ –У.–Ш. –Ь—Г–ґ—З–Є–љ–∞ // –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ. 3. –Ь., 2000, —Б. 317.
295 –У–∞–Љ–Ї—А–µ–ї–Є–і–Ј–µ –Ґ.–Т., –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –Т.–Т. –Ш–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї –Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ¬–њ–µ–є—Ж—Л. –Ґ. 2. –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, 1984, —Б. 778.
296 –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –Т.–Т. –Ѓ–Љ–Є—Б // –Ь–Є—Д—Л –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞. –Ґ. 2. –Ь., 1992, —Б. 679.
297 –У—А–Є–љ—Ж–µ—А –Я.–Р. –Ш–Ї—И–≤–∞–Ї—Г // –Ь–Є—Д—Л –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞. –Ґ. 1. –Ь., 1991, —Б. 504.
298 –С–Њ–≥–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є –С.–Ы. –Ч–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—З–µ—Б–Ї–∞—П —А–µ–ї–Є–≥–Є—П –Р—Д–Є–љ. –Ґ. 1 // –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-—Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞. –І. 130. –Я–≥., 1916, —Б. 100—101.
299 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 178—179.
300 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 134.
301 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 97—98.
302 –Ю–≤–Є–і–Є–є. –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є. –Ґ. 2. –°–Я–±., 1994, —Б. 17.
303 –У—А–µ–є–≤—Б –†. –С–µ–ї–∞—П –С–Њ–≥–Є–љ—П. –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–±—Г—А–≥, 2005, —Б. 306.
304 –Я–∞–≤—Б–∞–љ–Є–є. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –≠–ї–ї–∞–і—Л. –Ґ. 2. –Ь., 2002, —Б. 323—324.
305 –Ґ–∞—Ж–Є—В –Ъ. –°–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –≤ 2 —В–Њ–Љ–∞—Е, —В. 1. –Р–љ–љ–∞–ї—Л. –Ь–∞–ї—Л–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ы., 1970, —Б. 354.
306 –†–Є—Б –Р., –†–Є—Б –С. –Э–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ –Ї–µ–ї—М—В–Њ–≤. –Ь., 1999, —Б. 262.
307 –°–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞. –Т–Њ–ї—И–µ–±–љ—Л–µ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є –Є –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П –Ї–µ–ї—М—В–Њ–≤. –Ь., 1996, —Б. 218.
308 –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –Т.–Т., –Ґ–Њ–њ–Њ—А–Њ–≤ –Т.–Э. –Ш–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—П // –Ь–Є—Д—Л –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞. –Ґ. 1. –Ь., 1991, —Б. 529.
309 –С–µ–Њ–≤—Г–ї—М—Д. –°—В–∞—А—И–∞—П –≠–і–і–∞. –Я–µ—Б–љ—М –Њ –Э–Є–±–µ–ї—Г–љ–≥–∞—Е. –Ь., 1975, —Б. 207.
3.0 –Ы–µ–≤–Є–љ—В–Њ–љ –У.–Р. –Ш–љ—Ж–µ—Б—В // –Ь–Є—Д—Л –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞. –Ґ. 1. –Ь., 1991, —Б. 547.
3.1 –С–µ–Њ–≤—Г–ї—М—Д... –Ь., 1975, —Б. 231.
3.2 –°–љ–Њ—А—А–Є –°—В—Г—А–ї—Г—Б–Њ–љ. –Ъ—А—Г–≥ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є. –Ь., 1995, —Б. 15—16.
313 –У–Њ–Љ–µ—А. –Ш–ї–Є–∞–і–∞. –Ы., 1990, —Б. 202.
314 –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤ –Р.–Э. –Я–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П... –Ґ. 3. –Ь., 1869, —Б. 722— 723.
3.5 –С–∞—Е—В–Є–љ –Т. «–Я–Њ–і –Ш–≤–∞–љ–∞ –њ–Њ–і –Ъ—Г–њ–∞–ї–∞ —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —В—А–∞–≤» // –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞, 6 –Є—О–ї—П 1990 –≥. вДЦ 156.
3.6 –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤ –Р.–Э. –Я–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П... –Ґ. 3. –Ь., 1869, —Б. 722.
3.7 –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –Т.–Т., –Ґ–Њ–њ–Њ—А–Њ–≤ –Т.–Э. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –і—А–µ–≤¬–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Ь., 1974, —Б. 229.
318 –У—А–Є–љ—Ж–µ—А –Я –Р. –ѓ–Љ–∞ // –Ь–Є—Д—Л –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞. –Ґ. 2. –Ь. 1992, —Б. 683.
3,9 –Ч–∞–≥–∞–і–Ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞. –°–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Ф.–Э. –°–∞–і–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ь., 1959, —Б. 217.
320 –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є –Р.–Э. –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–∞. –Ґ. 1. –Ь., 1984, —Б. 149.
321 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 151.
322 –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є –Р.–Э. –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–∞. –Ґ. 2. –Ь., 1985, —Б. 319.
323 –Ы–Є–љ—В—Г—А –Я.–Т. –С–∞–ї–ї–∞–і–љ–∞—П –њ–µ—Б–љ—П –Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞ // –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–є —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А. –Ь., 1972, —Б. 178.
324 –Я—Г—В–Є–ї–Њ–≤ –С.–Э. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Њ–і–љ–Њ–є —Б—О–ґ–µ—В–љ–Њ–є –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–Є (–±—Л–ї–Є–љ–∞ –Њ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–µ –Ъ–∞–Ј–∞—А–Є–љ–µ) // –Т–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–∞. –Ґ–Њ–Љ—Б–Ї, 1965, —Б. 18.
325 –Р–≥–∞–њ–Ї–Є–љ–∞ –Ґ.–Р. –Ш–љ—Ж–µ—Б—В // –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ. 2. –Ь., 1999, —Б. 418.
326 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 419.
327 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 418.
328 –†–Є—Б –Ф., –†–Є—Б –С. –Э–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ –Ї–µ–ї—М—В–Њ–≤. –Ь., 1999, —Б. 265—266.
329 –Ѓ–љ–≥ –Ъ.–У. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–∞. –Ь., 1997, —Б. 162—163.
330 –Ѓ–љ–≥ –Ъ.–У. –С–Њ–≥ –Є –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ. –Ь., 1998. —Б. 448.
331 –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ–Є–є –Є–Ј –Ъ–µ—Б–∞—А–Є–Є. –Т–Њ–є–љ–∞ —Б –≥–Њ—В–∞–Љ–Є. –Ь., 1950, —Б. 297—298.
332 –°—А–µ–Ј–љ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Ш.–Ш. –°–ї–Њ–≤–∞—А—М –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞. –Ґ. 3, —З. 1. –Ь., 1989, —Б. 472-473.
333 –Ф–∞–ї—М –Т.–Ш. –Ґ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞. –Ґ. 4. –Ь., 1955, —Б. 296.
334 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 297.
335 –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Є—Ж–Ї–∞—П –Э.–Э. «–°–њ–Њ—А–Є–љ–∞» –≤ –ґ–∞—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—А—П–і–∞—Е –Є –њ–µ—Б–љ—П—Е, –њ—А–µ–Є- –Љ—Г—Й–љ–љ–Њ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е // –ѓ–Ј—Л–Ї –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞. –Ґ. 7. JL, 1932, —Б. 60.
336 –§–∞—Б–Љ–µ—А –Ь. –≠—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М... –Ґ. 3. –Ь., 1971, —Б. 737—738.
337 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 732,735.
338 –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Є—Ж–Ї–∞—П –Э.–Э. «–°–њ–Њ—А–Є–љ–∞»... // –ѓ–Ј—Л–Ї –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞. –Ґ. 7. J1., 1932, —Б. 60.
339 –Ф–∞–ї—М –Т.–Ш. –Ґ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М... –Ґ. 4. –Ь., 1955, —Б. 296.
340 –Ч–µ—А–љ–Њ–≤–∞ –Р.–Т. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ–Њ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–∞–≥–Є–Є –≤ –Ф–Љ–Є—В—А–Њ–≤¬—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–∞–µ // –°–≠. 1932, вДЦ 3, —Б. 31.
341 –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Є—Ж–Ї–∞—П –Э.–Э. «–°–њ–Њ—А–Є–љ–∞»... // –ѓ–Ј—Л–Ї –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞. –Ґ. 7. J1., 1932, —Б. 61—61.
342 –£—Б–∞—З–µ–≤–∞ –Т.–Т. –Ъ–Њ–ї–Њ—Б // –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ. 2. –Ь. 1999, —Б. 555.
343 –Ґ—А—Г–і—Л –≠—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ-—Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –≤ —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–є –Ї—А–∞–є. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –Я.–Я. –І—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ. –°–Я–±., 1872. –Ґ. 3, —Б. 193.
344 –£—Б–∞—З–µ–≤–∞ –Т.–Т. –Ъ–Њ—А–µ–љ—М // –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ. 2. –Ь., 1999, —Б. 596—597.
345 –Ф–∞–ї—М –Т.–Ш. –Ґ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М... –Ґ. 4. –Ь., 1955, —Б. 296—297.
346 –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Є—Ж–Ї–∞—П –Э.–Э. «–°–њ–Њ—А–Є–љ–∞»... // –ѓ–Ј—Л–Ї –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞. –Ґ. 7. –Ы., 1932, —Б. 60.
347 –У–Є–ї—М—Д–µ—А–і–Є–љ–≥ –Р. –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є. –Ґ. 4. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ. –°–Я–±., 1874, —Б. 168.
348 –§–∞—Б–Љ–µ—А –Ь. –≠—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М... –Ґ. 3. –Ь., 1971, —Б. 738.
349 –Ф–∞–ї—М –Т.–Ш. –Ґ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М... –Ґ. 4. –Ь., 1955, —Б. 297.
350 –У–∞–ї—К–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Э–Ь. –С–Њ—А—М–±–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞. ..1.211 –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А¬—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞. –Ґ. 18. –Ь., 1913, —Б. 35.
351 –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Є—Ж–Ї–∞—П –Э.–Э. «–°–њ–Њ—А–Є–љ–∞»... // –ѓ–Ј—Л–Ї –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞. –Ґ. 7. –Ы., 1932, —Б. 61.
352 –£—Б–∞—З–µ–≤–∞ –Т.–Т. –Ъ–Њ–ї–Њ—Б // –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ. 2. –Ь. 1999, —Б. 555.
353 –Ф–∞–ї—М –Т.–Ш. –Ґ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М... –Ґ. 4. –Ь., 1955, —Б. 297.
354 –С—Л–ї–Є–љ—Л. JL, 1984. —Б. 103.
355 –Ф–∞–ї—М –Т.–Ш. –Ґ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М... –Ґ. 4. –Ь., 1955, —Б. 297.
356 http://www.token.ru
357 –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Є—Ж–Ї–∞—П –Э.–Э. «–°–њ–Њ—А–Є–љ–∞»... // –ѓ–Ј—Л–Ї –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞. –Ґ. 7. J1., 1932, —Б. 69—70.
358 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 67.
359 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 74—75.
360 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 80.
361 –§–∞—Б–Љ–µ—А –Ь. –≠—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М... –Ґ. 3. –Ь., 1971, —Б. 738.
362 –°–≤–Њ–і –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є—Е –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–є –Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ–∞—Е. –Ґ. 2 (VII—IX –≤–≤.). –Ь., 1995, —Б. 431.
363 –Р—А—Б–µ–љ—В—М–µ–≤ –Ш.–Р. –Ъ–Њ—А–Њ—В–Ї–∞—П –љ–Њ—З—М –і–Њ–ї–≥–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Ь. 1988; // http: // eroplan.boom.ru
364 http://www.memo.ru/memory/simbirsk
365 –£–і–∞–ї—М—Ж–Њ–≤ –Р.–Ф. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Н—В–љ–Њ–≥–µ–љ–µ–Ј–∞ —Б–ї–∞–≤—П–љ // –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П. –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї —Б—В–∞—В–µ–є. –Ь.—JL, 1947, —Б. 7, –њ—А–Є–Љ. 2.
366 –Р–≥–µ–µ–≤–∞ –†.–Р. –°—В—А–∞–љ—Л –Є –љ–∞—А–Њ–і—Л: –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є. –Ь., 1990, —Б. 36.
367 –У—А–µ–є–≤—Б –†. –С–µ–ї–∞—П –С–Њ–≥–Є–љ—П. –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–±—Г—А–≥, 2005, —Б. 26.
368 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 518.
369 –С–µ—А–Ј–Є–љ –≠.–Ю. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –≤—А–∞–ґ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –±–Њ–≥–Є? // –Р—В–µ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —З—В–µ–љ–Є—П. –Т—Л–њ. 18. –Ь., 1989, —Б. 45—46.
370 –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤ –Т.–Р. –Я–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ. –°–Я–±., 2008, —Б. 41.
371 –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є –Р. –Э. –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–∞. –Ґ. 1. –Ь., 1984, —Б. 110.
372 –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤ –Р.–Э. –Я–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П... –Ґ. 3. –Ь., 1869, —Б. 591.
373 –Ш—Б–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–µ —Б–∞–≥–Є. –Ь., 1956, —Б. 751—752,754.
374 –Я–µ—Б–љ–Є —О–ґ–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ. –Ь., 1976, —Б. 39—40.
375 –Ш—А–∞—Б–µ–Ї –Р. –°—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ —З–µ—И—Б–Ї–Є–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П. –Ь., 1987, —Б. 55—56.
376 –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є –Р. –Э. –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–∞. –Ґ. 1. –Ь., 1984, —Б. 127—132.
377 –С—А–∞—В—М—П –У—А–Є–Љ–Љ. –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є –≤ –і–≤—Г—Е —В–Њ–Љ–∞—Е // http://lib.rus. –µ—Б/b/147485/read
378 –С–µ—А–µ–Ј–Ї–Є–љ –Ѓ.–Х. –Ґ–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –Є —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–љ–Њ-–Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—В–Є–≤–Њ–≤ –њ–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞–Љ // http://www.ruthenia. ru/folklore/berezkin/167_52.htm
379 –†—Л–±–∞–Ї–Њ–≤ –С.–Р. –ѓ–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –†—Г—Б–Є. –Ь., 1988, —Б. 145—147.
380 –ѓ—Ж–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Є–є –Р.–Ш. –•—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є—П –њ–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–Љ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—П–Љ. –Т–µ—А–Њ–≤–∞¬–љ–Є—П. –†–Њ—Б—В–Њ–≤-–љ–∞-–Ф–Њ–љ—Г, 1916, —Б. 38—39.
381 –°–∞—Е–∞—А–Њ–≤ –Э–Ш –°–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Ґ. 1, –Ї–љ. 2. –°–Я–±., 1841, —Б. 20.