–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤—Б–µ —В–µ–≥–Є
27 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1698 –≥–Њ–і–∞ –≤–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ–Љ –Њ–±–ї–Є–Ї–µ —А–Њ—Б—Б–Є—П–љ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П, —И–Њ–Ї–Є—А—Г—О—Й–∞—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–∞. –°–∞–Љ —Ж–∞—А—М –Я—С—В—А –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є–є—Б—П –Є–Ј –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –≤ —З—Г–ґ–Є–µ –Ї—А–∞—П, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–Є–ї—Б—П –љ–Њ–ґ–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є –Є –±–µ–Ј–ґ–∞–ї–Њ—Б—В–љ–Њ –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї —Г –њ—А–Є–≥–ї–∞—И—С–љ–љ—Л—Е –Ї –љ–µ–Љ—Г –і–≤–Њ—А—П–љ –Є –±–Њ—П—А –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –±–Њ—А–Њ–і—Л. –Я—А–Є—З—С–Љ –≤–µ–љ—Ж–µ–љ–Њ—Б–љ—Л–є –±—А–∞–і–Њ–±—А–µ–є –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–є –≤—Б—В—А—П—Б–Ї–Њ–є - –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –±–Њ—А–Њ–і—Л —Г–ґ–µ –љ–Њ–≤—Л—Е –≥–Њ—Б—В–µ–є –Ї—А–Њ–Љ—Б–∞–ї —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є —И—Г—В.
–Я–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Є –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–Є–є —Г–Ї–∞–Ј, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –±—А–Є—В—М—Б—П –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –≤—Б–µ–Љ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ –Є –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞. –Р –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ–ґ–µ–ї–Є –Ї—В–Њ —А–∞—Б—Б—В–∞—В—М—Б—П —Б –±–Њ—А–Њ–і–Њ–є –љ–µ –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–µ—В, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В–Ї—Г–њ–Є—В—М—Б—П, —Е–Њ—В—П –њ–Њ—И–ї–Є–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П: –і–ї—П –і–≤–Њ—А—П–љ –Њ–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ 60 —А—Г–±–ї–µ–є, –і–ї—П –Ї—Г–њ—Ж–Њ–≤ - 100 —А—Г–±–ї–µ–є, –і–ї—П –њ—А–Њ—З–Є—Е –њ–Њ—Б–∞–і—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є - 30 —А—Г–±–ї–µ–є –≤ –≥–Њ–і. –Ч–∞–њ–ї–∞—В–Є–≤ –µ—С, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –±–Њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –Ј–љ–∞–Ї, –њ–Њ —Ж–µ–љ—В—А—Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Њ—Б—М: “–° –±–Њ—А–Њ–і—Л –њ–Њ—И–ї–Є–љ–∞ –≤–Ј—П—В–∞”, –∞ –њ–Њ –њ–µ—А–Є–Љ–µ—В—А—Г –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –≤ –і—Г—Е–µ –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Л: “–С–Њ—А–Њ–і–∞ - –ї–Є—И–љ—П—П —В—П–≥–Њ—В–∞”. –Ю–±–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ—И–ї–Є–љ–Њ–є –Є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–∞—П –±–Њ—А–Њ–і–∞, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є –≤—К–µ–Ј–і–µ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Є –≤—Л–µ–Ј–і–µ –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ - –Њ–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ 2 –і–µ–љ—М–≥–Є.
–£ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞—Б—В–∞–≤ –і–µ–ґ—Г—А–Є–ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–Њ–≥–ї—П–і–∞—В–∞–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±–Њ–є–Ї–Њ —А–µ–Ј–∞–ї–Є —Г –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–Є—Е –±–Њ—А–Њ–і—Л, –∞ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ–Њ –≤—Л—А—Л–≤–∞–ї–Є –Є—Е —Б –Ї–Њ—А–љ–µ–Љ. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ, –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ—Г –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –У–Њ–≥–Њ–ї—П, “–†—Г—Б—М –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –≤ —Ж–Є—А—О–ї—М–љ—О, –±–Є—В–Ї–Њ–Љ –љ–∞–±–Є—В—Г—О –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ; –Њ–і–Є–љ —Б–∞–Љ –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–≤–Њ—О –±–Њ—А–Њ–і—Г, –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г –љ–∞—Б–Є–ї—М–љ–Њ –±—А–Є–ї–Є”.
–Ґ–∞–Ї, —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –Є –і–µ—Б–њ–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –Я—С—В—А I –њ–Њ—А—Л–≤–∞–ї —Б –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–µ–є, —Б—В—А–µ–Љ—П—Б—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М —А–Њ—Б—Б–Є—П–љ “—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є–µ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і—Л”. –С–Њ—А–Њ–і–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ –≤ –±–Њ—А—М–±–µ –і–≤—Г—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ - —А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—Б—В–Њ–≤ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б —Ж–∞—А—С–Љ –Є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є. –Ь–Њ–љ–∞—А—Е —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –≤–љ—Г—И–Є—В—М –µ–Љ—Г –љ–Њ–≤—Г—О –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Ш –±—А–∞–і–Њ–±—А–Є—В–Є–µ, –Ї–∞–Ї –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Н–њ–Њ—Е–Є –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –±—Л–ї–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є. –¶–∞—А—М, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–Њ–ї–Њ–≥ –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Ц–Є–≤–Њ–≤, “—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –Њ—В —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М —Б–µ–±—П, –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є—В—М—Б—П –Њ—В –Њ–±—Л—З–∞–µ–≤ –Њ—В—Ж–Њ–≤ –Є –і–µ–і–Њ–≤ –Є –њ—А–Є–љ—П—В—М –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї –Њ–±—А—П–і—Л –љ–Њ–≤–Њ–є –≤–µ—А—Л”.
–Э–Њ, –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –љ–∞—Б–∞–ґ–і–∞—П –±—А–Є—В—М—С –±–Њ—А–Њ–і, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є –љ–∞ –Х–≤—А–Њ–њ—Г –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Я—С—В—А? –С—Л–ї–Њ –ї–Є –µ–Љ—Г –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–µ —Б–ї–∞–≤—П–љ–µ –і–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –±—А–Є–ї–Є –±–Њ—А–Њ–і—Г –Є —Г—Б—Л - –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М —В–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –Ј–љ–∞—В–љ–Њ—Б—В–Є. –°–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї –ї–Є –Я—С—В—А —Н—В—Г —Б–≤–Њ—О –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б —П–Ј—Л—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є-—А—Г—Б–Є—З–∞–Љ–Є? –Ь–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ - –Њ—В–µ—Ж –Я–µ—В—А–∞, —Ж–∞—А—М –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З, –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ—А–Є—А–Њ–і—Г –±—А–∞–і–Њ–±—А–Є—В–Є—П, –њ—А–Є—З—С–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—З–≤–µ: –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –≥—А–∞–Љ–Њ—В —Ж–∞—А—П –±—А–Є—В—М—С –±–Њ—А–Њ–і —Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Є–Љ –≤ –Њ–і–Є–љ —А—П–і —Б –Ї–ї–Є–Ї–∞–љ—М–µ–Љ –Ъ–Њ–ї—П–і—Л, –£—Б–µ–љ—П –Є –Я–ї—Г–≥–∞, —А–∞—Б–њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ “–±–µ—Б–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е” –њ–µ—Б–µ–љ, —Б–Ї–Њ–Љ–Њ—А–Њ—И–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–∞–Љ–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –Я–µ—В—А–∞ –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –љ–µ –±—Л–ї–Є —Б–ї—Л—И–љ—Л.
–Х—Б–ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Н—В–Њ –Я—С—В—А I, —В–Њ –±–Њ—А–Њ–і–∞ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М —Г –љ–µ–≥–Њ —Б –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–Є–Љ—Л–Љ–Є –Є–Љ —Б—В—А–µ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є (—З—Г—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ –ї–Є—И–Є–≤—И–Є–Љ–Є –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є), –∞ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —Б “–Њ–њ–∞—Б–љ—Л–Љ” –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П. (–Я–µ—В—А—Г I –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—В —Б–ї–Њ–≤–∞: “–Ъ–Њ–≥–і–∞ –± –љ–µ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ—П, –љ–µ –Љ–Њ–љ–∞—Е –Є –љ–µ –Ъ–Є–Ї–Є–љ, –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –±—Л –љ–µ –і–µ—А–Ј–љ—Г–ї –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ –Ј–ї–Њ –љ–µ—Б–ї—Л—Е–∞–љ–љ–Њ–µ. –Ю–є, –±–Њ—А–Њ–і–∞—З–Є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ—Г –Ј–ї—Г –Ї–Њ—А–µ–љ—М - —Б—В–∞—А—Ж—Л –і–∞ –њ–Њ–њ—Л. –Ю—В–µ—Ж –Љ–Њ–є –Є–Љ–µ–ї –і–µ–ї–Њ —Б –Њ–і–љ–Є–Љ –±–Њ—А–Њ–і–∞—З–Њ–Љ [–њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–љ–Њ–Љ - –Ы.–С.], –∞ —П —Б —В—Л—Б—П—З–∞–Љ–Є”.
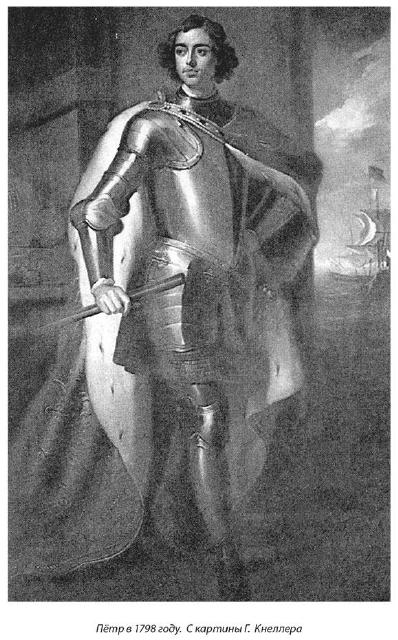
–Я—С—В—А I –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –≤–љ–µ—И–љ–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—В –љ–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–љ–µ–µ “–±–ї–∞–≥–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ” —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Р —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –Ј–∞ –±–Њ—А–Њ–і—Г –Њ–±–µ–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Њ–љ–∞ –њ—А–Є—А–Њ—Б–ї–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ –Ї —Б–µ—А–і—Ж—Г. –Т–µ–і—М –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤–µ–Ї–Њ–≤ —А–Њ—Б—Б–Є—П–љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–Є –≤ –±–Њ—А–Њ–і–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л, –Љ–µ—А–Є–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞–і “–ї—О—В–Њ—А–∞–Љ–Є” –Є –њ—А–Њ—З–Є–Љ–Є –µ—А–µ—В–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Т “–µ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е” –ґ–µ —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Ч–∞–њ–∞–і–∞, –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –Њ—З–µ—А–Ї–µ “–С–Њ—А–Њ–і—Л –Є –≤–∞—А–≤–∞—А—Л” —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є –∞–љ–∞–ї–Є—В–Є–Ї –°–Є—А–Є–ї –Э–Њ—А–Ї–Њ—В –Я–∞—А–Ї–Є–љ—Б–Њ–љ, –≥–ї–∞–і–Ї–Њ –≤—Л–±—А–Є—В–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М —Б –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞–Љ–Є —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В–∞; –±–Њ—А–Њ–і–∞ –ґ–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ —Г–њ–∞–і–Ї–∞ –Є –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —В–µ–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ–Љ, –њ–Њ–і –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б–Ї—А—Л–≤–∞—О—В –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є—П –Є —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П; –∞ –Є—Е –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 1650-1850 –≥–≥. –±—Л–ї–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Љ–∞–ї–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ —Г–Ї–Њ—А–µ–љ–Є–ї–Є—Б—М –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ—Л–µ, –≤ –Ї–Њ—А–љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л–µ –Њ—В –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б—В–∞—А–Њ–≤–µ—А–Њ–≤, –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л: “–С–Њ—А–Њ–і–∞ –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–ї–∞ –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М, –Њ–њ—Л—В, –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є—О, –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ—Б—В—М. –Ы—О–і–µ–є –≤ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ –Њ–љ–∞ –љ–∞–і–µ–ї—П–ї–∞ –њ—А–µ—Б—В–Є–ґ–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї—П–µ—В—Б—П –љ–Є –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –љ–Є –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В–Њ–Љ. –Ю–љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М - –Є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–∞ - –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –і–ї—П –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ, –љ–∞–њ—Л—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –ї–ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ, –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ”.
–Ґ–∞–Ї–Њ–µ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–µ –±–Њ—А–Њ–і—Л –±—Л–ї–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —З—Г–ґ–і–Њ –µ—С —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ —А–µ–≤–љ–Є—В–µ–ї—П–Љ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ: –У–µ–Њ—А–≥–Є–є, –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї: “–°—В—П–Ј–∞–љ–Є–µ —Б –Ы–∞—В–Є–љ–Њ–є [–Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–∞–Љ–Є]. –±—А–µ—О—В –±—А–∞–і—Л —Б–≤–Њ–Є –±—А–Є—В–≤–Њ–є, —З—В–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—В –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Ь–Њ–Є—Б–µ–µ–≤–∞ –Є –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ”. –Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ґ–Њ—А–µ, –Њ—Б—В—А–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –±–Њ—А–Њ–і—Л –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л - –њ–Њ–Ј–Њ—А. –Т –Ї–љ–Є–≥–µ “–Ы–µ–≤–Є—В” (–≥–ї. 19, —Б—В. 27) —З–Є—В–∞–µ–Љ: “–Э–µ –њ–Њ—А—В–Є –Ї—А–∞—П –±–Њ—А–Њ–і—Л —Б–≤–Њ–µ–є”. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ, —З—В–Њ –±–Њ—А–Њ–і—Г –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –Ш–Є—Б—Г—Б –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –Є –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—Л, –Њ —З—С–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –µ–≤–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –±–µ—Б–µ–і–∞—Е —Б–≤. –Ш–Њ–∞–љ–љ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В.
–Ю –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –±–Њ—А–Њ–і—Л —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞ –Э–Є–Ї–Є—В—Л –°–Ї–Є—Д–Є—В–∞ “–Ю –њ–Њ—Б—В—А–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –±—А–∞–і—Л”. –Ш –≤ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –°—В–Њ–≥–ї–∞–≤–Њ–≥–Њ –°–Њ–±–Њ—А–∞ 1551 –≥. —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ: “–Ґ–≤–Њ—А—П—Й–Є–є –±—А–∞–і–Њ–±—А–Є—В–Є–µ –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–Є–Љ –Њ—В –С–Њ–≥–∞, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞—Б –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Г –°–≤–Њ–µ–Љ—Г. –Р—Й–µ –Ї—В–Њ –±–Њ—А–Њ–і—Г –±—А–µ–µ—В –Є –њ—А–µ—Б—В–∞–≤–Є—В—Б—П —В–∞–Ї–Њ – –љ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–Є—В –љ–∞–і –љ–Є–Љ –њ–µ—В–Є, –љ–Є –њ—А–Њ—Б—Д–Њ—А—Л, –љ–Є —Б–≤–µ—З–Є –њ–Њ –љ—С–Љ –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В–Є, —Б –љ–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ–Є –і–∞ –њ—А–Є—З—В—С—В—Б—П”. –Т –°–Њ–±–Њ—А–љ–Њ–Љ –Ш–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–і–µ–і–∞ –Я–µ—В—А–∞ I, –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –§–Є–ї–∞—А–µ—В–∞ (–†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–∞), –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ “–С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ґ—А–µ–±–љ–Є–Ї” –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є–µ –±—А–∞–і–Њ–±—А–Є—В–Є—П –Ї–∞–Ї “–њ—Б–Њ–≤–Є–і–љ–Њ–≥–Њ –±–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—П”. –°—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ, —З—В–Њ –±–µ–Ј–±–Њ—А–Њ–і–Њ—Б—В—М —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–Њ–і–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≥—А–µ—Е—Г.
–Ь–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Ь–∞–Ї–∞—А–Є–є (–њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –°—В–Њ–≥–ї–∞–≤–Њ–≥–Њ –°–Њ–±–Њ—А–∞) (1482-1563) –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –±—А–Є—В—М—С –±–Њ—А–Њ–і –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ–ї–Њ–Љ –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –µ—А–µ—Б–Є , –љ–Њ –Є —Б–µ—А—М—С–Ј–љ—Л–Љ –≥—А–µ—Е–Њ–Љ. –Т –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Њ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М —Е—Г–ї–Њ–є –љ–∞ –Т—Б–µ–≤—Л—И–љ–µ–≥–Њ, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Г —Б –±–Њ—А–Њ–і–Њ–є: –±—А–µ—О—Й–Є–є—Б—П —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Ї–Њ—Й—Г–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ –Њ–±–ї–Є–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–∞–ї –µ–Љ—Г –Ґ–≤–Њ—А–µ—Ж; —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Њ–љ –ґ–µ–ї–∞–ї “–њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є—В—М” –С–Њ–≥–∞, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ. –°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –±—А–∞–і–Њ–±—А–Є—В–Є—О –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –±—Л—В—М –Њ—В–ї—Г—З—С–љ –Њ—В —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П.

«–¶–Є—А—О–ї—М–љ–Є–Ї —Е–Њ—З–µ—В —А–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї—Г –±–Њ—А–Њ–і—Г —Б—В—А–Є—З—М». –Ы—Г–±–Њ–Ї. 1770-–µ –≥–≥.
–°—В–∞—А–Њ–≤–µ—А—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –±—А–Є—В—М—С –±–Њ—А–Њ–і “–µ–ї–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –±–ї—Г–і–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≥–љ—Г—Б–љ—Л–Љ –Њ–±—Л—З–∞–µ–Љ”. –Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –≥—А–µ–Ї–Є, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ —Ж–µ–љ–Є–≤—И–Є–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В—М, –ґ–Є–≤–Њ—Б—В—М, —Д–Њ—А–Љ—Г, –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –±–Њ—А–Њ–і. –Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –≤ –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–∞—А–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –≤–µ–ї–µ–ї –≤—Б–µ–Љ –Љ–∞–Ї–µ–і–Њ–љ—Ж–∞–Љ –±—А–Є—В—М –±–Њ—А–Њ–і—Л. –Я—А–Є—З–Є–љ—Г –Њ–љ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є–ї —В–∞–Ї—Г—О - –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—Е–≤–∞—В–Є—В—М —В–µ–±—П –Ј–∞ –±–Њ—А–Њ–і—Г. –Э–Њ –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—В–Є–≤ –±—Л–ї –і—А—Г–≥–Њ–є - –і—А–µ–≤–љ–Є–є –≤–Њ–ґ–і—М —Е–Њ—В–µ–ї —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М –Њ—Б–Њ–±—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї. –Т—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –У—А–µ—Ж–Є–µ–є –±–Њ—А–Њ–і—Г —Б—В–∞–ї–Є –±—А–Є—В—М –Є –≤ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –†–Є–Љ–µ. –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–љ–Њ, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–Є –±–Њ—А–Њ–і –љ–∞—И–ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–њ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–≤ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—А–µ–і–Є –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞–љ—В–Њ–≤, –љ–Њ –Є —Б—А–µ–і–Є —П–Ј—Л—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Є–ї–Є “–њ–Њ–≥–∞–љ—Л—Е”, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –Є—Е –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є. –Ф–∞–ґ–µ –љ–∞ —Б–∞–Љ—Г –±—А–Є—В–≤—Г —Б—В–∞—А–Њ–≤–µ—А—Л —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –Ї–∞–Ї –љ–∞ –Њ—А—Г–і–Є–µ –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤—А–∞—В–∞ –Є –±–∞—Б—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–Є—П.
–†–µ–Ј–Ї–Њ—Б—В—М —В–Њ–љ–∞ –Њ–±–ї–Є—З–Є—В–µ–ї–µ–є –±—А–∞–і–Њ–±—А–Є—В–Є—П –Є–Љ–µ–ї–∞ –њ–Њ–і —Б–Њ–±–Њ–є —Б–µ—А—М—С–Ј–љ—Л–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Є–±–Њ –≤–Њ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Є –Њ—В —Б—В–∞—А–Њ–і–∞–≤–љ–Є—Е —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Ј–∞–њ—А–µ—В–Њ–≤. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —А–∞–љ–љ–Є—Е –љ–∞—А—Г—И–Є—В–µ–ї–µ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —Б—В–∞–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є III –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З. –Ц–µ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ 47 –ї–µ—В –љ–∞ 18-–ї–µ—В–љ–µ–є –Ї–љ—П–ґ–љ–µ –Х–ї–µ–љ–µ –У–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є, –Њ–љ –≤–і—А—Г–≥ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї - —Б–±—А–Є–≤–∞–µ—В –±–Њ—А–Њ–і—Г (–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –ї–Є—И—М —Г—Б—Л –њ–Њ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і–µ). –Т —В—Г —Н–њ–Њ—Е—Г —Н—В–Њ –±—Л–ї –і–µ—А–Ј–Ї–Є–є –≤—Л–Ј–Њ–≤ –Є –±—Л—В–Њ–≤—Л–Љ, –Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ –Њ–±—Л—З–∞—П–Љ: –≤–µ–і—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–Є—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ї –µ—А–µ—В–Є—З–µ—Б—В–≤—Г, –Ї –њ–Њ—Б—П–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –љ–∞ –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–ґ–Є–є –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –Њ–љ–Њ –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Њ—В –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–∞–Ј–∞–љ–љ–Є–Ї–∞. –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Є–ї–Є –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ, —Б—В–∞–ї –љ–∞—Б–∞–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –љ–Њ–≤–Њ–є
–Љ–Њ–і—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ - –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –љ–Є–Љ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —Й—С–≥–Њ–ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—А–Є–ї–Є –±–Њ—А–Њ–і—Л, –љ–Њ –Є –≤—Л—Й–Є–њ—Л–≤–∞–ї–Є —Б–µ–±–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л –љ–∞ –ї–Є—Ж–µ. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –У—Г–і–Ј–Є—П, –Є—Е –±—А–∞–і–Њ–±—А–Є—В–Є–µ “–Є–Љ–µ–ї–Њ —Н—А–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–≤–Ї—Г—Б –Є —Б—В–Њ—П–ї–Њ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—С–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ –Љ—Г–ґ–µ–ї–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞”.
–Ю–і–Є–љ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М (–≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ–µ) –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞—В—М –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П, –њ–Є—И–µ—В: “–¶–∞—А—П–Љ –њ–Њ–і–Њ–±–∞–µ—В –Њ–±–љ–Њ–≤–ї—П—В–Є—Б—П –Є —Г–Ї—А–∞—И–∞—В–Є—Б—П –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є”. –Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В –µ–≥–Њ –±—А–∞–і–Њ–±—А–Є—В–Є–µ –Є —Б –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ —Г–≥–Њ–і–Є—В—М –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Ї–∞–њ—А–Є–Ј–љ–Њ–є –ґ–µ–љ–µ.
–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –С–Њ—А–Є—Б–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞ (1552-1605) –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є–µ –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–∞–Љ –≤ –±—А–Є—В—М–µ –±–Њ—А–Њ–і –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ. –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –њ–Њ—А—В—А–µ—В —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П –С–Њ—А–Є—Б–∞ –§—С–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –≤ –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–Љ –Њ–і–µ—П–љ–Є–Є –Є —И–∞–њ–Ї–µ –Ь–Њ–љ–Њ–Љ–∞—Е–∞, –љ–Њ –±–µ–Ј –±–Њ—А–Њ–і—Л –Є —Г—Б–Њ–≤. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ъ–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ –≤ “–Ш—Б—В–Њ—А–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ” –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ –С–Њ—А–Є—Б–∞ —Г–њ—А–µ–Ї–∞–ї–Є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ “–њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–Є–Є –Ї –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ—Л–Љ, –љ–Њ–≤—Л–Љ –Њ–±—Л—З–∞—П–Љ (–Є–Ј –Ї–Њ–Є—Е –±—А–∞–і–Њ–±—А–Є—В–Є–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ—П–ї–Њ —Г—Б–µ—А–і–љ—Л—Е —Б—В–∞—А–Њ–≤–µ—А–Њ–≤)”.
–Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–∞—А—Б—Г–љ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ —Б –Ї–љ—П–Ј—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –°–Ї–Њ–њ–Є–љ–∞-–®—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1586-1610), –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Њ—В –Ы–ґ–µ–і–Љ–Є—В—А–Є—П I. –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ—С–љ –Њ–љ –љ–∞ –љ–µ–є –±–µ–Ј–±–Њ—А–Њ–і—Л–Љ, –∞ –≤–µ–і—М –Њ—В–Ї–∞–Ј –Њ—В –±–Њ—А–Њ–і—Л —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –≤–µ—А–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Є–Ї–∞, –≥–Њ—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –њ—А–∞–і–µ–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –≤–љ–µ—И–љ–µ —Г–њ–Њ–і–Њ–±–Є—В—М—Б—П –њ–Њ–ї—Г—З—С—А—В—Г –ї–∞—В–Є–љ—П–љ–Є–љ—Г.
“–Ю—Е, –Њ—Е, –†—Г—Б—М, —З—В–Њ-—В–Њ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —В–µ–±–µ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤ –Є –Њ–±—Л—З–∞–µ–≤!” - —Б–µ—В–Њ–≤–∞–ї –≤ 70-–µ –≥–≥. XVII –≤. –њ—А–Њ—В–Њ–њ–Њ–њ –Р–≤–≤–∞–Ї—Г–Љ (1621-1682). –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Г–ґ–µ —Б XVII –≤–µ–Ї–∞ —Б—А–µ–і–Є –≤—Л—Б—И–Є—Е —Б–ї–Њ—С–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –±—А–∞–і–Њ–±—А–Є—В–Є–µ –Є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А—Л –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ –±–Њ—А–Њ–ї–Є—Б—М —Б —Н—В–Є–Љ. –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ–ї–µ–±–ї–µ—В—Б—П: —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ–љ–Њ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –Ї –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г, –љ–Њ –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—Г–≥–∞–µ—В—Б—П –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Ї —Б—В–∞—А–Њ–≤–µ—А–Њ–≤. –Т —Г–≥–Њ–і—Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ —Ж–∞—А—М –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –≤ 1675 –≥. –Є–Ј–і–∞—С—В —Г–Ї–∞–Ј, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М “–Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –Є –Є–љ—Л—Е –Њ–±—Л—З–∞–µ–≤ –љ–µ –њ–µ—А–µ–љ–Є–Љ–∞—В—М, –≤–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤ —Г —Б–µ–±—П –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –љ–µ –њ–Њ–і—Б—В—А–Є–≥–∞—В—М”.
–Т 1681 –≥. —Ж–∞—А—М –§—С–і–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–∞–Љ –±–Њ—А–Њ–і—Г –љ–µ –љ–Њ—Б–Є–ї, —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤—Б–µ–Љ –і–≤–Њ—А—П–љ–∞–Љ –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–љ—Л–Љ –ї—О–і—П–Љ –љ–Њ—Б–Є—В—М –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ –Ї–∞—Д—В–∞–љ—Л –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –і–ї–Є–љ–љ—Л—Е –Њ—Е–∞–±–љ–µ–є –Є –Њ–і–љ–Њ—А—П–і–Њ–Ї - –љ–Є–Ї—В–Њ –≤ —Б—В–∞—А–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥ —П–≤–Є—В—М—Б—П –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї—М. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—В—М —Б—В–∞—А–Њ–і–∞–≤–љ–Є–µ –±–Њ—А–Њ–і—Л –µ–Љ—Г –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Ј-–Ј–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Ш–Њ–∞–Ї–Є–Љ–∞ (—Г–Љ.1690), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –µ—Й—С –њ—А–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–µ, –Њ—Б—Г–і–Є–ї —В–µ—Е, –Ї—В–Њ “–њ–∞—З–µ –љ—Л–љ–µ –љ–∞—З–∞ –≥—Г–±–Є—В–Є –Њ–±—А–∞–Ј, –Њ—В –С–Њ–≥–∞ –Љ—Г–ґ—Г –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є”. –Ш–Њ–∞–Ї–Є–Љ –Њ—В–ї—Г—З–∞–ї –Њ—В —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –±—А–Є–ї—Б—П, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ–±—Й–∞ –ї—Б—П —Б —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –≥—А–µ—И–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є.
–Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е –Р–і—А–Є–∞–љ (1627-1700). –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –Њ —В–µ—Е “—Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л—Е” –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞—Е (XVI-XVII –≤–≤.), –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞ –±—А–Є—В—М—С –±–Њ—А–Њ–і, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Њ—В–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –Њ—В —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї–Є –±–Є—В—М—О –±–∞—В–Њ–≥–∞–Љ–Є –Є–ї–Є —Б—Б—Л–ї–Ї–Њ–є –≤ –Њ—В–і–∞–ї—С–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є, –Р–і—А–Є–∞–љ –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ “–Ю–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ –љ–µ–±—А–Є—В–Є–Є –±–Њ—А–Њ–і—Л –Є —Г—Б–Њ–≤” –њ—А–Є—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї –±—А–∞–і–Њ–±—А–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї –Ї–Њ—В–∞–Љ –Є –њ—Б–∞–Љ. –Т—Б—С —Н—В–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Њ —А–µ–Ј–Ї–Њ–µ –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Я–µ—В—А–∞. –Ю–њ–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї —Г–µ—Е–∞—В—М –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–Њ-–Я–µ—А–µ—А–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М. –Э–µ –Њ–і–Њ–±—А—П—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –Њ–љ, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –љ–µ –Љ–µ—И–∞—В—М —Ж–∞—А—О-—А–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А—Г –Є –Љ–Њ–ї—З–∞–ї. –Э–Њ —Н—В–Њ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ, –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г, –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є.
–†–µ–≤–љ–Є—В–µ–ї—П–Љ –±–Њ—А–Њ–і, –Є—Б–Ї–∞–≤—И–Є–Љ –Њ–њ–Њ—А—Л –≤ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Љ–∞–ї–Њ - –Њ–љ–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –љ–µ–≥–Њ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞ “–Љ–∞–ї–Њ–і—Г—И–љ–Њ–≥–Њ” –Р–і—А–Є–∞–љ–∞. –°–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ш–Њ–≥–∞–љ–љ –У –Њ—В—В–Є–ї—М—Д –§–Њ–Ї–Ї–µ—А–Њ–і—В—В –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л “–ї—Г—З—И–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–∞—В –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –њ–Њ–і —В–Њ–њ–Њ—А, —З–µ–Љ –ї–Є—И–∞—В—Б—П –±–Њ—А–Њ–і”.
–°–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–Њ–є –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–Њ–≤–Њ–≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Я–µ—В—А–∞ I —Б—В–∞–ї —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є —Б–∞–Љ–Њ–Є–Ј–≤–µ—В, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –Ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ—Г —Б—А–µ–і—Б—В–≤—Г, –њ—А–Є–±–µ–≥–∞–ї–Є –Њ—В—З–∞—П–≤—И–Є–µ—Б—П —Б—В–∞—А–Њ–≤–µ—А—Л. –Ґ–∞–Ї, –≤ 1704 –≥., –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –љ–µ–Ї–Є–є –љ–Є–ґ–µ–≥–Њ—А–Њ–і–µ—Ж –Р–љ–і—А–µ–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ –њ—А–Њ–Ї—А–Є—З–∞–ї: “–У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Є –і–µ–ї–Њ!”, –∞ –љ–∞ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: “–У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–Њ –і–µ–ї–Њ –Ј–∞ –Љ–љ–Њ—О —В–∞–Ї–Њ–µ: –њ—А–Є—И—С–ї —П –Є–Ј–≤–µ—Й–∞—В—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—О, —З—В–Њ –Њ–љ —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–µ—В –≤–µ—А—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї—Г—О, –≤–µ–ї–Є—В –±–Њ—А–Њ–і—Л –±—А–Є—В—М, –њ–ї–∞—В—М–µ –љ–Њ—Б–Є—В—М –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–µ –Є —В–∞–±–∞–Ї –≤–µ–ї–Є—В —В—П–љ—Г—В—М”. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ —Б—Б—Л–ї–∞–ї—Б—П –љ–∞
–Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞—О—Й–Є–є —Н—В–Є “–±–µ–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—П” “–°—В–Њ–≥–ї–∞–≤”. –°—Г–і—М–±–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞ —В—А–∞–≥–Є—З–љ–∞ - –Њ–љ –њ–Њ–≥–Є–± –њ–Њ–і –њ—Л—В–Ї–∞–Љ–Є. –Ш —Б–ї—Г—З–∞–є —Н—В–Њ—В –љ–µ –µ–і–Є–љ–Є—З–љ—Л–є.
–Я—А–Є–Љ–µ—А –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Ф–ґ–Њ–љ –Я–µ—А—А–Є. –Ю–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ, –њ–Є—В–∞–≤—И–Є–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–є –њ–Є–µ—В–µ—В –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –±–Њ—А–Њ–і–∞–Љ, –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М—Б—П —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Г–Ї–∞–Ј—Г –Є –Њ–±—А–Є—В—М –Є—Е. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є —Г–ґ–µ –Њ—В—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –±–Њ—А–Њ–і—Л —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤ –Є—Е —Б —Б–Њ–±–Њ–є –≤ –≥—А–Њ–±, –њ—А–µ–і—К—П–≤–Є—В—М –љ–∞ —В–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ –°–≤—П—В–Њ–Љ—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ –ї—О–і–Є –≤ —А—П—Б–∞—Е –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –±–Њ—А–Њ–і—Г - –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –≥–Њ—А—П—З–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є —А–µ—Д–Њ—А–Љ—Л –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е - –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є (–≤ –Љ–Є—А—Г –Ф–∞–љ–Є–Є–ї –Ґ—Г–њ—В–∞–ї–Њ, 1651-1709), –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О. –Х–≥–Њ –њ–µ—А—Г –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ “–Ю–± –Њ–±—А–∞–Ј–µ –С–Њ–ґ–Є–Є –Є –њ–Њ–і–Њ–±–Є–Є –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—Ж–µ”, –≥–і–µ –µ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ —Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–ґ–Є–є –Ј–∞–Ї–ї—О—З—С–љ –љ–µ –≤ –±–Њ—А–Њ–і–µ, –∞ –≤ –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–є –і—Г—И–µ, –Є —З—В–Њ –љ–µ –±–Њ—А–Њ–і–∞ –Ї—А–∞—Б–Є—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –∞ –і–Њ–±—А—Л–µ –і–µ–ї–∞ –Є —З–µ—Б—В–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М. –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є –њ—А–Є—Г—З–∞–ї –њ–∞—Б—В–≤—Г –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—М—Б—П –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–Є –і—Г—И–Є, –∞ –љ–µ –Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В–µ –Є –±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–Є.
–Ы—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Є –±–Њ—А–Њ–і –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–ї–Є –±—А–Є—В—М—С –Є —З–Є—Б—В–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Ґ–Њ—В –ґ–µ –Ф–ґ–Њ–љ –Я–µ—А—А–Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–Ї–ї–∞–і–Є—Б—В–∞—П –±–Њ—А–Њ–і–∞ –Љ–µ—И–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ –µ—Б—В—М –Є –њ–Є—В—М. –Э–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–µ–ї—М–µ—Д–љ–Њ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ –љ–µ—Г–і–Њ–±—Б—В–≤–µ –±–Њ—А–Њ–і—Л –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ъ–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е “–Я–Є—Б—М–Љ–∞—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞”: “–С–Њ—А–Њ–і–∞ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ї —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –і–Є–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞; –љ–µ –±—А–Є—В—М –µ—С —В–Њ –ґ–µ, —З—В–Њ –љ–µ —Б—В—А–Є—З—М –љ–Њ–≥—В–µ–є. –Ю–љ–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –Њ—В —Е–Њ–ї–Њ–і—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–∞–ї—Г—О —З–∞—Б—В—М –ї–Є—Ж–∞: —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –ї–µ—В–Њ–Љ, –≤ —Б–Є–ї—М–љ—Л–є –ґ–∞—А! –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Ј–Є–Љ–Њ–є, –љ–Њ—Б–Є—В—М –љ–∞ –ї–Є—Ж–µ –Є–љ–µ–є, —Б–љ–µ–≥ –Є —Б–Њ—Б—Г–ї—М–Ї–Є! –Э–µ –ї—Г—З—И–µ –ї–Є –Є–Љ–µ—В—М –Љ—Г—Д—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≥—А–µ–µ—В –љ–µ –Њ–і–љ—Г –±–Њ—А–Њ–і—Г, –∞ –≤—Б—С –ї–Є—Ж–Њ?”.
–Э–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞—П –љ–Њ–≤—Г—О –Љ–Њ–і—Г, —Ж–∞—А—М –±—Л–ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–љ –Є –љ–µ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–ї—Б—П —Б –Њ—Б–ї—Г—И–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Т –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤ 1704 –≥. –љ–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–µ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –ї—О–і–µ–є –Њ–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–µ—Й–∞–і–љ–Њ –±–Є—В—М –±–∞—В–Њ–≥–∞–Љ–Є –і–≤–Њ—А—П–љ–Є–љ–∞ –Э–∞—Г–Љ–Њ–≤–∞ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —В–Њ—В –љ–µ –Њ–±—А–Є–ї –±–Њ—А–Њ–і—Л –Є —Г—Б–Њ–≤. –Т –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –ґ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ –ї—О–і–∞ –≤–ї–∞—Б—В–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –µ—Й—С –±–Њ–ї–µ–µ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Т –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ–Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л–є –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–∞ –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ–є –†–ґ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Б–∞–ґ–і–∞–ї –љ–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Є –њ—Г—В—С–Љ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–Є–ї–Є—П. –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Ж—Л –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–Ј–ґ–µ: “–С–Њ—А–Њ–і—Л —А–µ–Ј–∞–ї–Є —Г –љ–∞—Б —Б –Љ—П—Б–Њ–Љ –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ –њ–Њ –±–∞–Ј–∞—А–∞–Љ –Є –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ, –Є –њ–Њ —Ж–µ—А–Ї–≤–∞–Љ –Њ–±—А–µ–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –ґ.–Є –њ–Њ —Б–ї–Њ–±–Њ–і–∞–Љ —Г—З–Є–љ–Є–ї—Б—П –Њ—В —В–Њ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–є –њ–ї–∞—З”. –°—В–Є—Е–Є–є–љ—Л–µ –њ—А–Њ—В–µ—Б—В—Л –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ–Є –њ–µ—А–µ—А–Њ—Б–ї–Є –≤ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤ 1705 –≥. –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—В—М –Њ–≥–љ—С–Љ –Є –Љ–µ—З–Њ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї –С–Њ—А–Є—Б –®–µ—А–µ–Љ–µ—В–µ–≤. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј –±—Г–љ—В–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤, –ѓ–Ї–Њ–≤—Г –Э–Њ—Б–Њ–≤—Г, —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ–±—А–Є–ї–Є –Є —Г–ґ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—Г–±–Є–ї–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ–Є –Љ–µ—А–∞–Љ–Є –Я—С—В—А –њ—А–Є–Њ–±—Й–∞–ї –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л—Е –Ї –љ–Њ–≤–Њ–≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ –љ–∞ —Б–≤–Њ–є –≤–Ї—Г—Б. –Т–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ –±—Л –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Ї –∞—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Ж–∞–Љ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ–Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –≤–ї–∞—Б—В–µ–є —Г–Ї–∞–Ј –Я–µ—В—А–∞ –Њ –±—А–∞–і–Њ–±—А–Є—В–Є–Є –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є –љ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є, —В–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–≤—И–Є—Е.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–њ—Г—Б—В—П —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞—П –≤–Њ–є–љ—Г —Б –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–Љ –С–Њ–љ–∞–њ–∞—А—В–Њ–Љ, –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –Я–∞—А–Є–ґ, –±–Њ—А–Њ–і–∞—В—Л–µ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Є –љ–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ. –С–Њ—А–Њ–і–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ –≤–Њ—И–ї–∞ —В–∞–Љ –≤ –Љ–Њ–і—Г –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М “–∞ –ї—П —А—О—Б—Б”. –Я–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є–µ –≥–∞–Ј–µ—В—Л –њ–Є—Б–∞–ї–Є: “–С–Њ—А–Њ–і–∞ - —Н—В–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–Њ–± —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–∞. –Ю–љ–∞ —З–∞—Б—В—М –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ—А–Њ–і–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–і–∞—В—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –ї–Є—Ж—Г –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л”.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞–њ—А–µ—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л –Њ –±–Њ—А–Њ–і–∞—Е. –Ю–љ–Є –Є–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ–є—И–Є–Љ–Є –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Я–µ—В—А–∞ I –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XIX –≤–µ–Ї–∞. –Ъ –±—А–Є—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–±–Њ—А–Њ–і–Ї—Г –њ—А–Є–≤—Л–Ї–ї–Є.
–†—П–і–Њ–Љ —Б –і–∞–≤–љ–Є–Љ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ “–±–Њ—А–Њ–і–∞ - –Њ–±—А–∞–Ј –Є –њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –С–Њ–ґ–Є–µ”, –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –ґ–Є–ї–Є —Г–ґ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Є–љ—Л–µ –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л: “–С–Њ—А–Њ–і–∞ –≤—Л—А–Њ—Б–ї–∞, –∞ —Г–Љ–∞ –љ–µ –≤—Л–љ–µ—Б–ї–∞”; “–Ь—Г–і—А–Њ—Б—В—М –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ, –∞ –љ–µ –≤ –±–Њ—А–Њ–і–µ” –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А III, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Ї –±—А–Є—В–≤–µ —Б –љ–µ–і–Њ–≤–µ—А–Є–µ–Љ, –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –±–Њ—А–Њ–і—Г —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї. –Ю–љ –Є —Б–∞–Љ –љ–Њ—Б–Є–ї –±–Њ—А–Њ–і—Г, –Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –µ–Љ—Г —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є II. –Э–Њ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Ј–∞ —А–∞–Љ–Ї–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞ –Њ –≤–µ–љ—Ж–µ–љ–Њ—Б–љ–Њ–Љ –±—А–∞–і–Њ–±—А–µ–µ.
–Я—А–µ–і–µ—А–Ј–Ї–Њ–µ —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ
–Ы–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А XVIII –≤–µ–Ї–∞ –Ш–≤–∞–љ –У–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е “–Р–љ–µ–Ї–і–Њ—В–∞—Е, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ”: “–Ю–і–Є–љ –Є–Ј –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ—Л—Е –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—О –±–Њ–≥–∞—В–Њ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞ —Б—Л–љ. –њ–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, –ґ–µ–ї–∞—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–µ–±—П –≥–Њ—А–Њ–і—Г, –њ—А–Њ—Е–∞–ґ–Є–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ –≤ –±–µ–ї—Л—Е —И–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е —З—Г–ї–Ї–∞—Е, –≤ –±–Њ–≥–∞—В–Њ–Љ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Љ–Њ–і—Л –њ–ї–∞—В—М–µ, –Ј–∞—Б—Л–њ–∞–љ–љ–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–љ–љ–Њ—О –њ—Г–і—А–Њ—О. –Ъ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–Є—О –µ–≥–Њ, –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї—Б—П –Њ–љ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –љ–∞—А—П–і–µ —Б –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Њ–Љ, –µ—Е–∞–≤—И–Є–Љ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Л –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б–Ї–Є–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Ї–Њ–ї–Ї–µ. –Х–≥–Њ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ, –њ–Њ–і–Њ–Ј–≤–∞–≤ –µ–≥–Њ –Ї —Б–µ–±–µ, –љ–∞—З–∞–ї —Б –љ–Є–Љ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–і–∞—Е, –Њ–± –Њ–±—А–∞–Ј–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–∞—А–Є–ґ—Ж–µ–≤, –Њ –µ–≥–Њ —В–∞–Љ–Њ—И–љ–µ–Љ —Г–њ—А–∞–ґ–љ–µ–љ–Є–Є –Є —В. –і. –©–µ–≥–Њ–ї—М —Б–µ–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –љ–∞ –≤—Б–µ —Н—В–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М, –Є–і—П —Г –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞ –Њ–і–љ–Њ–Ї–Њ–ї–Ї–Є, –Є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е –љ–µ –њ—А–µ–ґ–і–µ –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї –µ–≥–Њ –Њ—В —Б–µ–±—П, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї –≤—Б–µ–≥–Њ –µ–≥–Њ –Њ–±—А—Л–Ј–≥–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Ј–∞–Љ–∞—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥—А—П–Ј—М—О”.
–Ю—В–Ї—Г–і–∞ –≤–Ј—П–ї–Њ—Б—М —Г —Ж–∞—А—П —Н—В–Њ –љ–µ—Г–Ї—А–Њ—В–Є–Љ–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є—Б–њ–∞—З–Ї–∞—В—М —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ? –Ч–і–µ—Б—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б. –Ш –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–∞—З–∞—В—М —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –Я–µ—В—А–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї—М, –і—М—П–Ї –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ч–Њ—В–Њ–≤, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –≤–µ–љ—Ж–µ–љ–Њ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А–Њ–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Ї—Г–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ю–≤–Њ—Й–љ–Њ–Љ —А—П–і—Г –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≥—А–∞–≤—О—А (“–Ї—Г–љ—И—В–Њ–≤”) —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–µ–≤ –≤ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л—Е –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞—Е. –Ѓ–љ—Л–є —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З –Ј–љ–∞–ї –Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Є —Д–Њ—А–Љ–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–љ–∞—Б–ї—Л—И–Ї–µ, –љ–Њ –Є –Њ—В –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –±–ї–Є–Ј –љ–µ–≥–Њ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–µ–≤. (–Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ “–љ–µ–Љ—Ж–∞” –Я–∞–≤–ї–∞ –Ь–µ–љ–µ–Ј–Є—Г—Б–∞). –≠—В–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Њ –Я–µ—В—А—Г, –µ—Й—С –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї—Г, –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ-–љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є –Я–Њ—В–µ—И–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е –Ш–Њ–∞–Ї–Є–Љ –≥–љ–µ–≤–љ–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–∞–ї –≤—Б—П–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є. “–Ю–њ—П—В—М –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О, —З—В–Њ–± –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Л—З–∞–µ–≤ –Є –њ–ї–∞—В—М—П –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ –њ–Њ-–Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є –љ–µ –≤–≤–Њ–і–Є—В—М”, - —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –Њ–љ –Њ—В —Ж–∞—А—П. –Ш, –љ–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –≥–љ–µ–≤ –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –±—Л–ї –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ: –≤–µ–і—М —Б–∞–Љ–Є–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ–Љ –љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і—Л –Я—С—В—А –Ї–∞–Ї –±—Л –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –≤ “—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Х–≤—А–Њ–њ—Л”. –Р –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Г—З–Є—В—М—Б—П —Г –Х–≤—А–Њ–њ—Л, –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ—А–љ—Г—В—М –≤—Б—О —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И—Г—О –≤–µ–Ї–∞–Љ–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≥–Њ—А–Њ–є —Б—В–Њ—П–ї –Ш–Њ–∞–Ї–Є–Љ. –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –Є—Б–Ї–Њ—А–µ–љ–Є—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Ї–∞–Ї –Њ –Ј–µ–Љ–ї—П—Е –≥—А–µ—И–љ—Л—Е, —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В—М –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ї–∞–Ї –Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤—Б—С —Б–≤—П—В–Њ –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –Љ–µ–љ—П—В—М. –Ґ–∞–Ї –Љ—Л—Б–ї–Є–ї —Ж–∞—А—М - —Г –љ–µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ —Б–Њ–±–Њ–є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ—В—Б—В–∞–ї–∞—П –†—Г—Б—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–∞ –њ–µ—А–µ–љ–Є–Љ–∞—В—М –Њ–њ—Л—В –Є –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М —Г –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ч–∞–њ–∞–і–∞. –Э–Њ –і–Њ –њ–Њ—А—Л –і–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Н—В–Є —Б–≤–Њ–Є –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –Љ–Њ–љ–∞—А—Е –љ–µ –∞—Д–Є—И–Є—А–Њ–≤–∞–ї - —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Б–Є–ї—М–љ—Л –µ—Й—С –±—Л–ї–Є —А–µ–≤–љ–Є—В–µ–ї–Є —Б—В–∞—А–Њ–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л.
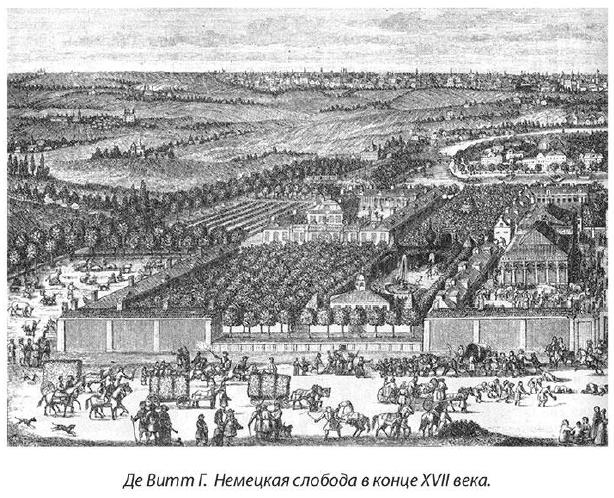
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ш–Њ–∞–Ї–Є–Љ–∞ (–≤ –Љ–∞—А—В–µ 1690 –≥–Њ–і–∞) –Я—С—В—А —А–µ—И–Є–ї—Б—П –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–µ–±–µ –љ–Њ–≤—Л–є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –Ї–Њ—Б—В—О–Љ: –Ї–∞–Љ–Ј–Њ–ї, —З—Г–ї–Ї–Є, –±–∞—И–Љ–∞–Ї–Є, —И–њ–∞–≥—Г –љ–∞ —И–Є—В–Њ–є –њ–µ—А–µ–≤—П–Ј–Є –Є –њ–∞—А–Є–Ї. –Э–Њ –љ–Њ—Б–Є—В—М —Н—В—Г –Њ–і–µ–ґ–і—Г —Ж–∞—А—М —А–µ—И–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–Ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—А–µ–і–Є –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–µ–≤, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–Њ–є –ґ–µ –Э–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ –≤ —Б–Є–ї—Г —А—П–і–∞ –њ—А–Є—З–Є–љ (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є “—Б–µ—А–і–µ—З–љ—Л—Е”) —В–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–µ—В –≤—Б—С —З–∞—Й–µ –Є —З–∞—Й–µ. –Х–≥–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–є –і—А—Г–≥ –§—А–∞–љ—Ж –Ы–µ—Д–Њ—А—В, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Т–Њ–ї—М—В–µ—А–∞, “—Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј—Г—О—Й–µ–µ” –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ –Я–µ—В—А–∞, –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї –љ–∞ —О–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П –Є –≤ –≤—Л–±–Њ—А–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л - —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –≤ 1691 –≥–Њ–і—Г —Ж–∞—А—М –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –Ы–µ—Д–Њ—А—В—Г, –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї—Б—П –љ–∞ –ї—О–і—П—Е –≤–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–∞—В—М–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–і–µ—П–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–∞ –љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ы–µ—Д–Њ—А—В—Г —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ, –Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Г—Б—Л–њ–∞–љ–Њ –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є.
–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Я–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г –≤ 1697-1698 –≥–Њ–і–∞—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Є —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В—Л, —Й–µ–≥–Њ–ї—П–≤—И–Є–µ –њ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—Л—И–љ—Л—Е –±–Њ—П—А—Б–Ї–Є—Е –Њ–і–µ–ґ–і–∞—Е, —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–ї—П –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤, –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1698 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞–і–µ–ї–Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ. –°–Њ–±—Л—В–Є–µ —Н—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Я–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, 12 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1699 –≥–Њ–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П “–±–∞—В–∞–ї–Є—П” –Я–µ—В—А–∞ I —Б –і–Њ–ї–≥–Њ–њ–Њ–ї—Л–Љ –Є —И–Є—А–Њ–Ї–Њ—А—Г–Ї–∞–≤–љ—Л–Љ –њ–ї–∞—В—М–µ–Љ. –Я—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —Н—В–Њ –љ–∞ —И—Г—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–Є –Ы–µ—Д–Њ—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –Ї—Г–і–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ—Б—В–Є —П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–µ: –≤ —П—А–Ї–Є—Е –Ј–Є–њ—Г–љ–∞—Е, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–≤–µ—А—Е—Г –±—Л–ї–Є –љ–∞–і–µ—В—Л –Ї–∞—Д—В–∞–љ—Л —Б –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–≤–∞–Љ–Є, —Б—В—П–љ—Г—В—Л–Љ–Є —Г –Ј–∞–њ—П—Б—В—М—П –Ј–∞—А—Г–Ї–∞–≤—М—П–Љ–Є. –Я–Њ–≤–µ—А—Е –Ї–∞—Д—В–∞–љ–∞ –Ї—А–∞—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Д–µ—А—П–Ј—М - —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ –Є –і–ї–Є–љ–љ–Њ–µ –±–∞—А—Е–∞—В–љ–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ, –Ј–∞—Б—В—С–≥–љ—Г—В–Њ–µ –љ–∞ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ—Г–≥–Њ–≤–Є—Ж. –Э–∞—А—П–і –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞–ї–∞ —И—Г–±–∞ —Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —В—Г–ї—М–µ–є. –Ю—З–µ–≤–Є–і–µ—Ж, –љ–∞–±–ї—О–і–∞–≤—И–Є–є –Ј–∞ —Ж–∞—А—С–Љ –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М, —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –≤–Ј—П–ї –љ–Њ–ґ–љ–Є—Ж—Л –Є —Б—В–∞–ї —Г–Ї–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—В—М –≥–Њ—Б—В—П–Љ —А—Г–Ї–∞–≤–∞, –њ—А–Є–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П: “–≠—В–Њ - –њ–Њ–Љ–µ—Е–∞, –≤–µ–Ј–і–µ –љ–∞–і–Њ –ґ–і–∞—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П, —В–Њ —А–∞–Ј–Њ–±—М—С—И—М —Б—В–µ–Ї–ї–Њ, —В–Њ –њ–Њ –љ–µ–±—А–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–њ–∞–і—С—И—М –≤ –њ–Њ—Е–ї—С–±–Ї—Г; –∞ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ (—Ж–∞—А—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ—В—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Ї—Г—Б–Ї–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–Є) –Љ–Њ–ґ–µ—И—М —Б—И–Є—В—М —Б–µ–±–µ —Б–∞–њ–Њ–≥–Є.” –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л–µ —Г–ґ–µ “—Й–µ–≥–Њ–ї—П–ї–Є –њ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г —Ж–∞—А—П-–±–∞—В—О—И–Ї–Є –≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –Є —Г–і–Њ–±–љ—Л—Е –Ї–∞—Д—В–∞–љ–∞—Е –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ—П, –њ—А–Є—З—С–Љ —Б—Г–Ї–Њ–љ–љ—Л—Е, –∞ –љ–µ —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ—Л—Е, –Ї–∞–Ї —А–∞–љ—М—И–µ”.
–Т–∞–ґ–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ–і—И–Є—Е –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ. –Ш–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ–∞—П –Њ–і–µ–ґ–і–∞, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ї–љ—П–Ј—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –©–µ—А–±–∞—В–Њ–≤–∞, “–Њ—В–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Г –Љ–µ–ґ–і—Г —А–Њ—Б—Б–Є—П–љ–∞–Љ–Є –Є —З—Г–ґ–µ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є” –Є - –і–∞–ґ–µ —З–Є—Б—В–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ - –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—В–∞ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ “–≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –Х–≤—А–Њ–њ–Є–Є”. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —В–∞–Ї–∞—П –Њ–і–µ–ґ–і–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Љ–∞—А–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ (–Њ–љ–∞ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤—Л—Б—И–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞), –≤ –µ—С –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞ –і–∞–ґ–µ –≤–љ–µ—И–љ–µ –Њ—В–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П –Њ—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–є.
–Э–Њ “—З—Г–ґ–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ” (–Ї–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –Я—С—В—А) - —Н—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–µ, –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ–µ; –Њ–љ–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б–Њ–±–Њ–є –≤—Л—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –∞–≤–∞–љ—Б—Ж–µ–љ—Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є “–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–∞”, —В–Њ –µ—Б—В—М “–Њ–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞”, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ, –љ–Њ –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ-–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–∞–Љ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞. –Т –љ—С–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б–Њ—З–µ—В–∞—В—М—Б—П “—Г—З—С–љ–Њ—Б—В—М”, –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –і–Њ–±–ї–µ—Б—В—М, –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є–і–µ–µ “–Њ–±—Й–µ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–∞”, –±–µ—Б–Ї–Њ—А—Л—Б—В–Є–µ, –≥–∞–ї–∞–љ—В–љ–Њ—Б—В—М. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –љ–Њ–≤–Њ–≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Њ–і–µ–ґ–і—Л –±—Л–ї–Є –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Њ–є –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Л—Е —А–µ—Д–Њ—А–Љ, —Б –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞—Б–Ї–Њ—А—Г–Ј–ї–Њ–є –Ї—Б–µ–љ–Њ—Д–Њ–±–Є–Є –Є –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л. –Ю—З–µ–љ—М —В–Њ—З–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≤ XVIII –≤–µ–Ї–µ –њ–Є–Є—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°—Г–Љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–≤: “–Т –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–µ –Њ–і–µ—П–љ–Є—П. –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Я–µ—В—А—Г –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–Є –Љ–∞–ї–µ–є—И–Є—П –љ—Г–ґ–і—Л, –µ–ґ–µ–ї–Є –±—Л —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ –љ–µ –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Њ –±—Л —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А—П–Љ—Б—В–≤–∞. –°–Є—П –µ—Б—В—М –њ–µ—А–≤–∞—П –µ—А–µ—Б—М –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–∞–µ–Љ—Г—Б—П –≤–µ–Ї—Г –Њ—В —Б—Г–µ–≤–µ—А–Њ–≤ –љ–∞–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–∞—П”.
–Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Њ “—Б—Г–µ–≤–µ—А–∞—Е”. –Ъ–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –С–Њ—А–Є—Б –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є, –Ј–∞–Љ–µ–љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞—В—М—П –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–ї–∞ –Њ—Б–Њ–±—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –Њ–і–µ—П–љ–Є–Є –љ–∞ –Є–Ї–Њ–љ–∞—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї–Є –±–µ—Б–Њ–≤. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Н—В–Њ—В –Њ–±—А–∞–Ј –±—Л–ї –і–∞–≤–љ–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –≤–њ–Є—Б—Л–≤–∞—П—Б—М –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ–µ –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, “–Я—С—В—А –љ–∞—А—П–і–Є–ї –ї—О–і–µ–є –±–µ—Б–∞–Љ–Є”.
–Ш–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ –Є –Є–љ—Л–µ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є. –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –Я–µ—В—А –Я–µ–Ї–∞—А—Б–Ї–Є–є —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Њ–± –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–љ–Њ–є –≤ —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –ѓ–љ–∞ –Ґ–µ—Б—Б–Є–љ–≥–∞ –≥—А–∞–≤—О—А–µ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –≤ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–µ. –Ф–∞–ї–µ–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В–µ–Ї—Б—В:
–Р—Е, –∞—Е, –Љ–Є—А –Њ –≤–µ—З–љ–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–Љ—Г –љ–µ –њ–Њ–Љ—Л—И–ї—П–µ—В,
–•–Њ–і–Є—В –≤ —Б—Г–µ—В–љ–Њ–Љ —Г–±—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –Є —Б–Є–Љ —Б—П —Г–Ї—А–∞—И–∞–µ—В,
–Т –ї—О–±–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–µ –Є—Й–µ—В —Б–µ–±—П —Г–і–Њ–≤–Њ–ї–Є—В–Є,
–І—А–µ–Ј –њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ—З—В–Њ —В–∞–є–љ–Њ —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–Є!.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ—Л –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П–ї–Є –Ј–і–µ—Б—М –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–ї—О–±–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ “—Б—В–∞—А–Њ–≤–µ—А–Њ–≤” –љ–Њ–≤–Њ–≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ, 4 —П–љ–≤–∞—А—П 1700 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –Є–Ј–і–∞–љ –£–Ї–∞–Ј, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –≤—Б—С –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ “–љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е”, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ –Є –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –љ–Њ—Б–Є—В—М –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ “–љ–∞ –Љ–∞–љ–µ—А –≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ”. –Я–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –ґ–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л –≤–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Г–ґ–µ “–њ–ї–∞—В—М–µ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–µ –Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–µ”, –њ—А–Є—З—С–Љ, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –Љ—Г–ґ—З–Є–љ, –љ–Њ –Є –і–ї—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –Я–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–Њ –Є –Ї–∞—А–∞–ї–Њ—Б—М —И—В—А–∞—Д–Њ–Љ: —Г –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л —Б—В–Њ—П–ї–Є —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Є “–Є —Б –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г–Ї–∞–Ј—Г –±—А–∞–ї–Є –њ–Њ—И–ї–Є–љ—Г –і–µ–љ—М–≥–∞–Љ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ [—Б—В–∞—А–Њ–Љ–Њ–і–љ–Њ–µ - –Ы.–С.] —А–µ–Ј–∞–ї–Є –Є –і—А–∞–ї–Є”.
–Э–∞—А—П–і—Г —Б –Њ–±–Є—Е–Њ–і–љ—Л–Љ, –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —Г–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Є –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–Љ—Г –њ–ї–∞—В—М—О. –Х–≥–Њ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –£–Ї–∞–Ј—Г –Њ—В 18 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1702 –≥–Њ–і–∞, –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –љ–Њ—Б–Є—В—М –≤—Б–µ–Љ, –Њ—В “—Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–µ–є” –і–Њ “–љ–Є–ґ–љ–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –ї—О–і–µ–є”, “–≤ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–µ –Є —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–љ–Є”; –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—В—А–Њ–≥–Њ –Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–Њ–Љ—Г –Є –Ї–∞–Ї–Њ–є –Ї–∞—Д—В–∞–љ, –Ї–∞–Ї–Њ–є –Ї–∞–Љ–Ј–Њ–ї –Є –Є–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–∞–і–µ–≤–∞—В—М. –Ф–ї—П –Я–µ—В—А–∞ I —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—В—Б–Ї–∞—П –Њ–і–µ–ґ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –ї–Є—И—М —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–≤—И–Є–Љ –µ–≥–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ —Б—В–∞—А–Є–љ—Л. –Р —В–µ–њ–µ—А—М “–њ–µ—А–µ–Њ–і–µ—В—Л–є –≤ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ, –Є–Ј–±–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –Њ—В –і–ї–Є–љ–љ—Л—Е —А—Г–Ї–∞–≤–Њ–≤, —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —В—П–ґ—С–ї—Л—Е –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е —И–∞–њ–Њ–Ї –Є —И—Г–± –і–Њ –Ј–µ–Љ–ї–Є, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї –Є–љ–∞—З–µ –і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П, –∞ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–љ–∞—З–µ –ґ–Є—В—М –Є –Љ—Л—Б–ї–Є—В—М”.
–Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –†. –С–µ–ї–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–∞—П –Є –Ы. –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Ж–∞—А—М, –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVII –≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –Љ–µ—З—В–∞–ї –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–Њ–є –Є —Б–µ—В–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Ы—О–і–Њ–≤–Є–Ї XIV –љ–µ –њ—Г—Б—В–Є–ї –µ–≥–Њ –≤ —Н—В—Г —Б—В—А–∞–љ—Г. –Ш —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Я–µ—В—А –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –≤–ї–∞–і–µ–ї –≥–Њ–ї–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–Љ –Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є, –∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Ј–љ–∞–ї –њ–ї–Њ—Е–Њ, —В–Њ –Є—Б–Ї–∞–ї –љ—Г–ґ–љ—Л–µ –µ–Љ—Г –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –≤ –У–Њ–ї–ї–∞–љ–і–Є–Є –Є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ъ. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–∞—В–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Љ–µ “–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В –У–Њ—Б—В–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞ –і–Њ –Ґ–Є–Љ–∞—И–µ–≤–∞” –њ–Є—Б–∞–ї –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г:
–Т–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—П –Њ—В—В—Г–і–∞ [–Є–Ј-–Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л - –Ы.–С.],
–Ю–љ –≥–ї–∞–і–Ї–Њ –љ–∞—Б –њ–Њ–±—А–Є–ї,
–Р –Ї —Б–≤—П—В–Ї–∞–Љ, —В–∞–Ї —З—В–Њ —З—Г–і–Њ,
–Т –≥–Њ–ї–ї–∞–љ–і—Ж–µ–≤ –љ–∞—А—П–і–Є–ї.
–°–Ї–∞–ґ–µ–Љ –Ї—Б—В–∞—В–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є –Ї–Њ—Б—В—О–Љ, –≤–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Я–µ—В—А–Њ–Љ I (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –µ–≥–Њ –≥–Њ–ї–ї–∞–љ–і—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М), “—Б–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞ XVII –≤–µ–Ї–∞. –Ъ XVIII –≤–µ–Ї—Г –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ–±—Й–µ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ. –§—А–∞–љ—Ж–Є—П —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ—З—В–Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –љ–Њ–≤—Л—Е —Д–Њ—А–Љ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –Љ–Њ–і –љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П”. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ–љ–Ї—Г—О —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Г –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞–Љ–Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і—Л (“—Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Б–Ї–∞—П”,“–љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–∞—П”, “–≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–∞—П”–Є —В. –і.), –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –Є–Љ–µ–ї–Є –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л–є –Ї—А–Њ–є, –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–є –Ї —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—Б—В—О–Љ—Г, –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –Я–µ—В—А–Њ–Љ –љ–µ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Њ–њ–Њ—Б—А–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ. –Ш –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Ф–ґ–Њ–љ–∞ –Я–µ—А—А–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –Њ–і–µ–ґ–і–µ —Ж–∞—А—М —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і–µ, –ї–Є—И–љ–Є–є —А–∞–Ј –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –≤—Л–≤–Њ–і –Њ–± —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞. –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—Б—В—О–Љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Ж–∞—А—М, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –µ—Й—С “–≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ”, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –њ–Њ–і –њ—А—П–Љ—Л–Љ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞. –Я—С—В—А –ґ–µ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –±—Л–ї –њ—А–Є–≤–µ—А–ґ–µ–љ—Ж–µ–Љ “—Б—В—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Є–ї—П –≤ –Њ–і–µ–ґ–і–µ”, —Ж–µ–љ–Є–ї –µ—С —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є –љ–µ —В–µ—А–њ–µ–ї —Г–Ї—А–∞—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤. –Т —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л –≥–Њ–љ–µ–љ–Є—П —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ—Ж–∞ –љ–∞ “–Њ–і–µ–ґ–і—Л –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ—Л—И–љ—Л–µ –Є —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є—П –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–µ” –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –±–Њ—П—А.
–Ш–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж—Л, –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–≤—И–Є–µ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—О –≤ XV-XVII –≤–µ–Ї–∞—Е, –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є “—А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ–Њ–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ –і–≤–Њ—А—П–љ”, –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, “–Њ–і–µ—В—Л—Е –њ–Њ-—В—Г–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–∞–Љ—Л–Љ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ”, “–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –ї—О–і–µ–є –≤ –њ–∞—А—З–Њ–≤—Л—Е —Е–∞–ї–∞—В–∞—Е –Є —И–∞–њ–Ї–∞—Е –Є–Ј —З–µ—А–љ–Њ–±—Г—А—Л—Е –ї–Є—Б–Є—Ж”, —Ж–∞—А—П, –≤–Њ—Б—Б–µ–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–µ –≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–µ, –≤–µ—Б–Є–≤—И–µ–є –і–≤–µ—Б—В–Є —Д—Г–љ—В–Њ–≤. –Т –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ґ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ —А–Њ—Б—Б–Є—П–љ–Њ–Ї. –Р–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В –±–∞—А–Њ–љ –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ —Д–Њ–љ –Ь–µ–є–µ—А–±–µ—А–≥ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ XVII –≤–µ–Ї–µ: “–£ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –≤—Б–µ—Е —А–∞–Ј—А—П–і–Њ–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є–Є –≤—Б–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –≤. –љ–∞—А—П–і–∞—Е: –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞—П –Ї—Г–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М, –Њ–љ–Є –љ–Њ—Б—П—В –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ–ї–∞—В—М–µ –і–Њ—Е–Њ–і—Л —Б–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –љ–∞–њ–Њ–Ї–∞–Ј –≤—Б–µ –њ—Л—И–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞—А—П–і–Њ–≤”. –Т —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ—Л–Љ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –©–µ—А–±–∞—В–Њ–≤–∞, –±—Г–і—В–Њ –±—Л —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Я–µ—В—А–∞ I –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–µ–і–∞–ї–Є—Б—М —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–Є. –Я–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ XX –≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є –і–≤–Њ—А–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ—Л—И–љ—Л–µ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –±–∞–ї—Л (–Э–Њ–≤—Л–є –≥–Њ–і –њ–Њ-–Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є, –њ–Њ-—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ) - –њ–Њ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—О, —Б–∞–Љ—Л–Љ —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б–Ї–∞—А–∞–і–Њ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —Б—В–∞—А–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–є (1903 –≥–Њ–і–∞), –≥–і–µ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е —Й–µ–≥–Њ–ї—П–ї –њ—Г–і–Њ–≤—Л–Љ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞.
–†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–µ—А–≤–Њ–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є XVIII –≤–µ–Ї–∞, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –≤ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і–µ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞, –љ–Њ –Є –Њ —Ж–µ–ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –Ј–∞–њ—А–µ—В –љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—А–Њ–і–∞–≤–љ–µ–є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—В—Б–Ї–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і—Л –Є –±–Њ—А–Њ–і—Л. –Т —А—П–і—Г –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—Й—Г–љ—Б—В–≤ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П —И—Г—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–∞–і—М–±—Л, –≥–і–µ –±–Њ—А–Њ–і–∞—В—Л—Е —И—Г—В–Њ–≤ –Є –Є—Е –≥–Њ—Б—В–µ–є —Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—А—П–ґ–∞–ї–Є –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ —Б–≤–∞–і—М–±–µ —И—Г—В–Њ–≤, –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ –≤ –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Љ–∞—Б–Ї–∞—А–∞–і–љ–Њ–≥–Њ.
–Ґ–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ, –≤ XVIII –≤–µ–Ї–µ, –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—Б—В–Њ–≤ –Є —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤ –љ–∞–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є, –љ–∞–і–µ–≤–∞—П –љ–∞ –љ–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї—Г—О, —В–Њ –µ—Б—В—М —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Г—О –Њ–і–µ–ґ–і—Г. –£–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, —З—В–Њ –Я–µ—В—А –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і –Э–∞—А–≤–Њ–є —Б –≥–Њ—А—П –Њ–±–ї–∞—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—Б—В—О–Љ, –Ї–∞–Ј–љ—П —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–∞–Љ —Б–µ–±—П, –Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–ї–∞—З–µ—В –љ–∞–≤–Ј—А—Л–і.
–У–Њ–≤–Њ—А—П –Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞, —Г–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М –≥–µ—А–Њ—П –±—Л–ї–Є–љ –±–Њ–≥–∞—В—Л—А—П-—Й–∞–њ–∞ (—Д—А–∞–љ—В–∞) –І—Г—А–Є–ї—Г –Я–ї–µ–љ–Ї–Њ–≤–Є—З–∞, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ “–°–±–Њ—А–љ–Є–Ї–µ –Ъ–Є—А—И–Є –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤–∞”. –≠—В–Њ —В–Є–њ–Є—З–љ—Л–є —Й–µ–≥–Њ–ї—М-–Ї—А–∞—Б–∞–≤–µ—Ж —Б “–ї–Є—З–Є–Ї–Њ–Љ, –±—Г–і—В–Њ –±–µ–ї—Л–є —Б–љ–µ–≥, –Њ—З–∞–Љ–Є —П—Б–љ–∞ —Б–Њ–Ї–Њ–ї–∞ –Є –±—А–Њ–≤—П–Љ–Є —З–µ—А–љ–∞ —Б–Њ–±–Њ–ї—П”, –±–∞–±—Б–Ї–Є–є —Г–≥–Њ–і–љ–Є–Ї –Є –Ф–Њ–љ –Ц—Г–∞–љ. –Ш–Ј –≤—Б–µ—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н–њ–Њ—Б–∞ –Њ–љ –Њ–і–Є–љ –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—Б—П –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В–µ: –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–Њ—Б—П—В “–њ–Њ–і—Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Є–Ї” (–Ј–Њ–љ—В), –њ—А–µ–і–Њ—Е—А–∞–љ—П—О—Й–Є–є –ї–Є—Ж–Њ –Њ—В –Ј–∞–≥–∞—А–∞. –Ю—В –Ї—А–∞—Б—Л, “–ґ–µ–ї—В—Л—Е –Ї—Г–і—А–µ–є –Є –Ј–ї–∞—З–µ–љ—Л—Е –њ–µ—А—Б—В–љ–µ–є” –І—Г—А–Є–ї—Л —Г –ґ–µ–љ—Л –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П “–њ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї—Б—П —А–∞–Ј—Г–Љ –≤ –±—Г–є–љ–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ, –њ–Њ–Љ—Г—В–Є–ї–Є—Б—М –Њ—З–Є —П—Б–љ—Л–µ”. –Ф–∞–µ—В—Б—П –≤ –±—Л–ї–Є–љ–µ –Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Б–∞–њ–Њ–≥ –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–±–ї—Г–Ї–µ: “–Ш–Ј-–њ–Њ–і –љ–Њ—Б–Ї–∞ —Б–Њ–ї–Њ–≤–µ–є –њ—А–Њ–ї–µ—В–Є, –∞ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –њ—П—В–Њ—З–Ї–Є —П–є—Ж–Њ –Ї–∞—В–Є”. –Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї XVIII –≤–µ–Ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ґ–∞—В–Є—Й–µ–≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї, —З—В–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ–Њ–Љ –І—Г—А–Є–ї—Л –±—Л–ї –Ї–љ—П–Ј—М –Ъ–Є—А–Є–ї–ї-–Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і –Ю–ї—М–≥–Њ–≤–Є—З (1116-1146): “–°–µ–є –Ї–љ—П–Ј—М. –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–ї–Њ–ґ–љ–Є—Ж –Є–Љ–µ–ї –Є –±–Њ–ї–µ–µ –≤ –≤–µ—Б–µ–ї–Є—П—Е, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є —А–∞—Б–њ—А–∞–≤–∞—Е —Г–њ—А–∞–ґ–љ—П–ї—Б—П. –І—А–µ–Ј —Б–Є–µ –Ї–Є–µ–≤–ї—П–љ–∞–Љ —В—П–≥–Њ—Б—В—М –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Є –Ї–∞–Ї —Г–Љ–µ—А, —В–Њ –µ–і–≤–∞ –Ї—В–Њ –њ–Њ –љ–µ–Љ –Ї—А–Њ–Љ–µ –±–∞–± –ї—О–±–Є–Љ—Л—Е –Ј–∞–њ–ї–∞–Ї–∞–ї”. –§–∞–Ї—В—Л —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В, —З—В–Њ –Я–µ—В—А I –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л–ї –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ —Б –±—Л–ї–Є–љ–∞–Љ–Є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ–Љ —Й–µ–≥–Њ–ї–µ, –љ–Њ –Є –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ–Њ –њ–∞—А–Њ–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї –µ–≥–Њ: “–£ –љ–µ–≥–Њ –≤—Б–µ —З–Є–љ—Л –Т—Б–µ—И—Г—В–µ–є—И–µ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Ј–≤–∞–ї–Є—Б—М –І—Г—А–Є–ї–∞–Љ–Є, —Б —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є–±–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є”.
–Э–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ–Љ —А–Њ—Б–Ї–Њ—И—М, –±–µ—Б–Є–ї–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ—Б—В—М –≤ –њ–ї–∞—В—М–µ. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Я–µ—В—А–Њ–Љ I “–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –Њ–і–µ–ґ–і–∞ –≤–Ј—П—В–∞ –±–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ –Њ—В–±–Њ—А–∞, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –µ–µ –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л”, –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–µ—А–љ–Њ. –Т 1720-–µ –≥–≥. XVIII –≤–µ–Ї–∞ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –±—Л–ї –Њ–≥–ї–∞—И—С–љ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —Г–Ї–∞–Ј –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–∞: “–Э–∞–Љ–Є –Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–µ –Є –≤ –∞—Б—Б–∞–Љ–±–ї–µ—П—Е –Э–Х–Ф–Ю–†–Ю–°–Ы–Ш –Њ—В—Ж–Њ–≤ –Є–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е, –Ї–∞–Ї-—В–Њ: –Ї–љ—П–Ј–µ–є, –≥—А–∞—Д–Њ–≤ –Є –±–∞—А–Њ–љ–Њ–≤, –≤ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —Н—В–Є–Ї–µ—В—Г –Є —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В—Г —И—В–Є–ї—П –≤ –≥–Є—И–њ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–Љ–Ј–Њ–ї–∞—Е –Є –њ–∞–љ—В–∞–ї–Њ–љ–∞—Е —Й–µ–≥–Њ–ї—П—О—В –њ—А–µ–і–µ—А–Ј–Ї–Њ:
–У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ—Г –Я–Њ–ї–Є—Ж–Љ–µ–є—Б—В–µ—А—Г –°–Р–Э–Ъ–Ґ-–Я–Х–Ґ–Х–†–С–£–†–У–Р –£–Ъ–Р–Ч–Р–Э–Ю: –Є–љ—Л—Е —Й–µ–≥–Њ–ї–µ–є —Б –Њ—В–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ —А–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –≤—Л–ї–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М, —Б–≤–Њ–Ј–Є—В—М –≤ –ї–Є—В–µ–є–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –Є –±–Є—В—М –±–∞—В–Њ–≥–∞–Љ–Є, –њ–Њ–Ї–∞ –Њ—В –≥–Є—И–њ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–љ—В–∞–ї–Њ–љ –Є –Ї–∞–Љ–Ј–Њ–ї–Њ–≤ –Ј–µ–ї–Њ –њ–Њ—Е–∞–±–љ—Л–є –≤–Є–і –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П. –Э–∞ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Є –Є–Љ–µ–љ–Є—В–Њ—Б—В—М –Њ—В—Ж–Њ–≤ –љ–µ –≤–Ј–Є—А–∞—В—М, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–∞ –≤–Њ–њ–ї–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ—Л—Е”. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Є–Ј —Б—Д–µ—А—Л –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Њ–і–µ–ґ–і–∞.
–Я–Њ—З–µ–Љ—Г –ґ–µ –Њ–і–Є–љ –µ–µ –≤–Є–і –≤—Л–Ј–≤–∞–ї —Г —Ж–∞—А—П —В–∞–Ї—Г—О –Њ—В—З–∞—П–љ–љ—Г—О —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—О? –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–∞ “–≥–Є—И–њ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞–Љ–Ј–Њ–ї –Є –њ–∞–љ—В–∞–ї–Њ–љ—Л”, –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г, –љ–Њ –Ї —Ж–Є–≤–Є–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—Б—В—О–Љ—Г. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є, –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—Б—В—О–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј –Ї–∞–Љ–Ј–Њ–ї–∞, —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Њ–є —И–ї—П–њ—Л, –Ї—А—Г–ґ–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—А–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –Є –Љ–∞–љ–ґ–µ—В, –љ–Њ “–љ–Є–ґ–љ—П—П –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М –љ–Њ—Б–Є–ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є–љ–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А: —И–Є—А–Њ–Ї–Є–µ –њ–∞–љ—В–∞–ї–Њ–љ—Л –і–Њ—Е–Њ–і—П—В –і–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ, –љ–∞ –љ–Њ–≥–Є –љ–∞–і–µ–≤–∞—О—В—Б—П –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ —З—С—А–љ—Л–µ —З—Г–ї–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є–Ї—А–µ–њ–ї—П—О—В—Б—П –Ї –њ–∞–љ–∞—В–∞–ї–Њ–љ–∞–Љ –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ–Є –њ–Њ–і–≤—П–Ј–Ї–∞–Љ–Є, –Њ—В–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї—А—Г–ґ–µ–≤–Њ–Љ, –Є —И—С–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ –±–∞—И–Љ–∞–Ї–Є —Б –±–∞–љ—В–∞–Љ–Є –Є–ї–Є —А–Њ–Ј–µ—В–Ї–∞–Љ–Є –Є–Ј –Ї—А—Г–ґ–µ–≤ –Є–ї–Є —Ж–≤–µ—В–љ–Њ–≥–Њ —И—С–ї–Ї–∞”.
–Э–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –У–µ—А–Љ–∞–љ –Т–µ–є—Б –њ–Њ—П—Б–љ–Є–ї, —З—В–Њ –ґ–Є–ї–µ—В (–Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є, –±–µ–Ј—А—Г–Ї–∞–≤–љ—Л–є –Ї–∞–Љ–Ј–Њ–ї), —Г–Ј–Ї–Є–µ –Є–ї–Є —И–Є—А–Њ–Ї–Є–µ —И—В–∞–љ—Л –і–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ, –њ–µ—А–µ—В—П–љ—Г—В—Л–µ –љ–∞ —В–∞–ї–Є–Є —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ —Ж–≤–µ—В–љ—Л–Љ –Ї—Г—И–∞–Ї–Њ–Љ; —З—Г–ї–Ї–Є; –Њ—Б—В—А–Њ–љ–Њ—Б—Л–µ –±–∞—И–Љ–∞–Ї–Є –±–µ–Ј –Ї–∞–±–ї—Г–Ї–Њ–≤ –Є –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л–µ –≥–µ—В—А—Л –љ–∞ –њ—Г–≥–Њ–≤–Є—Ж–∞—Е –µ—Й–µ –і–Њ–ї–≥–Њ –±—Л–ї–Є –≤ –Љ–Њ–і–µ. –Я–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–µ –љ–∞ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ—Б—М –Я–µ—В—А–Њ–Љ —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –Ї–∞–Ї –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞, –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–µ “–Њ—В–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–≤–µ–љ–Є—П” —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Є—Ж–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞ —Н—В–Њ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –±–Є—В—М –±–∞—В–Њ–≥–∞–Љ–Є, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ “–≤–Њ–њ–ї–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ—Л—Е”. –Ґ–∞–Ї–Є–µ, –њ–Њ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ—Л–µ –Љ–µ—А—Л —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, —Б –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –Є–Љ–њ—Г–ї—М—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –Я–µ—В—А–∞, –µ–≥–Њ –≥–Њ—А—П—З–љ–Њ—Б—В—М—О –≤ –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. (“–Я—С—В—А —Б–Ї–Њ—А –љ–∞ —А–∞—Б–њ—А–∞–≤—Г” - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ –љ—С–Љ). –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Ж–∞—А—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Є–і–µ–ї –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –≤ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ “–њ—А–µ–і–µ—А–Ј–Ї–Њ–≥–Њ” —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є –±—Л–ї –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ “–≥–Є—И–њ–∞–љ—Б–Ї–Є–є” –Ї–Њ—Б—В—О–Љ.
–Ю—З–µ–≤–Є–і–µ–љ –Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞. –Ґ–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ “–љ–µ–і–Њ—А–Њ—Б–ї–Є” –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ —И—А–Є—Д—В–Њ–Љ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М —Н—В–Њ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –≤ —А—П–і—Г –µ–≥–Њ —Г–Ј–∞–Ї–Њ–љ–µ–љ–Є–є –Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–Є. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ, –Я—С—В—А —Г—В–Њ—З–љ—П–µ—В –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ - –Њ–љ –∞–њ–µ–ї–ї–Є—А—Г–µ—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї –љ–µ–і–Њ—А–Њ—Б–ї—П–Љ –Є–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е –Њ—В—Ж–Њ–≤, –Ї–∞–Ї-—В–Њ: –Ї–љ—П–Ј–µ–є, –≥—А–∞—Д–Њ–≤ –Є –±–∞—А–Њ–љ–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ–љ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, —Г–ґ–µ –≤ XX –≤–µ–Ї–µ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ “–њ–ї–µ—Б–µ–љ–Є” –Є–ї–Є “–Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і—С–ґ–Є”. –Ш —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–∞—П –њ—А–Њ—Б–ї–Њ–є–Ї–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і—С–ґ–Є, —Б–њ—А—П—В–∞–≤—И–∞—П—Б—П –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ—Л –±–Њ–≥–∞—В—Л—Е –Є —З–Є–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –Њ—В—Ж–Њ–≤, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Г –Я–µ—В—А–∞ —Б —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ.
–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ —Г–Ї–∞–Ј–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ: “–Э–∞ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Є –Є–Љ–µ–љ–Є—В–Њ—Б—В—М –Њ—В—Ж–Њ–≤ –љ–µ –≤–Ј–Є—А–∞—В—М”. –Ш —Н—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Д—А–∞–Ј–∞, —Н—В–Њ - –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–љ–∞—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П, –Њ—В–≤–µ—А–≥–∞–≤—И–∞—П –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–≤—И–∞—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ –µ–≥–Њ “–≥–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є”, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ–Њ –ї–Є—З–љ—Л–Љ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞–Љ. –Э–∞ —В–∞–Ї–Є—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞—Е –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ –≤—Б—С –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Н–њ–Њ—Е–Є (–Є –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–∞—П “–Ґ–∞–±–µ–ї—М –Њ —А–∞–љ–≥–∞—Е”, 1722 –≥–Њ–і–∞). –Ш –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Ж–∞—А—М –Ї–∞—А–∞–ї –љ–∞—А—Г—И–Є—В–µ–ї–µ–є, –љ–µ–≤–Ј–Є—А–∞—П –љ–∞ —З–Є–љ–Њ–≤–љ—Г—О —А–Њ–і–љ—О. –Т–Њ—В –ї–Є—И—М –Њ–і–Є–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–∞–Ї—В: –Њ–љ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –®–µ—А–µ–Љ–µ—В–µ–≤–∞, –њ–Њ—Б–Љ–µ–≤—И–µ–≥–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Г—З—С–±—Г –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г, –ґ–µ–љ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –і–Њ—З–µ—А–Є –Ї–љ—П–Ј—П-–Ї–µ—Б–∞—А—П –§–µ–і–Њ—А–∞ –†–Њ–Љ–Њ–і–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.
–¶–∞—А—М –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ —Г–Ї–∞–Ј–µ –Є –Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Ж–∞–Љ–Є –≤ “–≥–Є—И–њ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е” –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞—Е —Н—В–Є–Ї–µ—В–∞ –Є “—А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞ —И—В–Є–ї—П” —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ю –Ї–∞–Ї–Њ–Љ —Н—В–Є–Ї–µ—В–µ –Є–і—С—В –Ј–і–µ—Б—М —А–µ—З—М? –Т–µ–і—М –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ—Л–є —Н—В–Є–Ї–µ—В, —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Б—В–µ—Б–љ—П–ї–Є –Я–µ—В—А–∞. –Ґ–∞–Ї, –і–∞—В—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–Є–Ї –Ѓ—Б—В –Ѓ–ї—М –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї: “–Ю —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є—П—Е –Њ–љ –љ–µ –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—Б—П –Є –љ–µ –њ—А–Є–і–∞—С—В –Є–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –њ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Љ–µ—А–µ –і–µ–ї–∞–µ—В –≤–Є–і, —З—В–Њ –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В –љ–∞ –љ–Є—Е –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ, –≤ —З–Є—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ—Л—Е –љ–µ—В –љ–Є –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞, –љ–Є —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–є–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞, –љ–Є –Ї–∞–Љ–µ—А-—О–љ–Ї–µ—А–∞, –∞ –∞—Г–і–Є–µ–љ—Ж–Є—П –Љ–Њ—П —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –њ–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–µ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –љ–∞ –∞—Г–і–Є–µ–љ—Ж–Є—О”. –Р –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ–њ–Є—Б–∞–ї –Љ—Г—З–µ–љ–Є—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –љ–∞ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–Є –њ—А–Є—С–Љ–∞ –њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞ –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1723 –≥–Њ–і–∞: “–Ю–љ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—В–µ–ї –Њ—В –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Є —З–∞—Б—В–Њ –љ—О—Е–∞–ї —В–∞–±–∞–Ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–Њ–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї –і–ї–Є–љ–љ—Г—О –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–њ–∞—А–љ—Г—О —А–µ—З—М –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—Л—З–∞—О –њ–Њ–њ–Њ–ї–Ј –њ–Њ —Б—В—Г–њ–µ–љ—П–Љ —В—А–Њ–љ–∞, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞—В—М —А—Г–Ї—Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞. –° –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–љ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї –Є –≤—Л–±–µ–ґ–∞–ї –Є–Ј —В—А–Њ–љ–љ–Њ–є –Ј–∞–ї—Л, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–∞ —Г—В–Њ–Љ–Є–≤—И–∞—П –µ–≥–Њ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М”.
–Я–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –≥–Њ–≤–Њ—А—П –Њ–± —Н—В–Є–Ї–µ—В–µ, –Я—С—В—А –Є–Љ–µ–ї –≤ –≤–Є–і—Г —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—С–љ–љ—Л–µ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Љ–Њ—А–∞–ї–Є –Є —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞–љ–µ—А, —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–µ –і–ї—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –і–≤–Њ—А—П–љ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ю–і–љ–Њ –Є–Ј —В–∞–Ї–Є—Е —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤ - —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М, –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П —А—Г–Ї–Њ–є –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ–Љ—Ж–∞, —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–∞ –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї–∞, –њ–∞–љ–µ–≥–Є—А–Є—Б—В–∞ –Я–µ—В—А–∞ I –Ш–Њ–≥–∞–љ–љ–∞-–Т–µ—А–љ–µ—А–∞ –Я–∞—Г–Ј–µ, –≥–і–µ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П –њ—А—П–Љ—Л–µ –Є–љ–≤–µ–Ї—В–Є–≤—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –і–µ—В–µ–є –±–Њ–≥–∞—В—Л—Е –Њ—В—Ж–Њ–≤: “–Х—Б–ї–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –њ–Њ–і–∞—А—П—В –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ - –љ–µ —Е–≤–∞—Б—В–∞–є –Є–Љ, –Є –љ–µ —Б–Ї–∞—З–Є –њ–µ—А–µ–і –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Њ—В —А–∞–і–Њ—Б—В–Є: —Н—В–Њ –њ—А–Є—Б—В–Њ–є–љ–Њ –Њ–±–µ–Ј—М—П–љ–∞–Љ –Є –њ–∞–≤–ї–Є–љ–∞–Љ. –С–Њ–≥–∞—В—Л–є —Е–≤–∞—Б—В—Г–љ –≤ –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–ї–∞—В—М—П—Е –њ–Њ–љ–Њ—И–∞–µ—В –±–µ–і—Г –Є –љ–Є—Й–µ—В—Г –Є—Е –Є –ї—О–і–µ–є –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–љ—Л—Е —Г—З–Є–љ–Є—В. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —О–љ–Њ—И–∞–Љ –њ—А–Є–ї–Є—З–љ–Њ –љ–Њ—Б–Є—В—М —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ”.

–≠—В–Є–Ї–µ—В —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Њ–і–µ–ґ–і, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е, –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –Є –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —В–∞–љ—Ж–µ–≤ (–њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –≠—А–љ—Б—В–∞ –У–ї—О–Ї–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤ 1703 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В “–Ґ–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ—М —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е —Г—З—В–Є–≤—Б—В–≤”), —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–µ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г–Љ–µ–љ–Є–µ –њ–Є—Б–∞—В—М –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ. –Я—С—В—А I, –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞—П —Б–∞–Љ –≤ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–∞–љ–µ—А–∞–Љ–Є, —Е–Њ—В–µ–ї –≤–Є–і–µ—В—М –Є—Е —Г —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л—Е. –Ю–љ –і–∞–ґ–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –њ—А–Є –і–≤–Њ—А–µ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –µ—С –њ—Г–љ–Ї—В—Л –Ј–≤—Г—З–∞—В –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ: “–Э–µ —А–∞–Ј—Г–≤–∞—П, —Б–∞–њ–Њ–≥–∞–Љ–Є –Є–ї–Є –±–∞—И–Љ–∞–Ї–∞–Љ–Є, –љ–µ –ї–Њ–ґ–Є—В(—М)—Б—П –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є”; “–Ъ–Њ–Љ—Г –±—Г–і–µ—В –і–∞–љ–∞ –Ї–∞—А—В–∞ —Б –љ—Г–Љ–µ—А–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є, —В–Њ —В—Г—В —Б–њ–∞—В—М –Є–Љ–µ–µ—В. –Э–µ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є –љ–Є–ґ–µ –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г –і–∞—В—М, –Є–ї–Є –Њ—В –і—А—Г–≥–Њ–є –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є –≤–Ј—П—В—М”.
–Ш–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Ї —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—О –њ–Є—Б–µ–Љ –љ–∞ –≤—Б–µ —Б–ї—Г—З–∞–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –≤—А–Њ–і–µ –Ї–љ–Є–≥–Є “–Я—А–Є–Ї–ї–∞–і—Л, –Ї–∞–Ї–Њ –њ–Є—И—Г—В—Б—П –Ї–Њ–Љ–њ–ї–Є–Љ–µ–љ—В—Л —А–∞–Ј–љ—Л–µ” (1708 –≥.). –Ю—Б–Њ–±–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –≥–∞–ї–∞–љ—В–љ—Л–µ “–Я–Њ–Ј–і—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Ї –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї—Г”.
–Ш–Ј –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Є —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї—Б—П “—А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В —И—В–Є–ї—П” —Н–њ–Њ—Е–Є, –Ї—Г–і–∞ “–≥–Є—И–њ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞–Љ–Ј–Њ–ї –Є –њ–∞–љ—В–∞–ї–Њ–љ—Л” –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –≤–њ–Є—Б–∞–ї–Є—Б—М. –Ш, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Љ—Л –љ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, —З—В–Њ–±—Л –Ї—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞ –Њ–±–ї–∞—З–Є–ї—Б—П –≤ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л. –Э–Њ –і–µ–ї–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ. –Т–∞–ґ–µ–љ —Б–∞–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ - –Љ–Њ–љ–∞—А—Е –њ—А–Є—Б–≤–∞–Є–≤–∞–µ—В —Б–µ–±–µ –њ—А–∞–≤–Њ –≤–≤–Њ–і–Є—В—М, —А–∞–Ј—А–µ—И–∞—В—М –Є–ї–Є –ґ–µ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞—В—М —В—Г –Є–ї–Є –Є–љ—Г—О –Љ–Њ–і—Г –љ–∞ –Њ–і–µ–ґ–і—Г. –Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Њ–±—К—П–≤–Є—В—М –љ–µ—Г–≥–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ “–њ—А–µ–і–µ—А–Ј–Ї–Є–Љ —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ” - –Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ —А–µ—И–µ–љ–∞.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Я–µ—В—А –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї –Ї–∞–Ї —Й–µ–≥–Њ–ї–µ–є, —Е–Њ—В—П –Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М “–њ—А–µ–і–µ—А–Ј–Ї–Є—Е”, –Є —В–µ—Е –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У–Њ–≥–Њ–ї—М –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є “—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–Ї–∞—Д—В–∞–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є” (–≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Є–Ј—Г–≤–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е –Є—Б–њ–∞—З–Ї–∞–ї —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—Б—В—О–Љ —Б—Л–љ–∞ –±–Њ–≥–∞—В–Њ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞!). –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ш–≤–∞–љ–∞ –У–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Њ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ “—В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –њ–µ—В–Є–Љ–µ—В—А–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї –Њ–љ –Ј–∞ –ї—О–і–µ–є –љ–µ–≥–Њ–і–љ—Л—Е –Є –љ–Є –Ї —З–µ–Љ—Г –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л—Е”. –°–ї–Њ–≤–Њ “–њ–µ—В–Є–Љ–µ—В—А” –≤ XVIII –≤–µ–Ї–µ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ —Д–∞—В–∞, —Й–µ–≥–Њ–ї—П, –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≥–∞–ї–ї–Њ–Љ–∞–љ–∞, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –њ—А–µ—В–µ–љ—Ж–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞–љ–µ—А–∞–Љ–Є. –•–Њ—В—П –У –Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ—В –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ “–њ–µ—В–Є–Љ–µ—В—А” –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –і—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —З—В–Њ –≤ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є –Њ–±–Є—Е–Њ–і –Њ–љ–Њ –≤–Њ—И–ї–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ (–≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤ 1750 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є
–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°—Г–Љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–≤–∞ “–І—Г–і–Њ–≤–Є—Й–Є”), –њ—А–Є—З–µ–Љ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ї–Є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–∞—В–Є—А—Л –Ш–≤–∞–љ–∞ –Х–ї–∞–≥–Є–љ–∞ 1753 –≥–Њ–і–∞, —Б —П–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—В—В–µ–љ–Ї–Њ–Љ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞ –Ы—М–≤–∞ –У—Г–Љ–Є–ї–µ–≤–∞, –њ—А–Є –Я–µ—В—А–µ I –Њ –њ–µ—В–Є–Љ–µ—В—А–∞—Е –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —А–∞–љ–Њ: “–Є–Ј –Х–≤—А–Њ–њ—Л –±—А–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ–≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П”, –њ–µ—В–Є–Љ–µ—В—А—Л –ґ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ “–њ—А–Є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Є —Г–Ї—А–µ–њ–Є–ї–Є—Б—М”. –Ш –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ъ–ї—О—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—П —Н—В–∞–њ—Л —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—П–љ–Є–љ–∞, –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є XVIII –≤–µ–Ї–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В–Є–њ–∞ “–њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–∞ –Є –љ–∞–≤–Є–≥–∞—В–Њ—А–∞ —Б –µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤—Л—Г—З–Ї–Њ–є”; –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ –ґ–µ —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –≥–∞–ї–ї–Њ–Љ–∞–љ–Є–Є –Њ–љ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–Њ–Љ, –≤—Л–і–µ–ї—П—П –Ј–і–µ—Б—М —В–Є–њ “–µ–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—В–Є–Љ–µ—В—А–∞ —Б –µ–≥–Њ —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г—И—В—А–Њ–≤–Ї–Њ–є”.
–Ъ–∞–Ї –ґ–µ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –§—А–∞–љ—Ж–Є—О –Є –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ–і—Л –Я–µ—В—А –Є –µ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ? –Т —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–љ—Л–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –ѓ–Ї–Њ–≤ –У—А–Њ—В –Є –§—А–Є–і—А–Є—Е (–§–µ–і–Њ—А) –Ь–∞—А—В–µ–љ—Б –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Я–µ—В—А —П–Ї–Њ–±—Л –љ–µ –ї—О–±–Є–ї –§—А–∞–љ—Ж–Є—О –Є “–љ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ї —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г”. –≠—В–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Љ–µ—А–µ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є —Г—З–µ—Б—В—М —В—Г –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М, —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є —Ж–∞—А—М –і–Њ–±–Є–≤–∞–ї—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ —В–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —Б–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є—П –і–≤—Г—Е —Б—В—А–∞–љ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –±—А–∞–Ї: –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —В—А–µ—Е–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ 1717 –≥–Њ–і—Г –Я–µ—В—А—Г –њ—А–Є—И–ї–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–Љ –±—А–∞–Ї–µ –µ–≥–Њ –і–Њ—З–µ—А–Є –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В—Л –Є –Ы—О–і–Њ–≤–Є–Ї–∞ XV, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М —И–µ—Б—В—М –ї–µ—В.

–§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—Б—В—О–Љ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVIII –≤–µ–Ї–∞.
–Я–µ—В—А –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–µ —Ж–µ–љ–Є—В—М —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г. “–Ф–Њ–±—А–Њ –њ–µ—А–µ–љ–Є–Љ–∞—В—М —Г —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Є –љ–∞—Г–Ї–Є.”, - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–љ. –≠—В–Њ –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, —Б–ї–∞–≤–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≤ XVII-XVIII –≤–µ–Ї–∞—Е —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Б–∞–ї–Њ–љ–∞–Љ–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –Є –≤–µ–ї–Є –±–µ—Б–µ–і—Л –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –і–µ—П—В–µ–ї–Є –љ–∞—Г–Ї–Є, –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є, —Г –Я–µ—В—А–∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–Ј—А–µ–ї –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї –∞—Б—Б–∞–Љ–±–ї–µ–є. –° –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И—Г—О –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Н–Љ–∞–љ—Б–Є–њ–∞—Ж–Є—О –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –±—Л—В –Є –љ—А–∞–≤—Л —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ—В–Є–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–∞—А—Е—Г. –Ш–Ј –≤—Б–µ—Е –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Я–µ—В—А, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—П –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М —Г –љ–µ–≥–Њ —Б —А–Њ—Б–Ї–Њ—И—М—О –Є —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ - –і–∞ —Н—В–Њ –Є –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ: –Я–∞—А–Є–ґ —Б–ї–∞–≤–Є–ї—Б—П –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ–є –њ—Л—И–љ–Њ—Б—В—М—О –і–≤–Њ—А–∞ –Є –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–µ–Љ–Њ–≤. –У–µ—А—Ж–Њ–≥ –Ы—Г–Є –і–µ –†—Г–≤—А—Г–∞ –°–µ–љ-–°–Є–Љ–Њ–љ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї: “–Ю–љ –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –Ы—Г–≤—А, –Њ–±–Њ—И–µ–ї –≤—Б–µ –њ–Њ–Ї–Њ–Є –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Л-–Љ–∞—В–µ—А–Є –Є –љ–∞—И–µ–ї –Є—Е —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ —Г–±—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Є –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –Њ–њ—П—В—М —Б–µ–ї –≤ –Ї–∞—А–µ—В—Г –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Њ—В–µ–ї—М –і–µ –Ы–µ–і–Є–≥—М–µ—А. –Ш –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–Є –Њ–љ –љ–∞—И–µ–ї —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –љ–∞—А—П–і–љ—Л–Љ–Є –Є —В–Њ—В—З–∞—Б –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –њ–Њ—Е–Њ–і–љ—Г—О –Ї—А–Њ–≤–∞—В—М –≤ –≥–∞—А–і–µ—А–Њ–±–љ–Њ–є”.
–Я–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—О, –љ–∞ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ, –≤–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–µ –≤–і–Њ–≤—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Л, –Я–µ—В—А, –Њ—В–≤–µ–і–∞–≤ –≤–Є–љ–∞, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: “–Я–Є—В—М —Г–Љ–µ—О—В, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ–Є—З–∞—О—В, –Є –љ–µ—Г–і–Њ–±—М —П—А–Ї–Њ –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Њ”. –°–µ–љ-–°–Є–Љ–Њ–љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї: “–†–Њ—Б–Ї–Њ—И—М, –Ї–∞–Ї—Г—О –Њ–љ –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞—И–µ–ї, –Њ—З–µ–љ—М –Є–Ј—Г–Љ–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ; –Њ–љ –Є–Ј—К—П–≤–Є–ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–љ —Б –њ—А–Є—Б–Ї–Њ—А–±–Є–µ–Љ –≤–Є–і–Є—В, —З—В–Њ —А–Њ—Б–Ї–Њ—И—М —Н—В–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ –њ–Њ–≥—Г–±–Є—В –µ–µ”. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В –Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –Я–µ—В—А–∞ –Њ –Я–∞—А–Є–ґ–µ: “–У–Њ—А–Њ–і —Б–µ–є —А–∞–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –Њ—В —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–Є –Є –љ–µ–Њ–±—Г–Ј–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—В–µ—А–њ–Є—В –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –≤—А–µ–і, –∞ –Њ—В —Б–Љ—А–∞–і–∞ –≤—Л–Љ—А–µ—В,” –Є–ї–Є: “–Я–∞—А–Є–ґ –≤–Њ–љ—П–µ—В”. –¶–∞—А—М –љ–∞–Њ—В—А–µ–Ј –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –µ–Ј–і–Є—В—М –≤ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л—Е –Ї–∞—А–µ—В–∞—Е –Є –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤ –≤–Є–і–Њ–Љ –Є–Љ–њ—А–Њ–≤–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–∞—А–∞–љ—В–∞—Б–∞, —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –Є–Ј –Ї—Г–Ј–Њ–≤–∞ –Њ–і–љ–Њ–Ї–Њ–ї–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞ –Ї–∞—А–µ—В–љ—Л–є —Е–Њ–і. –Ю–љ –љ–µ –і–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –њ–∞—А–∞–і —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –≥–≤–∞—А–і–Є–Є, –Є–±–Њ –µ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–ї–і–∞—В—Г, –±—Л–ї–Є —З—Г–ґ–і—Л –±–ї–µ—Б–Ї –Є –Љ–Є—И—Г—А–∞ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ—Л—Е –Љ–∞–љ–µ–Ї–µ–љ–Њ–≤. “–ѓ –≤–Є–і–µ–ї –љ–∞—А—П–і–љ—Л—Е –Ї—Г–Ї–Њ–ї, –∞ –љ–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В!” - –Ј–∞—П–≤–Є–ї –Я–µ—В—А.
–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ –Љ–Њ–і, –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –Я–µ—В—А –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ —Й–µ–≥–Њ–ї—П–ї –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–Њ–є. –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В: “–Т –±—Л—В–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ –Њ–љ —А–µ—И–Є–ї—Б—П –Њ–і–µ—В—М—Б—П –њ–Њ-—В–∞–Љ–Њ—И–љ–µ–Љ—Г, –љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Є–ї –љ–∞—А—П–і, –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞—В—М —В—П–ґ–µ—Б—В–Є –њ–∞—А–Є–Ї–∞, –∞ —В–µ–ї–Њ —Г—В–Њ–Љ–ї–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—И–Є–≤–Ї–∞–Љ–Є –Є —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Ю–±—А–µ–Ј–∞–≤ –Ї—Г–і—А–Є –њ–∞—А–Є–Ї–∞ –њ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є, –Њ–љ –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї–Њ –і–≤–Њ—А—Г –≤ —Б—В–∞—А–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–Љ —Б–µ—А–Њ–Љ –Ї–∞—Д—В–∞–љ–µ –±–µ–Ј –≥–∞–ї—Г–љ–Њ–≤, –≤ –Љ–∞–љ–Є—И–Ї–µ –±–µ–Ј –Љ–∞–љ–ґ–µ—В, —Б–Њ —И–ї—П–њ–Њ—О –±–µ–Ј –њ–µ—А—М–µ–≤ –Є —З–µ—А–љ–Њ–є –Ї–Њ–ґ–∞–љ–Њ–є —З–µ—А–µ–Ј –њ–ї–µ—З–Њ –њ–Њ—А—В—Г–њ–µ–µ. –Х–≥–Њ –љ–Њ–≤–∞—П –Њ–і–µ–ґ–і–∞, —Б—В—А–∞–љ–љ–∞—П –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤–Є–і–∞–љ–љ–∞—П —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ–Є, –≤–Њ—Б—Е–Є—В–Є–ї–∞ –Є—Е, –њ–Њ –µ–≥–Њ –Њ—В—К–µ–Ј–і–µ –Є–Ј –Я–∞—А–Є–ґ–∞ –Њ–љ–Є —В–Њ—З–љ–Њ –≤–≤–µ–ї–Є –µ–µ –≤ –Љ–Њ–і—Г –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—А—П–і –і–Є–Ї–∞—А—П”.
–Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Э–∞—Й–Њ–Ї–Є–љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є —Г–Ї–∞–Ј –Њ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–Є–Є —З—А–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ–є —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–Є (“—З—В–Њ–± –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –Є —Б–µ—А–µ–±—А–∞ –љ–µ –љ–Њ—Б–Є—В—М”) –±—Л–ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ “—Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –Є–Ј –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є”.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Ј–љ–∞—В—М –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і–Њ–є –Є —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–Њ—Б–Є–ї–∞ –љ–∞—А—П–і—Л –≤ –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Ї—Г—Б–µ. –Ґ–Њ–љ –Ј–і–µ—Б—М –Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї–∞ —Б–∞–Љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–љ—П –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ–∞, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —Б–ї–µ–і–Є–≤—И–∞—П –Ј–∞ –љ–Њ–≤–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є –Є–Ј –Я–∞—А–Є–ґ–∞: –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –µ–µ –Њ–і–µ–ґ–і–∞ –Є –Ї–∞—А–µ—В–∞ –і–ї—П –Ї–Њ—А–Њ–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤ –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–≤–µ–Ј–µ–љ—Л –Є–Ј –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є.
–У–Њ–≤–Њ—А—П –Њ –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—П—Е –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –∞—Б—Б–∞–Љ–±–ї–µ–є, –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А XIX –≤–µ–Ї–∞ –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ъ–∞—А–љ–Њ–≤–Є—З —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–љ–Є “—Б–Љ–∞—Е–Є–≤–∞–ї–Є –њ–Њ –≤–љ–µ—И–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –≤–µ—А—Б–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—А–Ї–Є–Ј–Њ–≤ –Є –Љ–∞—А–Ї–Є–Ј - –њ–µ—А–≤—Л—Е —Й–µ–≥–Њ–ї–µ–є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є”. –Р –љ–∞—И–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є—Ж–∞ –Ъ–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ –°—В–∞—Б–Є–љ–∞ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–∞ –і–∞–ґ–µ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ —Ж–∞—А—М —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –Њ—В —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —П–≤–ї—П—В—М—Б—П –љ–∞ –∞—Б—Б–∞–Љ–±–ї–µ–Є –Њ–і–µ—В—Л–Љ–Є –њ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і–µ. –Ф—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Є—Е –Љ–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Я–µ—В—А –љ–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї. –Ю–±—А–∞—В–Є–Љ—Б—П –Ї –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї—Г - –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г. –Т –µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є “–Р—А–∞–њ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ” –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ –≥–∞–ї–ї–Њ–Љ–∞–љ –Ъ–Њ—А—Б–∞–Ї–Њ–≤. –≠—В–Њ—В –Љ–Њ–і–љ–Є–Ї, –µ–Ј–і–Є–≤—И–Є–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П —Ж–∞—А—О, –≤–Њ–Ј–Њ–Љ–љ–Є–ї, —З—В–Њ –Я–µ—В—А “–њ—А–Є—П—В–љ–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ –≤–Ї—Г—Б–Њ–Љ –Є —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –µ–≥–Њ –љ–∞—А—П–і–∞”. –Ю—И–Є–±–Ї–∞, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–∞—Б—М —Г–ґ–µ –љ–∞ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–є –∞—Б—Б–∞–Љ–±–ї–µ–µ: –Я–µ—В—А —Б–∞–Љ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –љ–µ–Љ—Г –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: “–Я–Њ—Б–ї—Г—И–∞–є, –Ъ–Њ—А—Б–∞–Ї–Њ–≤. —И—В–∞–љ—Л-—В–Њ –љ–∞ —В–µ–±–µ –±–∞—А—Е–∞—В–љ—Л–µ, –Ї–∞–Ї–Є—Е –Є —П –љ–µ –љ–Њ—И—Г, –∞ —П —В–µ–±—П –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞—З–µ. –≠—В–Њ –Љ–Њ—В–Њ–≤—Б—В–≤–Њ; —Б–Љ–Њ—В—А–Є, —З—В–Њ–±—Л —П —Б —В–Њ–±–Њ–є –љ–µ –њ–Њ–±—А–∞–љ–Є–ї—Б—П”.
–Ъ–ї—О—З –Ї —А–∞–Ј–≥–∞–і–Ї–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–Љ –Я–µ—В—А–Њ–Љ I —Г—Б—В–∞–≤–µ “–Ю –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ –≥–Њ—Б—В–µ–≤–Њ–Љ –љ–∞ –∞—Б—Б–∞–Љ–±–ї–µ—П—Е –±—Л—В—М –Є–Љ–µ—О—Й–µ–Љ”. –Ч–і–µ—Б—М –њ—А—П–Љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ: “–Я–µ—А–µ–і –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л–Љ –≥–Њ—Б—В—О –љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –±—Л—В—М. –Њ–±—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–µ—Б—М–Љ–∞, –љ–Њ –С–Х–Ч –Ы–Ш–®–Э–Х–У–Ю –Я–Х–†–Х–С–Ю–†–£ (–Ї—Г—А—Б–Є–≤ –љ–∞—И - –Ы.–С.), –Њ–Ї—А–Њ–Љ—П –і–∞–Љ –њ—А–µ–ї–µ—Б—В–љ—Л—Е, –Ї–Њ–Є–Љ –і–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В—Б—П —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ—О –Ї–Њ—Б–Љ–µ—В–Є–Ї–Њ—О –Њ–±—А–∞–Ј —Б–≤–Њ–є –Њ–±–Њ–ї—М—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г–Ї—А–∞—Б–Є—В—М, –∞ –Њ—Б–Њ–±–ї–Є–≤–Њ –≥—А–∞—Ж–Є–µ–є, –≤–µ—Б–µ–ї—М–µ–Љ –Є –і–Њ–±—А–Њ—В–Њ—О –Њ—В –≥—А—Г–±—Л—Е –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Њ–≤ –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –±—Л—В—М”. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, “–ї–Є—И–љ–Є–є –њ–µ—А–µ–±–Њ—А” –≤ –љ–∞—А—П–і–µ, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Є–і–µ—В –Ј–і–µ—Б—М —А–µ—З—М, - —Н—В–Њ, –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, –Є –µ—Б—В—М —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л. –Ш —В–∞–Ї–Њ–µ —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Я–µ—В—А –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ—В.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ї –Љ–Њ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ —З–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е –±—Л–ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–љ. –Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –±—Л–≤—И–Є—Е —Г –љ–µ–≥–Њ –≤ —Д–∞–≤–Њ—А–µ –Я–µ—В—А–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ, –С–Њ—А–Є—Б–∞ –®–µ—А–µ–Љ–µ—В–µ–≤–∞, –§–µ–і–Њ—А–∞ –У–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞, –Я–∞–≤–ї–∞ –ѓ–≥—Г–ґ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е, –Њ–±–ї–∞—З–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –±–Њ–≥–∞—В—Л–µ –Љ–Њ–і–љ—Л–µ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ—Л. –Р —З–µ–≥–Њ —Б—В–Њ—П—В —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Г–±—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤ “–њ–Њ–ї—Г–і–µ—А–ґ–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–ї–∞—Б—В–µ–ї–Є–љ–∞” –Ь–µ–љ—И–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Є–ї–Є —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–µ—Б—В–≤–∞ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А–∞ –Ь–∞—В–≤–µ—П –У–∞–≥–∞—А–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Я–µ—В—А —В–∞–Ї –і–Њ–ї–≥–Њ —В–µ—А–њ–µ–ї! –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –љ–µ –ґ–∞–ї–µ–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –љ–∞ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–µ –Є–Ј–і–µ—А–ґ–Ї–Є —Б–≤–Њ–µ–є —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –љ–∞ –Њ–і–µ–ґ–і—Г –µ–µ —Б–ї—Г–≥ –Є —З–µ–ї—П–і–Є. –≠—В–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –©–µ—А–±–∞—В–Њ–≤–∞ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Я–µ—В—А “—Б—А–µ–і–Є –±–Њ–≥–∞—В—Л—Е –ї—О–і–µ–є –Є–Ј –њ–µ—А–≤–Њ—Б–∞–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –µ–≥–Њ –Ф–≤–Њ—А–∞. –њ–Њ–±—Г–ґ–і–∞–ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–Є–µ –≤ –њ–ї–∞—В—М—П—Е”. –Ш –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—П, –Є–±–Њ —Ж–∞—А—М –њ—А—П–Љ–Њ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї “—Г–±–Њ—А” —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –Є–µ—А–∞—А—Е–Є–Є —З–Є–љ–Њ–≤. –Ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–∞—Б—М –Љ—Л—Б–ї—М –Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–є –Љ–∞—А–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–ї–∞—В—М—П (–њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–µ—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞—А—П–і–∞ —З–Є–љ—Г –Ї–∞—А–∞–ї–Њ—Б—М –і–∞–ґ–µ —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –Љ–µ—А–∞–Љ–Є). –Я–µ—В—А –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї: “–Э–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ –Љ—Л –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Ї–∞–ґ–і—Л–є. –љ–∞—А—П–і, —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –Є –ї–Є–±–µ—А–µ—О –Є–Љ–µ–ї, –Ї–∞–Ї —З–Є–љ –Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —В—А–µ–±—Г–µ—В. –Я–Њ —Б–µ–Љ—Г –Є–Љ–µ—О—В –≤—Б–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М, –Є –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —И—В—А–∞—Д–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—Б—В–µ—А–µ–≥–∞—В—М—Б—П”. –Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –і–µ–ї –Є–Љ–µ–ї–Њ –љ–∞ –†—Г—Б–Є –і–∞–≤–љ—О—О —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—О: –≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Г —З–µ–Љ –±–Њ–≥–∞—З–µ –±—Л–ї–Є –љ–∞—А—П–і—Л, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –љ–Є—Е –Ј–љ–∞—В–љ–Њ—Б—В—М —А–Њ–і–∞. –Ь–Њ–љ–∞—А—И–Є–Љ —Г–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –µ—Й–µ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XVI –≤–µ–Ї–∞ –±—Л–ї–Њ —Б—В—А–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–Њ –ї—О–і—П–Љ –±–µ–Ј —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П —А—П–і–Є—В—М—Б—П –≤ –њ—Л—И–љ—Л–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л.
–Ш–і–µ–Є –Я–µ—В—А–∞ I –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–∞–Ј–≤–Є–ї –Ш–≤–∞–љ –Я–Њ—Б–Њ—И–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ “–Ъ–љ–Є–≥–µ –Њ —Б–Ї—Г–і–Њ—Б—В–Є –Є –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–µ” (1724) –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —Г–љ–Є—Д–Њ—А–Љ—Г, —Б—В—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О —З–Є–љ—Г –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ. –Я–Њ—Б–Њ—И–Ї–Њ–≤ —А–µ–Ј—О–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї: “–Р –±—Г–і–µ –Ї—В–Њ –Њ–і–µ–љ–µ—В—Б—П –љ–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —З–Є–љ–∞ –Њ–і–µ–ґ–і–Њ—О, —В–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –µ–Љ—Г —З–Є–љ–Є—В—М –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–µ”. –Я—А–Њ–µ–Ї—В –Я–Њ—Б–Њ—И–Ї–Њ–≤–∞ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—О, –Ї–∞–Ї–Є–µ —В–Ї–∞–љ–Є –љ–Њ—Б–Є—В—М. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ —Б–∞–Љ—Л—Е –і–Њ—А–Њ–≥–Є—Е “—Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е” –Ј–∞–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —В–Ї–∞–љ–µ–є - –њ–∞—А—З–Є —Б –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –Є “–Є—Б–њ–µ—Й—А–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Ж–≤–µ—В–Њ–≤”, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е –њ—Г–≥–Њ–≤–Є—Ж, –њ–Њ–Ј—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Є —И–љ—Г—А–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є–µ–є –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞.
–Т —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ –Ї–ї—О—З–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Я–µ—В—А–∞ –Ї –љ–µ—З–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Є –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Й–µ–≥–Њ–ї—П–Љ. “–°–µ–є –Ю—В–µ—Ж –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л—Е, - —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –Ш–≤–∞–љ –У–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤, - –µ—Б–ї–Є —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –Ї–Њ–≥–Њ, –∞ –Њ—Б–Њ–±–ї–Є–≤–Њ –Є–Ј –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –±–Њ–≥–∞—В–Њ –Њ–і–µ—В–Њ–≥–Њ –Є –≤ —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ –µ–і—Г—Й–µ–≥–Њ, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї, –Ї—В–Њ –Њ–љ —В–∞–Ї–Њ–≤? –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ –Є –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤? –Ш –±—Г–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї —В–∞–Ї–Є–µ –Є–Ј–і–µ—А–ґ–Ї–Є –љ–µ—Б–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А–љ—Л–µ –і–Њ—Е–Њ–і–∞–Љ –µ–≥–Њ, —В–Њ, —А–∞—Б—З–Є—Б–ї—П –њ–Њ –Њ–љ—Л–Љ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Є—Е –Є–Ј–ї–Є—И–µ—Б—В–≤ –Ј–∞–≤–Њ–і–Є—В—М –µ–Љ—Г –љ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–∞–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —Б–Љ–Њ—В—А—П –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О, –Є–ї–Є –ґ—Г—А—М–±–Њ—О, –Є–ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л, –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –Є –њ—А–Њ—З., –∞ –Љ–Њ—В–Њ–≤ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—В—Б—Л–ї–∞–ї –љ–∞ –≥–∞–ї–µ—А—Л –љ–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж, –і–≤–∞ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ”.
–Ю—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б—В–≤—Г —П—А—З–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —Н–њ–Є–Ј–Њ–і –Є–Ј –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є: “–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–∞—В—М—Б—П, —Г–≤–Є–і–µ–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –љ–µ –≤ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–Љ –Є –±–µ–і–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞—В—М–µ, –∞ –≤ –Ї–∞—Д—В–∞–љ–µ —Б —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–Љ —И–Є—В—М–µ–Љ, –Є –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї–∞ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ –≤–Є–і–µ—В—М —В–∞–Ї –Њ–і–µ—В—Л–Љ. –Я–µ—В—А –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є–ї –Њ—Е–ї–∞–і–Є—В—М –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–Є —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–і—А—Г–≥–Є. “–С–µ–Ј—А–∞—Б—Б—Г–і–љ–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ, - —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ, - —В—Л —В–Њ–≥–Њ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—И—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–µ –Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Є–Ј–і–µ—А–ґ–Ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –Є–Ј–ї–Є—И–љ–Є –Є –Њ—В—П–≥–Њ—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л –љ–∞—А–Њ–і—Г –Љ–Њ–µ–Љ—Г; –љ–Њ —З—В–Њ –Ј–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –і–µ–љ–µ–≥ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –µ—Й–µ –Є –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М –±—Г–і—Г –С–Њ–≥—Г, –≤–µ–і–∞—П –њ—А–Є —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Њ—В–ї–Є—З–∞—В—М—Б—П –Њ—В –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л—Е –љ–µ —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –њ—Л—И–љ–Њ—Б—В—М—О, –∞ –Љ–µ–љ–µ–µ –µ—Й–µ —А–Њ—Б–Ї–Њ—И—М—О, –љ–Њ –љ–µ—Г—Б—Л–њ–љ—Л–Љ –љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ —Б–µ–±–µ –±—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ–Њ–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –Є—Е –њ–Њ–ї—М–Ј–µ –Є –Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–Є–Є”.
–°—А. —В–∞–Ї–ґ–µ: “Petite-maitre - –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ —Б–µ–±–µ –і—Г–Љ–∞–µ—В –Є –ї—Г—З—И–µ —Б–µ–±—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б—В–∞–≤–Є—В. –©–µ–≥–Њ–ї—М, –≤–µ—А—В–Њ–њ—А–∞—Е, –њ–µ—В–Є–Љ–µ—В—А” (–Э–Њ–≤–Њ–є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ –љ–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ, –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ, –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Є –љ–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–∞—Е, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—Г –∞—Б—Б–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –°–µ—А–≥–µ—П –Т–Њ–ї—З–Ї–Њ–≤–∞. –І.2. –°–њ–±., 1764, –°.323)
–Ы–µ–≤ –С–µ—А–і–љ–Є–Ї–Њ–≤
–Ш–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є «–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –≥–∞–ї–∞–љ—В–љ—Л–є –≤–µ–Ї –≤ –ї–Є—Ж–∞—Е –Є —Б—О–ґ–µ—В–∞—Е», –Ґ.1