–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤—Б–µ —В–µ–≥–Є
–Э–∞—Г—З–љ—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ—А–Є–≤–µ–і—И–Є–µ –Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —В–µ–Њ—А–Є–Є –Њ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –≤ –°–°–°–† –≤ –і–Њ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і. –Ю–і–љ–Њ–є –Є–Ј –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Њ–Ї –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ —А—П–і—Г –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤—И–Є—Е –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є, –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ 1930-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, —В–µ—Б–љ–Њ —Г–≤—П–Ј–∞–љ–љ–∞—П —Б –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞
–Я—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—Л —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ (—Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А–µ–є) –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ (–љ–Є–Ј–Њ–≤—Л—Е —П—З–µ–µ–Ї) –†–Ъ–Я(–±) — –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–є –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–є «—Б–≤–Њ–і–Њ—З–љ–Њ–є» —З–∞—Б—В–Є. –Х–Љ—Г –њ—А–Є—Б—Г—Й–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–µ –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А—Б–Ї–Њ–µ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ: –Њ–љ –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї –њ–Њ —Д–Њ—А–Љ–µ –Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О –Ї —В–∞–Ї–Є–Љ –≤–Є–і–∞–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—Л –њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–Њ–≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Г—А–Њ–≤–љ–µ–є: –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ. –Я—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—Л —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –∞—А—Е–Є–≤–∞—Е, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —Г–ґ–µ –Ї 1919 –≥.; –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Њ–љ–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Є –≤ 1918 –≥. –Ю–љ–Є –Љ–∞–ї–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В — —Б 1919 –њ–Њ 1921 –≥–≥. –Я—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—Л –Є–Љ–µ—О—В, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Г—О —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г. –Я—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–∞—П –Ј–∞–њ–Є—Б—М –і–µ–ї–Є—В—Б—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–∞ –і–≤–µ —З–∞—Б—В–Є: «—Б–ї—Г—И–∞–ї–Є» –Є «–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є». –Я–Њ—З—В–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б—В–∞–ї–∞ —Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є—П –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –њ—Г–љ–Ї—В—Г –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Ї–Є –і–љ—П: «–Ф–Њ–Ї–ї–∞–і—Л —Б –Љ–µ—Б—В». –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –µ–Љ—Г –Њ—В–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ, —Е–Њ—В—П –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А—Л —А–µ—И–∞–ї–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л. –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ—А–µ–і–≤–∞—А—П–ї–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л —Б –Љ–µ—Б—В –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–∞ (—Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П) —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ–∞—А—В–Є–Є. –Ч–і–µ—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М —А—П–і —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, –љ–Њ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –љ–µ–Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л –Є –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ –ї–∞–Ї–Њ–љ–Є—З–љ—Л.
–Я—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–≤ —Б –Љ–µ—Б—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Г–ґ–µ —Б 1919 –≥. –Т –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –†–Ъ–Я(–±) –°–Љ–Њ–ї—М–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ 31 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1919 –≥. –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–∞–є—В–Є –Ї—А–∞—В–Ї–Є–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є —Б –Љ–µ—Б—В, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Ї—А—Г–≥ —Б—О–ґ–µ—В–Њ–≤, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –Њ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –≤—Л—З–Є—Б–ї–Є—В—М –љ–µ—В—А—Г–і–љ–Њ: –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –†–Ъ–Я(–±), –Є —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ — –Њ–± –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї –љ–Є–Љ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —А–∞–±–Њ—З–Є—Е.1 –≠—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М –Є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—П –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—Л —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –†–Ъ–Я(–±) –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е—Б—П —Б–њ—Г—Б—В—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤, –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ-–Љ–∞—А—В–µ 1920 –≥. — –њ—А–Є —В–Њ–Љ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–Є, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є—И—М «–Њ–±—Й–µ–µ» –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, –≤–љ–µ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Є—Е –њ—А—П–Љ—Л–Љ–Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞–Љ–Є –њ–∞—А—В–Є–Є.2 –Ю –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ, –њ—А–∞–≤–і–∞, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–∞–Љ–Є. –Э–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, «–Њ–±—Й–µ–µ» –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –Є «–њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л–є» –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В — —Н—В–Њ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –≤–Є–і–љ–Њ –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ-–њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –≥–і–µ –Ј–∞–њ–Є—Б—М —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї–Њ–є –Ї—А–∞—В–Ї–Њ—Б—В—М—О. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–і–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л—П–≤–Є—В—М –Є –≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –†–Ъ–Я(–±) –Т–∞—Б–Є–ї–µ–Њ—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞. –Ч–і–µ—Б—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А—Л –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Њ–є –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є, –љ–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О—В –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –љ–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е.3
–Ч–∞–њ–Є—Б—М –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–≤ —Б –Љ–µ—Б—В –≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞—Е 1921 –≥. (–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Д–µ–≤—А–∞–ї—П- –Љ–∞—А—В–∞) –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–∞, —З–µ–Љ –≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞—Е –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є—Е –ї–µ—В. –Ю–љ–Є –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г—О—В –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г-–ї–Є–±–Њ —Г–љ–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–љ–Є–Ї—Г: –Њ—В–≤–µ—В—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Љ–µ–љ–µ–µ –Њ–і–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В —А—П–і–Њ–Љ —Б –≤–∞–ґ–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–µ–є –Є –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–Њ–є –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є. –≠—В–Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Є–Љ–µ–ї–Є –Њ–±—Й—Г—О —Ж–µ–ї—М: —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ —Д–∞–±—А–Є–Ї–∞—Е –Є –Ј–∞–≤–Њ–і–∞—Е, –љ–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥, –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ –Є —З—В–Њ –љ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ. –£–ґ–µ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї —Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –†–Ъ–Я(–±) –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ)4 —А–∞–є–Њ–љ–∞ 25 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1921 –≥. –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В —В—Г —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ–ї–Њ—Б–Є—Ж—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б—В–∞–ї–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞ 1921 –≥.: «–Ґ—А–∞–Љ–њ–∞—А–Ї. –С—Л–ї–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ. –Х—Б—В—М –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ –њ–Њ—З–≤–µ –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П. –Т—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї —Н—Б–µ—А, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ. –Т–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–∞–µ—В –Љ–∞—Б—Б—Г —Н—Б–µ—А –Є –≥—А—Г–њ–њ–∞, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–∞—П –µ–≥–Њ. –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ [–†–Ъ–Я] –њ–Њ–і—В—П–љ—Г–ї—Б—П –Є —А–∞–±–Њ—В—Г —Б–≤–Њ—О —Г—Б–Є–ї–Є–ї <...>. –Ч–∞–≤–Њ–і –Ы–∞–љ–≥–µ–љ–Ј–Є–њ–њ–µ–љ. –Т—Б–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ. –Ю—В—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –Љ–∞—Б—Б–µ –љ–µ—Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–і–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤. –Х—Б—В—М –Є –љ–µ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В —Б—А–µ–і–Є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Ж–µ–≤ <...>. –§–∞–±—А–Є–Ї–∞ “–Ы–µ–±–µ–і—М”. –Э–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–µ. –Ы–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–Ї –љ–µ—В. –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ [–†–Ъ–Я] —Б–Є–ї–µ–љ».5
–Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Ї—А—Г–≥ —Б—О–ґ–µ—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А–Њ–≤. –§–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї –ї–Є —Н—В–Є —Б—О–ґ–µ—В—Л, —Г–±–Є—А–∞—П «–љ–µ–љ—Г–ґ–љ—Л–µ» –Є–Ј –љ–Є—Е, —Б—В–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—Б—В —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є, –Є–ї–Є —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї –µ—Й–µ —Б–∞–Љ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї —Б –Љ–µ—Б—В — —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —В—А—Г–і–љ–Њ. –Ю—В–Љ–µ—З–∞—О—В –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А—Л —В–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ «—Б–Њ–±—Л—В–Є–є–љ–Њ» — –Њ–љ–Є —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Є –Њ —В–Њ–Љ, –µ—Б—В—М –ї–Є –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б—А–µ–і–Є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—В –ї–Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—Б–µ—А–Њ–≤ –Є –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ —В–∞–Љ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В, –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В—Б—П –ї–Є —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Є –Ї–∞–Ї–Њ–≤ –Є—Е –Є—В–Њ–≥, –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –ї–Є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л, –њ—А–Њ—З–љ—Л –ї–Є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –†–Ъ–Я(–±) –Є —Д–∞–±–Ј–∞–≤–Ї–Њ–Љ–Њ–≤ –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Њ —З–µ–Љ-—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–Љ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –њ–Є—Б–µ–Љ. –Я–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –≤—Б–µ —В–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞ —А–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А—Г—В–Є–љ—Л, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї–Є–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –Љ–µ–ї—М—З–∞–є—И–Є–µ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П, –љ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ: «–Э–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ї—В–Њ-—В–Њ –Њ–±–µ—Й–∞–ї –≤ —Б–Њ—О–Ј–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є—В—М –њ–∞–µ–Ї».6 –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–Є, –Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–Є—Е —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї, –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ –Є —З—В–Њ –љ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ. –Ю—В—Б—О–і–∞ –Є —В–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–є —Б—Г–Љ–±—Г—А –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –љ–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е. –Э–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–Љ –Ј–і–µ—Б—М –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ. –°—В–Њ–ї—М —З–∞—Б—В—Л–µ –Њ—В—З–µ—В—Л –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–Њ–≤ —Б –Њ–±—Й–Є–Љ–Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є, —Б –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –њ–∞—А—В—П—З–µ–µ–Ї –Є –Њ—Е—А–∞–љ—Л –љ–∞ —Д–∞–±—А–Є–Ї–∞—Е –Є –Ј–∞–≤–Њ–і–∞—Е — –≤—Б–µ —Н—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ —А—П–і–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –≤—Б–µ –ґ–µ –Є–љ–Є—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї, –≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –†–Ъ–Я(–±) –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ 9 –Љ–∞—А—В–∞ 1921 –≥. –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П—Е —Б –Љ–µ—Б—В –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –і–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–µ –љ–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П –≥–∞–Ј–µ—В7 — –Њ–љ–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –Є –≤ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є—Е, –Є –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є. –Э–µ—В—А—Г–і–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –Њ–±—П–Ј–∞–ї–Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г. –Я—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ, –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—П —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –†–Ъ–Я(–±) –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ 25 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1921 –≥., –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї «–Њ–±—А–∞—В–Є—В—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Њ—Е—А–∞–љ—Г –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤ –Є —Д–∞–±—А–Є–Ї <...> –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –Љ–µ—А—Л –Ї –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є–Є –ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б–ї—Г—Е–Њ–≤ <...> –≤—Б–µ—Е –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Н—Б–µ—А–Њ–≤ –≤–Ј—П—В—М –љ–∞ —Г—З–µ—В –Є —Б–ї–µ–і–Є—В—М –Ј–∞ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є».8 –Ш –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ, –љ–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є 9 –Љ–∞—А—В–∞ 1921 –≥. –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–Є —Б –Љ–µ—Б—В –Њ—Б–Њ–±–Њ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Њ—Е—А–∞–љ—Л, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ–Є –≥–∞–Ј–µ—В –Є —В. –њ.
–Я–Њ–ї–љ–Њ—В—Г —Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є —Б—В–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—Б—В–Њ–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –†–Ъ–Я(–±) –≤—Л—П–≤–Є—В—М –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ–Њ. –Я–Њ–њ—А–Њ–±—Г–µ–Љ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –†–Ъ–Я(–±) –Т—Л–±–Њ—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ 9 –Љ–∞—А—В–∞ 1921 –≥. –Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —Б–≤–Њ–і–Ї–µ —И—В–∞–±–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞ 9 –Љ–∞—А—В–∞ 1921 –≥. –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞—Е «–Э–Њ–±–µ–ї—М» –Є «–Я–∞—А–≤–Є–∞–є–љ–µ–љ». –Т –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П —З–Є—В–∞–µ–Љ: «–Ч–∞–≤[–Њ–і] –Я–∞—А–≤–Є–∞–є–љ–µ–љ: –С—Л–ї–Є —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, –≤–Є–і–љ–∞ —Б–≤—П–Ј—М —Б “–Р—А—Б–µ–љ–∞–ї–Њ–Љ” –Є “–Ы–µ—Б—Б–љ–µ—А–Њ–Љ”, –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ –Ї –≤–Њ–ї—Л–љ–Ї–µ <...>. –Ч–∞–≤[–Њ–і] –Э–Њ–±–µ–ї—М: –Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Є –±—Л–ї–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М, –љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ —В–Њ–≤. –Х–≤–і–Њ–Ї–Є–Љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ї —А–∞–±–Њ—В–µ».9 –Т —Б–≤–Њ–і–Ї–µ –®–Т–Ю –Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е –љ–∞ –Њ–±–Њ–Є—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–∞—Е —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —В–∞–Ї: «–Ч–∞–≤–Њ–і –Э–Њ–±–µ–ї—П: –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –і–≤—Г—Е —В—А–µ—В–µ–є –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ј–∞–≤—В—А–∞ –Ї —А–∞–±–Њ—В–µ. –Ч–∞–≤–Њ–і –Я–∞—А–≤–Є–∞–є–љ–µ–љ: –Я–Њ—Б–ї–µ 2-—Е —З–∞—Б. –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –њ–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Г –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є–Є –Њ —В–µ–Ї—Г—Й–µ–Љ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–µ —Б –њ—А–Є–Ј—Л–≤–Њ–Љ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–∞. –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–Њ–ї–Њ—Б—М –љ–∞–і–≤–Њ–µ».10
–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –≤ —Б–≤–Њ–і–Ї–µ —И—В–∞–±–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–∞ 9 –Љ–∞—А—В–∞ 1921 –≥. –љ–µ—В—А—Г–і–љ–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М —В–∞–Ї–Є–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–Љ—Б—П –≤ —Н—В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —Б—В–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—Б—В –љ–µ –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї –≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ –≤—Б–µ –і–µ—В–∞–ї–Є —А–µ—З–µ–є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–Є—Е. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М —Б–≤–Њ–і–Ї–Є —И—В–∞–±–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Є –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –љ–Њ —Н—В–Њ –Љ–∞–ї–Њ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ –≤–≤–Є–і—Г —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М (–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А) —А–∞–є–Ї–Њ–Љ–∞ –†–Ъ–Я(–±), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –љ–Є–Ј–Њ–≤—Л—Е —П—З–µ–µ–Ї, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —П–≤–ї—П–ї—Б—П —З–ї–µ–љ–Њ–Љ (–Є –Њ—З–µ–љ—М —З–∞—Б—В–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ) —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —В—А–Њ–є–Ї–Є (—А–µ–≤- —В—А–Њ–є–Ї–Є), –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –≤ –®–Т–Ю —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П—Е –≤ —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —Б—В–µ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Є –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ–Њ–Љ —В–Њ–є —Б–≤–Њ–і–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –і–≤–∞–ґ–і—Л –≤ –і–µ–љ—М –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М —А–∞–є–Њ–љ–љ—Л–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ —И—В–∞–±. –Ш–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –µ—Б–ї–Є –®–Т–Ю –Є –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, —В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј —А—Г–Ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–∞ —А–∞–є–Ї–Њ–Љ–∞, –∞ —В–Њ—В, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Њ—В –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–Њ–≤ «—Б –Љ–µ—Б—В». –Т–Њ- –≤—В–Њ—А—Л—Е, —В–µ–Ї—Б—В —Б–≤–Њ–і–Ї–Є, –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е –≤ –Т—Л–±–Њ—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ, —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ –Є —Б—В–Є–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї —В–µ–Ї—Б—В—Г –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ —А–∞–є–Њ–љ–∞; –≤ –љ–µ–Љ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л —В–∞ –ґ–µ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ—Б—В—М –Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є —В–µ–Љ –ґ–µ —Б—О–ґ–µ—В–∞–Љ. –Т-—В—А–µ—В—М–Є—Е, –Њ–±—А–∞—В–Є–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–µ—З–Є. –Ґ–∞–Ї–∞—П –Ї—А–∞—В–Ї–Њ—Б—В—М, –Њ–±—А—Г–±–ї–µ–љ- –љ–Њ—Б—В—М —Д—А–∞–Ј—Л –µ–і–≤–∞ –ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞ –≤ —Г—Б—В–љ–Њ–є —А–µ—З–Є; –≤—А—П–і –ї–Є –≤ —Г—Б—В–љ–Њ–є —А–µ—З–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–ї–Њ–≤–Є—В—М –Є —Б—В–Њ–ї—М –±—Л—Б—В—А—Л–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—Л –Њ—В –Њ–і–љ–Њ–є —В–µ–Љ—Л –Ї –і—А—Г–≥–Њ–є, –±–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ —Б–≤—П–Ј—Г—О—Й–Є—Е –Є—Е –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Ї. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Б—В–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В–Њ—З–љ–∞—П —Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є—П —А–µ—З–Є — –љ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –≤—Л—П–≤–Є—В—М –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї—Г –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –Є, —З—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ, —Б—В–µ–њ–µ–љ—М —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —А–µ—З–µ–є, –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Є—Б—В–Њ–Љ.
–Ю–±—А–∞—В–Є–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–µ —Б–ї—Г—З–∞–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Є—Б—В –њ–µ—А–µ–і–∞–µ—В —Д—А–∞–Ј—Л –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–Є—Е, —Б–≤–Њ–µ–є «–ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ—Б—В—М—О» –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –Њ—В –њ—А–Њ—З–Є—Е —А–µ—З–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ, —Б—В–µ—А–µ–Њ—В–Є–њ–љ–Њ –Є —Б —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є. «–Я–µ—А–µ–≤—П–Ј–Њ—З–љ–∞—П –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–∞—П — —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–љ—Л–µ –±–∞—А—Л—И–љ–Є, –±–Њ—П—Й–Є–µ—Б—П –Ј–∞–Љ–Њ—А–Њ–Ј–Є—В—М —А—Г—З–Ї–Є» — —З–Є—В–∞–µ–Љ –Љ—Л –≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ 25 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1921 –≥. –Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–≤—А–∞—З–µ–±–љ—Л—Е –Ј–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–є.11 –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Н—В–Њ «–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є» —И—В–∞–Љ–њ — —Б –њ—А–Є—Б—Г—Й–Є–Љ –µ–Љ—Г –њ–Њ—З—В–Є —Д–∞–Љ–Є–ї—М—П—А–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї—Г–њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ («–±–∞—А—Л—И–љ–Є», «–±–Њ—П—Й–Є–µ—Б—П –Ј–∞–Љ–Њ—А–Њ–Ј–Є—В—М —А—Г—З–Ї–Є») — —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Є—Б—В–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ–є –µ–Љ—Г –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –≤ –Њ–±—Й–µ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Д—А–∞–Ј–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–Љ. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П–Љ, –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ — –Њ—В—А—Л–≤–Є—Б—В—Л–Љ, –Ї—А–∞—В–Ї–Є–Љ, —Б–Ї—Г–і–љ—Л–Љ –њ–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О — —В–∞–Ї–∞—П «–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В—М» –љ–µ –±—Л–ї–∞ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞.12 –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ —Д—А–∞–Ј–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–Љ—Л —Г–ґ–µ –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ — –Њ–љ–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –љ–∞ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ. –Я—А–Є–≤—Л—З–Ї–Є –Є–Ј–ї–∞–≥–∞—В—М –і–Њ–Ї–ї–∞–і —Д—А–∞–Ј–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–Љ–∞–Љ–Є —Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П, –Ї–∞–Ї –≤–Є–і–љ–Њ, –љ–µ—В. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–µ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —Д—А–∞–Ј–∞ –Њ «–±–∞—А—Л—И–љ—П—Е» –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В —Б–ї–µ–і–Њ–≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –њ–Њ—З—В–Є –і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–є –њ–µ—А–µ—Б–Ї–∞–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј «–і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–≤ —Б –Љ–µ—Б—В» — —Д—А–∞–Ј–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–Љ –Ј–і–µ—Б—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї —А–µ–ї–Є–Ї—В –њ—А—П–Љ–Њ–є —А–µ—З–Є.
–Т –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є —В–Њ, —З—В–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, —Е–Њ—В—П –Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є «–і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞», –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В —З–µ—В–Ї–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Н—В–Њ–є –Ј–∞–њ–Є—Б–Є. –Ґ–∞–Ї–∞—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–і—Л—В–Њ–ґ–Є–≤–∞—В—М –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –љ–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–Є –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Є–љ–∞—З–µ –±—Л—В—М —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –љ–Є–Љ–Є, –љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є –њ—А–µ–і–≤–∞—А—П—В—М –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е –і–µ—В–∞–ї–µ–є –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–є –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Є–Љ–µ—В—М –Ї –љ–Є–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П. –Т –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞–њ–Є—Б—П—Е –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –†–Ъ–Я(–±) –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ 25 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –Є 16 –Љ–∞—А—В–∞ 1921 –≥. –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П—Е, –∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–Њ –љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–Є. –Ґ–∞–Ї–∞—П —А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–Њ–≤–Ї–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–≤ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і—П –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Є—Б—В –≤ —А—П–і–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –љ–µ —Б–∞–Љ –Њ–±–Њ–±—Й–∞–µ—В –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л–µ –µ–Љ—Г —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–µ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є, –љ–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Ї–∞–љ–≤–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–∞.
–≠—В–Є–Љ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –њ—А–µ—Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–µ—В—Б—П –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М —А–∞–±–Њ—В—Л —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞ –њ–Њ —Г–љ–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л—Е –Є–Љ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–≤ — –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–∞—Е –µ–µ —Б–ї–µ–і—Л –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Њ—Й—Г—В–Є–Љ—Л. –Ю–±—А–∞—Й–∞–µ—В –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е «–і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–≤ —Б –Љ–µ—Б—В» — —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї—А–∞—В–Ї–∞—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П, –Ј–∞—В–µ–Љ — –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –љ–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –≤–Њ –≤—Б—В—Г–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ; –љ–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–Є–µ, –љ–µ —Б–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П—Б—М, –љ–µ —Б–±–Є–≤–∞—П—Б—М, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Ї –Є –љ–µ –Є–љ–∞—З–µ —Б—В—А–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ –љ–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–µ–Љ-—В–Њ –Ї–∞–љ–≤–µ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞. –Т –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –†–Ъ–Я(–±) –Т—Л–±–Њ—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ 9 –Љ–∞—А—В–∞ 1921 –≥. –Ґ–∞–Ї–∞—П —Г–љ–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –≤—Л—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —А–µ–ї—М–µ—Д–љ–Њ — –≥–Њ–≤–Њ—А—П –Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–∞—Е, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В –Њ–±—Л—З–љ–Њ –і–≤–∞-—В—А–Є —Б–ї–Њ–≤–∞, –њ—А–Є—З–µ–Љ —З–∞—Б—В–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—О—Й–Є–µ—Б—П: «–Ь–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–≤–Њ–і: —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П, –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ <...>. –°—В–∞—А—Л–є –Ы–µ—Б—Б–љ–µ—А: —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ <...>. –Ч–∞–≤–Њ–і –Р–є–≤–∞–Ј: –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Ј–∞–≤[–Њ–і] –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П <...>. –Ч–∞–≤[–Њ–і] –Ю–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є: —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П, –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ <...>. –Т—Л–±[–Њ—А–≥—Б–Ї–∞—П] –љ–Є—В–Њ—З–љ–∞—П: —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П, —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ».13 –Т –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –†–Ъ–Я(–±) –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ 9 –Љ–∞—А—В–∞ 1921 –≥. –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —З–∞—Б—В–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–≤ «–љ–µ–≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ» –Є «–њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В—Б—П –≥–∞–Ј–µ—В—Л».14
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ–Є –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–∞–Љ–Є –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є, –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–Љ–Є –љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є — –µ—Б–ї–Є –Є–Љ–µ—В—М –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ —Б—В–Њ–ї—М —З–∞—Б—В–Њ —В–∞–Ї–Є–µ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ, –∞ –љ–µ –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ —П—З–µ–µ–Ї –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞, –Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В—М —В–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї.
–Э–µ–Љ–∞–ї–Њ–≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Є–Љ–µ–µ—В –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є «–і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–≤ —Б –Љ–µ—Б—В». –Э–µ—А–µ–і–Ї–Є —Б–ї—Г—З–∞–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ –Ї–∞–Ї–Є—Е- –ї–Є–±–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ, –∞ –њ–Њ—А–Њ–є –Є —Б —З—Г–ґ–Є—Е —Б–ї–Њ–≤.15 –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –љ–µ–Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї—Г –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤—Б–µ —В–Њ, —З—В–Њ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є –Љ–∞—Б–Ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А—Л –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Г–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є –Њ —В–∞–Ї–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –ї–Є—И—М —Б–њ—Г—Б—В—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є. –Т —А—П–і–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї—Б—П, –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞—П —Б–Ї—Г–і–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є: «–Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ», «–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Њ–і–Њ–±—А—П–ї–∞—Б—М»,16 –љ–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Њ–љ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ —В–µ—Е –Є–ї–Є –Є–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е, –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—П, –±—Л–ї –ї–Є –Њ–љ –Є—Е –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–µ–Љ –Є–ї–Є —Г–Ј–љ–∞–ї –Њ –љ–Є—Е –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е –ї—О–і–µ–є. –Ю—В–≤–µ—В–Є—В—М –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –і–∞–ґ–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і—П –і–µ—В–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј —В–µ–Ї—Б—В–∞, –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ–Њ, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –≤–≤–Є–і—Г —Б—Г–≥—Г–±–Њ–є –Ї—А–∞—В–Ї–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–њ–Є—Б–µ–є.
–Т —В–µ–Ї—Б—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є –Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–∞—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –±–µ–Ј —В—А—Г–і–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М —А—П–і –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–є, –Є —Н—В–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М —Г—З—В–µ–љ–Њ –њ—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї, –≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є –Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –і–µ–ї –љ–∞ –Ґ—О–ї–µ–≤–Њ–є —Д–∞–±—А–Є–Ї–µ 25 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1921 –≥. –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є: «–Т–Њ–ї–љ—Г—О—В—Б—П –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ—Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М—П. –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, –≤—Б–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ».17 –Т –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ –Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –Ь–Њ–љ–µ—В–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –Ј–∞ —Н—В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ –Є —В–∞–Ї–Є–µ –≤—Л–≤–Њ–і—Л: «–†–∞–±–Њ—З–Є–µ –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Њ–≤. –Э–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–µ—В. –Э–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–µ».18 –°—В–µ–њ–µ–љ—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л—П–≤–Є—В—М, –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Ј–љ–∞—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–Њ–Љ –Њ—Ж–µ–љ–Њ—З–љ—Л—Е –Ї–ї–Є—И–µ, –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е — —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П –Є—Е –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В. –Ф–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї (–Є–ї–Є –Є–Ј–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є–є –µ–≥–Њ —А–µ—З—М –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Є—Б—В) –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ї–ї–Є—И–µ –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Њ—В—В–µ–љ–Ї–Њ–≤ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П. «–Э–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ» — —Н—В–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–Њ–≥ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П –њ—А–Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –Є –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–є, –Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–є. –Ф—А—Г–≥–Њ–є —В–µ—А–Љ–Є–љ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ—В, –љ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤—Б–µ –ґ–µ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Њ—В–і–µ–ї–Є—В—М –Љ–µ–ї–Њ—З–љ–Њ–µ –Њ—В –≤–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В — –Њ—В—Б—О–і–∞ –Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–Є–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞ –і–ї—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Њ—Ж–µ–љ–Њ–Ї. –Я—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ –Ј–і–µ—Б—М –Є–Љ–µ–µ—В —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—В—М –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —Б–Ї—Г–і–Њ—Б—В–Є –ї–µ–Ї—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А–∞. –Я—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Є—Б—В –≤–≤–Є–і—Г –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Ї—А–∞—В–Ї–Њ—Б—В–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –і–∞–ґ–µ —Г—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Н—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–Є — —В—А—Г–і–љ–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є–µ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П—Е.
–Э–∞–ї–Є—З–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–є –≤ —В–µ–Ї—Б—В–∞—Е —А–µ—З–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–µ—А–µ —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г –µ–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є. –Я–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–Є–µ –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е —В–Њ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Г—О, —В–Њ –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ—Г—О –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–∞–≤–Њ–і–Є—В –љ–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Є—Б—В–Њ–Љ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї—Б—П –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–љ—В–µ–Ј –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Њ–±—Й–µ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Ј–∞–њ–Є—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Њ–±—Й–Є—Е –Њ—Ж–µ–љ–Њ–Ї, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –і–∞–љ–љ—Л—Е –Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–Њ–Љ, — –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ —Г—В–Њ—З–љ—П—О—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞. –≠—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Є—Б—В –Љ–Њ–≥ –і–Њ—В–Њ—И–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –Њ–±—Л—З–љ–Њ, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Ј–∞ —А–µ—З—М—О –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–∞, –∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г–Љ–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –µ–µ –≤—Л–≤–Њ–і—Л. –Ф—А—Г–≥–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б — –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л–ї–∞ —З–µ—В–Ї–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–Њ–≤, –≤–≤–Є–і—Г –њ—А–Є—Б—Г—Й–µ–є –Є–Љ –њ–Њ—А–Њ–є –ї–µ–Ї—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–µ–≤–љ—П—В–Є—Ж–µ. –†—П–і —П–≤–ї–µ–љ–Є–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї —Б–Ї–Њ—А–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–Њ–є, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–љ–∞—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —П–Ј—Л–Ї–∞ –Њ—Д–Є—Ж–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є–є —В–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ —Г–ї–Њ–≤–Є—В—М —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –≤–µ—А–і–Є–Ї—В–∞. –Т –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –†–Ъ–Я(–±) –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ 9 –Љ–∞—А—В–∞ 1921 –≥., –≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є –Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ —Д–∞–±—А–Є–Ї–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є—П –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ —Д—А–∞–Ј—Г: «–љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є —Г–ї—Г—З—И–Є–ї–Њ—Б—М»,19 –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–∞—В—М –і–≤–Њ—П–Ї–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В. –Э–Њ –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ, –±—Л–ї–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–Ї—Г–і–љ—Л–Љ–Є –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –ї–Є–±–Њ –≤ –≤–Є–і–µ –љ–µ—В–Њ—З–љ—Л—Е —Б–ї—Г—Е–Њ–≤, –ї–Є–±–Њ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б–≤–Њ–і–Њ–Ї, –њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г–µ–Љ—Л—Е –≤ –Њ—Д–Є—Ж–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –≥–∞–Ј–µ—В–∞—Е — –∞ –≤ –љ–Є—Е –Љ—Л –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–Љ –Є –љ–∞–Љ–µ–Ї–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ–≤–∞–ї —И—В—Г—А–Љ–∞ 8 –Љ–∞—А—В–∞. –Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, —В–µ—А–Љ–Є–љ «—Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П» –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є —Б –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–≤–Њ–і–Њ–Ї —В–µ—Е –і–љ–µ–є, –Љ–Њ–≥ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Г–њ—А–Њ—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є –Љ–∞—Б—Б. –Х—Б–ї–Є –±—Л –і–µ–ї–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П–ї–Њ –Є–љ–∞—З–µ, –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А –Љ–Њ–≥ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М –Є «—Г—Е—Г–і—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П» — —Н—В–Њ –±—Л–ї —В–Њ–ґ–µ —З–∞—Б—В–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ—Л–є —В–µ—А–Љ–Є–љ –≤ —Б–≤–Њ–і–Ї–∞—Е. –Т-—В—А–µ—В—М–Є—Е, —Д—А–∞–Ј–∞ –Њ–± –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –≤ –њ–µ—А–≤—Л—Е —З–Є—Б–ї–∞—Е –Љ–∞—А—В–∞ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П –љ–µ –±—Л–ї–∞ —А–µ–і–Ї–Њ–є –≤ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Њ–і–Ї–∞—Е — –∞ –Є—Е, –Ї–∞–Ї —Г–ґ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М, —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Є –њ–Њ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А —А–∞–є–Ї–Њ–Љ–∞ –†–Ъ–Я(–±), —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є–є –Є —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –†–Ъ–Я(–±). –Т —Б–≤–Њ–і–Ї–∞—Е –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А–Њ–≤, —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е «–Њ—В—А–µ–Ј–≤–ї–µ–љ–Є–µ» –±–∞—Б—В—Г—О—Й–Є—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ–Љ —П–Ї–Њ–±—Л —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—П—В «—Ж–∞—А—Б–Ї–Є–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л».
–Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ —З—В–µ–љ–Є—П «–Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В—А–Њ–Ї» —В—А–µ–±—Г–µ—В –Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ —Д–∞–±—А–Є–Ї–µ «–У–Њ—В». –Э–µ –Њ—З–µ–љ—М —П—Б–љ–∞—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞: «–Ц–і—Г—В –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Ї—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є», –њ—А–µ–і–≤–∞—А—П–µ—В—Б—П –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –і–µ—И–Є—Д—А—Г–µ—В—Б—П —Д—А–∞–Ј–Њ–є: «–Э–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ». –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Є–Љ–µ–µ—В –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Є —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї–∞ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ –љ–µ–њ—А–Є—П–Ј–љ–Є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Ї –Љ—П—В–µ–ґ–љ—Л–Љ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ — –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —З–µ—В–Ї–Є–µ –Є —П—Б–љ—Л–µ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –Є–Љ–Є –Љ—П—В–µ–ґ–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В. –Э–∞ —Д–∞–±—А–Є–Ї–µ «–°–≤–µ—В–Њ—З», –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А 9 –Љ–∞—А—В–∞, «–Њ –Ї—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В: “–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М —Б –Ї–ї–µ—И–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –≤–Њ—В –Є –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М”».20 –Ю—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –≤–Є–і–µ–љ, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–Є–Ј–Љ –Є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ, –Є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –≤ «—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е» —Н–Ї—Б—Ж–µ—Б—Б–∞—Е 1918—1920-—Е –≥–≥., –њ—А–µ–≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б—П –Є—Е –і–µ—П–љ–Є—П –≤ «–∞–≥–Є—В–Ї–∞—Е». –£–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–∞ «–Ї–ї–µ—И–љ–Є–Ї–Є» –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –њ—А–Є–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В –Љ–Њ—В–Є–≤—Л –љ–µ–њ—А–Є—П–Ј–љ–Є –Ї –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ — –Њ–љ–∞, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є–Љ–µ–ї–∞ –Є –±—Л—В–Њ–≤–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А.
–У–Њ–≤–Њ—А—П –Њ —З–µ—В–Ї–Њ—Б—В–Є –Є —П—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Ж–µ–љ–Њ–Ї –і–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї–Њ–≤, –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Є—Е –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П. –Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М «—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ», «—Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ» –Є «—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ» –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Є –ї–Є —Н—В–Є –і–µ—Д–Є–љ–Є—Ж–Є–Є –Њ—В—В–µ–љ–Ї–Є –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є –Є–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Ј–∞–Љ–µ–љ—П—О—Й–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ — —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —В—А—Г–і–љ–Њ. –° —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –љ–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е –Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Е–Њ—В—П –±—Л –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –ї–Њ—П–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е. –С–µ–Ј –Њ—Б–Њ–±—Л—Е —Г—Б–Є–ї–Є–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л—П–≤–Є—В—М –Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Д—А–∞–Ј «–љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –љ–µ–≤–∞–ґ–љ–Њ–µ» –Є–ї–Є «–љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–≤—Л—Б–Є–ї–Њ—Б—М» — –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ—Л–µ, –Њ–љ–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В –њ—А–Є—Б—Г—Й–Є–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–µ—З–Є—О –Ї–ї–Є—И–µ, –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–∞–ї–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ—Б—М –Є –і–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–Ј–љ–∞–љ—Л. –Ґ—А—Г–і–љ–µ–µ –≤—Л—П–≤–Є—В—М –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є: «—Б—А–µ–і–љ–µ–µ» –Є «–њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ–µ». –Ь–Њ–ґ–љ–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Є—Е –Њ–±—Й—Г—О –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –≤ —В–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –љ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—В—Б—П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Њ –Ї–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –±—Г–і–µ—В –≤—Б–µ –ґ–µ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є. –£–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—П —Б—В–Њ–ї—М —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–µ—Д–Є–љ–Є—Ж–Є–Є, –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –Љ–∞—Б–Ї–Є—А—Г–µ—В –Ј–і–µ—Б—М –±–µ–Ј–і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–≤, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В –Є—Е –њ—А–Є—Б—Г—Й–Є–Љ –µ–Љ—Г —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ. –Ш–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —А–µ—З–µ–≤–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –Є –µ—Б—В—М —В–∞ –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—О –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ—В—М —Ж–µ–ї—Л–є –Љ–Є—А —Г—И–µ–і—И–µ–є —Н–њ–Њ—Е–Є.
–°. –Т. –ѓ—А–Њ–µ
–Ш–Ј —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ «–†–Ю–°–°–Ш–ѓ –Т XX –Т–Х–Ъ–Х», –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї 70-–ї–µ—В–Є—О —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —З–ї–µ–љ–∞-–Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В–∞ –†–Р–Э, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –Т–∞–ї–µ—А–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞ –®–Є—И–Ї–Є–љ–∞. (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 2005)
–Ф–µ—В—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г—П—Б—М –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і—Л, —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –і–ї—П —Б–µ–±—П –љ–µ–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Є–і–µ–∞–ї–∞ –і–ї—П –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є—П. –Т—Л–±–Њ—А —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ—Г —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Г –љ–Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї. –Х—Б–ї–Є –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ї —Б—Д–µ—А–µ –і–µ—В—Б–Ї–Є—Е —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, —В–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Ї–∞–Ї –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ—Б–ї–µ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б–Ї—Г–і–Њ—Б—В—М —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–Њ–≤. –≠—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –њ—А–Є —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л—Е –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ. –Ґ–∞–Ї, —Г –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ–є –≤ 1912 –≥. –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ —Б—А–µ–і–Є –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤ –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Ь–∞—А—В–Є–љ –Ы—О—В–µ—А (–њ–Њ—З—В–Є 9 % –Њ—В–≤–µ—В–Њ–≤), –≤—Б–µ–≥–Њ –ґ–µ –Њ–љ–Є –і–∞–ї–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 11 % –Њ—В–≤–µ—В–Њ–≤ —Б —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ–Є –Є–і–µ–∞–ї–∞–Љ–Є. –Ю–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–µ –≤ 1913 –≥. —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –і–µ—В–Є (–±–Њ–ї–µ–µ 900 —З–µ–ї.) –і–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—П—В—М –Њ—В–≤–µ—В–Њ–≤ (0,5 %) —Б –Є–і–µ–∞–ї–∞–Љ–Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞: –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, –Ь–Њ–Є—Б–µ–є, –Ш–Њ—Б–Є—Д, –Ы–∞–Ј–∞—А—М –Є «—Б–≤—П—В–Њ–є» (–±–µ–Ј –Є–Љ–µ–љ–Є).1 –Ц–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Њ–±—Л—З–љ–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–µ–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ, –Є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є —З–∞—Й–µ –≤—Л–±–Є—А–∞—О—В —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –Є–і–µ–∞–ї—Л, —З–µ–Љ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Ш –±–µ–Ј —В–Њ–≥–Њ –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є —Г –і–µ–≤–Њ—З–µ–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –µ—Й–µ –љ–Є–ґ–µ, —З–µ–Љ —Г –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤, — –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Њ–љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї 1,2 %, –∞ —Г –і–µ–≤–Њ—З–µ–Ї 0,5 %.2 –Я–Њ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ 1912—1913 –≥–≥. –≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—П—Е, –ї–Є—И—М 0,2 % –Њ—В–≤–µ—В–Њ–≤ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ—Л –Ї —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ –Є–і–µ–∞–ї–∞–Љ, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –≤ –Њ—В–≤–µ—В–∞—Е —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –У–µ—В–µ–±–Њ—А–≥–∞ — –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 15 %. –Ф–∞–ґ–µ —Г –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤ –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ 3 %. –°—А–µ–і–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–µ—В—М–Љ–Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –Є–Љ–µ–љ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–≤—П—В—Л—Е, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞,3 –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є. –Э–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Г —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–є —В—П–≥–Є –Ї —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ –Є–і–µ–∞–ї–∞–Љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ 10-—Е –≥–≥.4 –Ґ–∞ –ґ–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–∞—Б—М –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –Т 1920 –≥. –Є–Ј –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ 1.100 –∞–љ–Ї–µ—В, –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л—Е —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –≥. –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤–∞, –ї–Є—И—М –≤ —В—А–µ—Е –±—Л–ї–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –љ–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –Є–і–µ–∞–ї—Л. –Ф–≤–∞ 10-–ї–µ—В–љ–Є—Е –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞ –ґ–µ–ї–∞–ї–Є –њ–Њ—Е–Њ–і–Є—В—М «–љ–∞ –С–Њ–≥–∞» –Є –Њ–і–Є–љ 11-–ї–µ—В–љ–Є–є — «–љ–∞ –∞–љ–≥–µ–ї–∞».5 –Т 1927 –≥. –Є–Ј 172 –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Г—З–∞—Й–Є—Е—Б—П –і–≤—Г—Е —И–Ї–Њ–ї –≥. –°–∞—А–∞—В–Њ–≤–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ 11-–ї–µ—В–љ–Є–є –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –•—А–Є—Б—В–∞.6
–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ–ї—М–Ј—П –і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і –Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ–є –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–Љ–Є. –°–Ї—Г–і–Њ—Б—В—М —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–±—Й–µ–є —Г–Ј–Њ—Б—В–Є –Ї—А—Г–≥–∞ –ї–Є—З–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є (–Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤) —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ–є –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б –Є—Е –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–Љ–Є —Б–≤–µ—А—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є –≤—Б–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –≤ 10-—Е—20-—Е –≥–≥. –Т—Л–±–Њ—А –Є–Љ–Є –Є–і–µ–∞–ї–∞ –і–ї—П –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–љ–Є—П –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї—А—Г–≥–Њ–Ј–Њ—А–∞ –Є –њ—А–Є–≤—П–Ј–Ї–Њ–є –Ї –Ї—А—Г–≥—Г –ї–Є—Ж –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П.7 –Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є —Б—Е–Њ–ї–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є—П –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є—П (–і–Њ –Њ—В–Љ–µ–љ—Л –µ–≥–Њ –≤ 1918 –≥.). –Т –Њ—В–≤–µ—В–∞—Е –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є—Е —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ 1913 –≥. –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –∞–љ–Ї–µ—В—Л –Њ –С–Њ–≥–µ — «–І—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –С–Њ–≥?» — –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї–Є –Є –Ј—Г–±—А–µ–ґ–Ї–Є. –Ю—В–≤–µ—В—Л –љ–µ –±—Л–ї–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е (–ї–Є—З–љ—Л—Е) —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е —З—Г–≤—Б—В–≤ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –∞ –Ї–Њ–њ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–Ї–Є, –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –±–µ—Б–µ–і –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ—Г—З–Є—В–µ–ї—П –Є–ї–Є –Є–Ј —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–Њ–≤.8 –†—П–і –Њ—В–≤–µ—В–Њ–≤ –∞–љ–Ї–µ—В—Л 1913 –≥. —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –Њ–і–љ—Г –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Г—О –Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Г—О –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –≠—В–Є –Њ—В–≤–µ—В—Л –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ—В—П–Љ –љ–µ —З—Г–ґ–і–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –С–Њ–≥–µ, –Ї–∞–Ї –Њ –С–Њ–≥–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є, –Њ «—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –С–Њ–≥–µ». –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤ –Њ—В–≤–µ—В–∞—Е –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї–Є–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞ –С–Њ–≥–∞, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ–∞ –Є —В. –њ.9 –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Њ—В–≤–µ—В—Л –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –≤—П–ґ—Г—В—Б—П —Б —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ, –∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М —Б–Њ–Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ—Л —Б –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ—Л–Љ–Є –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –®–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –њ–Њ—З–µ—А–њ–љ—Г—В—М —Н—В–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј —Г—А–Њ–Ї–Њ–≤ –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є—П. –Ю–љ–Є –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—П –С–Њ–≥–∞ –Љ–∞–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ—Л–Љ–Є –Є —Б—Г–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ–Є –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–Љ–Є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е —Б–ї–µ–і—Л —П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–∞. –Т 1909 –≥. —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —Г—З–Є—В–µ–ї—П–Љ, —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—П–Љ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В–љ–Є—Е —Г—З–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г—А—Б–Њ–≤, –њ—А–Є–µ—Е–∞–≤—И–Є–Љ –Є–Ј –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ 40 –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–Є—Е —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ—В–≤–µ—В–Є–≤ –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –∞–љ–Ї–µ—В—Л. –Я–µ–і–∞–≥–Њ–≥ –Э. –Т. –І–µ—Е–Њ–≤, –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—П —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Њ–њ—А–Њ—Б–∞, –њ–Є—Б–∞–ї: «–Ф–µ—В–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л —Б —Б—Г–µ–≤–µ—А–Є—П–Љ–Є –Є –≤–µ—А—П—В –≤ –љ–Є—Е —В–∞–Ї —В–≤–µ—А–і–Њ, —З—В–Њ –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П —Б —Б—Г–µ–≤–µ—А–Є—П–Љ–Є —В—А—Г–і–љ–Њ <...>. –°—Г–µ–≤–µ—А–Є—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—В –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ: –Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Є –і–µ—В–Є —Б –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л–Љ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—И–∞—О—В —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –њ—А–Њ –Ї–Њ–ї–і—Г–љ–Њ–≤, –≤–Њ–і—П–љ—Л—Е, –≤–µ–і—М–Љ, –≤–µ—А—П—В –≤ –љ–µ—З–Є—Б—В—Г—О —Б–Є–ї—Г, –≤ —Б–∞—В–∞–љ—Г, –Њ–±–Њ—А–Њ—В–љ–µ–є, –≤ —И–µ–њ—В—Г–љ–Њ–≤, –≤ “—Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞”, –≤ –ї–µ—И–µ–≥–Њ <...>. –Ъ–ї–∞–і–±–Є—Й–∞ –Є –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±–Њ—П—В—Б—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ <...>, –і—Г–Љ–∞—О—В, —З—В–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –≤—Б—В–∞–≤–∞—В—М –Є–Ј –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л. –Ч–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –≤–Ј—А–Њ—Б–ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —В–µ—Е –і–µ—А–µ–≤–љ—П—Е –Є —Б–µ–ї–∞—Е, –≥–і–µ —И–Ї–Њ–ї–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —Г–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В, –њ—А–Њ—И–ї–∞ —З–µ—А–µ–Ј —И–Ї–Њ–ї—Г, –љ–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –љ–∞ —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–µ–≤–µ—А–Є–є».10 –°—Г–µ–≤–µ—А–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї–∞–Ї –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ–∞—П –Є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ–є –Є –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤. –†–µ–ї–Є–≥–Є—П –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–µ, –Ї–∞–Ї —Б—В–µ—А–ґ–µ–љ—М –≤—Б–µ–є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е —Г—Б—В–Њ–µ–≤, —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ –Њ–±—А—П–і—Л –Є —Б–≤—П—В–Њ —З—В–Є–Љ—Л–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є, –Є–Ї–Њ–љ—Л –Є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–ї–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ–±—Л—З–∞–Є —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є. –С–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М –Ї –њ—А–Є—А–Њ–і–µ, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ, –≤–ї–Є—П–љ–Є—П —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —Б–Є–ї—М–љ—Л—Е –Є —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–є –Є —З—В–µ–љ–Є—П, –љ–µ—В–Њ—А–Њ–њ–ї–Є–≤—Л–є –Є –Њ–і–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є —А–Є—В–Љ –ґ–Є–Ј–љ–Є, — –≤—Б–µ —Н—В–Њ –љ–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Њ –Њ—Б–Њ–±—Л–є –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–Њ–Ї –љ–∞ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ї —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є. –≠—В–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —В–µ—Б–љ—Л–Љ–Є –Є –Є–љ—В–Є–Љ–љ—Л–Љ–Є, —Е–Њ—В—П –Є –Є–Љ–µ–ї–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–∞–љ—В–µ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—В—В–µ–љ–Њ–Ї.
–Т–Њ–є–љ–∞, –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В—М—О, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Њ—Й—Г—В–Є–Љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –≥–Њ–і—Л –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–Љ –Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–Љ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –µ–≥–Њ –≤–Є–і–µ—В—М –±–Њ—А—Ж–∞–Љ —Б —А–µ–ї–Є–≥–Є–µ–є. –Ю—В–Љ–µ–љ–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є—П –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є—П, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ —Б—А–µ–і–Є —Г—З–∞—Й–Є—Е—Б—П, –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–∞ —Г –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Є —Г –Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—О. –Ю—Б–µ–љ—М—О 1918 –≥., –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ «–±–µ–Ј—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ» —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞, –±—Л–ї–Њ –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 500 —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—А–µ–і–љ–Є—Е –Є —Б—В–∞—А—И–Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤ –≥. –Ю—А–ї–∞ –Њ–± –Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї –Њ—В–Љ–µ–љ–µ –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є—П. –£–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ—Г –ї–Є—И—М —З–µ—В–≤–µ—А—В–∞—П —З–∞—Б—В—М –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е, –Є –µ—Й–µ 12,5 % –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–Є –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ 62,5 % –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Њ—В–Љ–µ–љ—Л. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—В–Љ–µ–љ—Л (50 %) –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Г—О —Б—А–µ–і–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–і–µ—О –Њ–± –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞. –°—А–µ–і–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—В–Љ–µ–љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –і–∞–ґ–µ —В–µ, –Ї—В–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї —Н—В–Њ—В –њ—А–µ–і–Љ–µ—В «—Б–Ї—Г—З–љ–Њ–є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О», –љ–Њ –Є –Њ–љ–Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ—В–Є–≤, –Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А—Г—П —Б–≤–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ «–љ–∞—Б–Є–ї–Є—П» –Є «—Б—В–µ—Б–љ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л».11 –Э–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е —И–Ї–Њ–ї–∞—Е –Њ—В–Љ–µ–љ–∞ —Г—А–Њ–Ї–Њ–≤ –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –С–Њ–ґ–Є—П –Є —Г–і–∞–ї–µ–љ–Є–µ –Є–Ї–Њ–љ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—Л —Г—З–∞—Й–Є–Љ–Є—Б—П –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ. –Ш–љ–∞—З–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П–ї–Њ –і–µ–ї–Њ –≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —И–Ї–Њ–ї–∞—Е. –Х—Й–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л–љ–Њ—Б–∞ –Є–Ї–Њ–љ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є, –њ—А–Є—Е–Њ–і—П –≤ —И–Ї–Њ–ї—Г, –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ –Ї—А–µ—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ, –≥–і–µ —А–∞–љ—М—И–µ –≤–Є—Б–µ–ї–Є —Б–≤—П—В—Л–µ –ї–Є–Ї–Є. –Р–љ—В–Є—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –±–µ—Б–µ–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–µ–ї–Є —Г—З–Є—В–µ–ї—П, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –≤ –і–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є–Є. –£—З–Є—В–µ–ї—П–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б–ї—Л—И–∞—В—М —В–∞–Ї–Є–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П: «<...> –Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –≤–µ–ї–µ—В—М –љ–µ –≤–µ—А–Є—В—М –≤ –С–Њ–≥–∞. –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–Є –Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ –љ–µ—В –С–Њ–≥–∞, —А–∞–Ј –Љ—Л –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–љ–∞—В—М, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –і–∞–ґ–µ –µ—Й–µ –Ј–љ–∞—В—М, –Ї–∞–Ї–Њ–≤–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–ї–∞–љ–µ—В–∞—Е».12 –≠—В–Є –і–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і—Е–ї–µ—Б—В–љ—Г–ї–∞ –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—П –њ–Њ –Є–Ј—К—П—В–Є—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ї–∞ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≥–Њ—А—П—З–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–Є—О –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ –ї–Є—И—М –Љ–µ–љ—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–∞ —Б—В–Њ–є–Ї–∞—П –≤–µ—А–∞ –≤ –С–Њ–≥–∞. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В–Є –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–ї–Њ–µ–≤ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є—Е —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–µ—В –і–∞—В—М –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї—А—Г–≥–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є 12—15-–ї–µ—В–љ–Є—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ —И–Ї–Њ–ї—Л-—Б–µ–Љ–Є–ї–µ—В–Ї–Є –†—Л–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –≤ 1924 –≥. –Ф–≤–µ —В—А–µ—В–Є –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е –і–∞–ї–Є —Б–ї–Њ–≤—Г «–С–Њ–≥» —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ: «–С–Њ–≥-–і—Г—Е» (–љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–ї–Є: «–љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л–є»). –Ю–і–љ–∞ —В—А–µ—В—М –Њ—В–≤–µ—А–≥–ї–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –С–Њ–≥–∞: «–≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ», «—Б—В–∞—А—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤—Л–і—Г–Љ–Ї–∞», «–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ» –Є —В. –њ.13 –Ь–Њ—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –і–µ—В—М–Љ–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б—Г–≥—Г–±–Њ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е, –њ–Њ—З–µ—А–њ–љ—Г—В—Л—Е –Є–Љ–Є –Є–Ј –∞–љ—В–Є—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Л. –®–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Є –≥. –Т–µ—Б—М–µ- –≥–Њ–љ—Б–Ї–∞ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –∞–љ–Ї–µ—В—Л –Њ –Ї–љ–Є–≥–∞—Е –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –і–∞–ї–Є –Њ—В–≤–µ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є—В—М –љ–∞ —В—А–Є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є: 1) —Н—В–Є –Ї–љ–Є–≥–Є –љ–µ–њ—А–∞–≤–і–∞, 2) –≤ –љ–Є—Е –љ–µ—В –њ–Њ–ї—М–Ј—Л, 3) –Њ–љ–Є –љ–µ–љ–∞—Г—З–љ—Л. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –Њ—В–≤–µ—В–Њ–≤ –±—Л–ї –і–∞–ґ–µ —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ —В–∞–Ї: «–≠—В–Є –Ї–љ–Є–≥–Є —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—О—В –љ–µ —Г–Љ, –∞ —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є—О».14
–Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –њ–∞–і–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–µ–Љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М—О —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –ґ–Є–Ј–љ–Є –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–≤—Л, —З—В–Њ –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞ —Е–Њ–і–Є—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М. –Т –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П—Е –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –њ—А–Є—З–Є–љ –љ–µ–њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П —Ж–µ—А–Ї–≤–Є (–Ї–∞–Ї –Є —И–Ї–Њ–ї—Л) –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ 20-—Е –≥–≥. –±—Л–ї–∞ –љ–Є—Й–µ—В–∞ –Є —А–∞–Ј—А—Г—Е–∞, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л –Є –Њ–±—Г–≤–Є. «–Ь–∞–ї–Њ –љ–∞—А–Њ–і—Г —Б—В–∞–ї–Њ –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Е–Њ–і–Є—В—М, — —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –Ш–Ј–Љ–∞–є–ї–Њ–≤–Њ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. — –•–Њ–Ј—П–µ–≤–∞ –љ–µ —Е–Њ–і—П—В —Б–∞–Љ–Є, —Е–Њ–і—П—В –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –і–∞ –і–µ—В–Є, –Ї–Њ–Љ—Г –µ—Б—В—М –≤ —З–µ–Љ —Е–Њ–і–Є—В—М. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –і–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є 600—700, —Е–Њ–і–Є—В 150—200 <...>. –†–∞–Ј–≤–µ –±–Њ—Б–Њ–є –њ–Њ–є–і–µ—И—М».15 –Э–Њ –Є —В–∞–Љ, –≥–і–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ –±—Л–ї–Њ –ї—Г—З—И–µ, –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–µ–Љ–Њ—Б—В—М —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є —В–∞–Ї–ґ–µ —Г–њ–∞–ї–∞. –С–µ–Ј—А–Њ–њ–Њ—В–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є—И—М –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Є–µ –і–µ—В–Є –њ–Њ–і –љ–∞–і–Ј–Њ—А–Њ–Љ –Љ–∞—В–µ—А–µ–є. –Ъ–Њ–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–≤–µ—А—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ґ–Њ–љ –Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї–Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є –Є–Ј –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј—Г—О—Й–Є—Е—Б—П —В–Њ –Ј–і–µ—Б—М, —В–Њ —В–∞–Љ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —П—З–µ–µ–Ї. –Я–Њ –Є—Е –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –∞–Ї—В—Л «—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Е—Г–ї–Є–≥–∞–љ—Б—В–≤–∞», –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ. –Т –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞ «–Љ–∞—В–µ—А–Є—В—М» –С–Њ–≥–∞ –Є –≤—Б–µ—Е —Б–≤—П—В—Л—Е, –Є–ї–Є –ґ–µ —В–Њ–ї–њ–∞ –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Є–Є —Б –њ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—Е–∞–±–љ—Л—Е –њ–µ—Б–µ–љ –њ–Њ–і –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Ї—Г.16 –Ф–µ–ї–Њ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–є —А—Г–≥–∞–љ—М—О, –∞ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Є –і—А–∞–Ї–∞–Љ–Є.
–Ю—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Њ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Є —И–Ї–Њ–ї—Л –Њ—В —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–≤—И–µ–µ—Б—П —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є –∞–љ—В–Є—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–Њ–є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–љ–Є—О –љ–Њ–≤–Њ–є –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А—Л –≤ —Б—А–µ–і–µ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є. –≠—В–Њ—В –љ–Њ–≤—Л–є –і—Г—Е –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –Њ—В –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤ –Ї –і–µ—В—П–Љ. –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ –Є —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤, — –Є –±–µ–Ј —В–Њ–≥–Њ —Г–ґ–µ –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–±–ї–µ–љ–љ–Њ–µ, — —А—Г—Е–љ—Г–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Ф—Г—Е –Њ—В—А–Є—Ж–∞–љ–Є—П —В—Г—В –ґ–µ –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П –≤ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ:
«–Я–Њ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ —П –Є–і—Г,
–Ф—Г–Љ–∞—О, — –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г.
–ѓ –ї—О–±–Њ–Љ—Г —Б—В–∞—А–Є–Ї—Г
–Э–∞–њ–ї—О—О –љ–∞ –±–Њ—А–Њ–і—Г».
–Т—Б–µ, —З—В–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ—И–ї—Л–Љ–Є –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є: —А–µ–ї–Є–≥–Є—П, —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, — –љ—Л–љ–µ –њ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—А—Г–≥–∞–љ–Є—О –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –≤–ї–∞—Б—В–µ–є. –Ґ–Њ, —З—В–Њ –Њ—Б–≤—П—Й–∞–ї–Њ—Б—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А—П–і–Њ–Љ, — —Б—В–∞–ї–Њ –і–µ–ї–Њ–Љ –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞–њ–Є—Б–Є. –†–∞–љ—М—И–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –±—А–∞–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–µ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–Љ –њ–∞—А—Г –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е «–љ–∞–≤–µ–Ї–Є», –∞ —В–µ–њ–µ—А—М — –Љ–Є–љ—Г—В–љ—Г—О –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Г –≤ —Б–µ–ї—М—Б–Њ–≤–µ—В–µ. –Т–µ–љ—З–∞–љ–Є–µ –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–Њ –Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –±—А–∞–Ї–∞, — –Ї–∞–Ї –ґ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–∞–Љ–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–∞ –≤–µ–љ—З–∞–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї–∞—П —Н–Љ–∞–љ—Б–Є–њ–∞—Ж–Є—П —И–Њ–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б—В–∞—А—И–µ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Є–Љ–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤—Г –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –Э–∞ –≤–µ—З–µ—А–љ–Є—Е –≥—Г–ї—П–љ—М—П—Е 16—18–ї–µ—В–љ–Є–µ —О–љ–Њ—И–Є –Є –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є –≤–µ—Б–µ–ї–Њ —А–∞—Б–њ–µ–≤–∞–ї–Є —З–∞—Б—В—Г—И–Ї—Г:
«–Ґ–µ–њ–µ—А—М –љ–Њ–≤—Л–µ –њ—А–∞–≤–∞
–Э–µ –љ–∞–і–Њ –Є –≤–µ–љ—З–∞—В—Ж—Л,
–Т –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–µ –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞—В—Ж—Л».
–Р –њ–∞—А–љ–Є –і–µ–ї–∞–ї–Є –і–ї—П —Б–µ–±—П –µ—Й–µ –Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –≤—Л–≤–Њ–і:
«–Ґ–∞–±–∞–Ї—Г –≤—Л –љ–µ –Ї—Г—А–Є—В–µ,
–Э–µ –њ–µ–є—В–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ–љ.
–С–Њ–ї—М—И–µ –і–µ–≤–Њ—З–µ–Ї –ї—О–±–Є—В–µ,
–≠—В–Њ –љ–Њ–≤—Л–є –µ—Б—В—М –Ј–∞–Ї–Њ–љ».17
–Я–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –Є —А–∞–љ—М—И–µ –±—Л–ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–Љ, –љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г –±—А–∞–Ї—Г, –Ї–∞–Ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б—В–Њ–µ–≤, –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–њ—А–µ–ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ. –†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –≤ —Н—В–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ–і—А—Л–≤–∞–ї–∞ –Ї—А–∞–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л—В–∞.
–Я–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ —Б—А–µ–і–µ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –і–µ–ї–Њ–Љ –њ—А–µ–і–Њ—Б—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ. –Ф–∞–ґ–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —А–µ–±—П—В–∞ –±–Њ—П–ї–Є—Б—М –Љ–љ–µ–љ–Є—П –Є –љ–∞—Б–Љ–µ—И–µ–Ї —Б–≤–Њ–Є—Е —А–Њ–≤–µ—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤.18 –Э–∞ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е –Є –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б–ї–Њ—П—Е –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤-–Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Г—Б–µ—А–і–љ–Њ —Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б—В–∞—А–Њ–≤–µ—А—Л –Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–µ –Ї–∞–Ј–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ.19 –С–Њ–ї–µ–µ —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Ї –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—О —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є, —З–µ–Љ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Є. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —И–ї–Є –Ї —Б–ї—Г–ґ–±–µ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Њ–≥–Њ—А—З–∞—В—М —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Є–ї–Є –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–≤.20 –Э–Њ –њ–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞–Љ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ — –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ, –Я–∞—Б—Е–∞, –Ґ—А–Њ–Є—Ж–∞ –Є –і—А., –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ. –Т –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–ї–Є–ї–Њ—Б—М –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ —В—А–Є –і–љ—П, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤—Б—П –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М.21 –¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Б–µ–ї–µ, –љ–Њ –Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б–∞–Љ—Г—О –±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г –і–ї—П –±–Њ–≥–Њ–±–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –С–Њ—А–Њ—В—М—Б—П —Б –љ–Є–Љ–Є –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ–Њ. –Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤ —В–µ—Е –Є–ї–Є –Є–љ—Л—Е –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П—Е, –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е –Є —Б–µ–ї–∞—Е, –Њ–±—Й–Є–Љ –±—Л–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ —Б –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —А–µ–і–Ї–Є–Љ. –Ь–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–є –Њ–њ—А–Њ—Б —Г—З–∞—Й–Є—Е—Б—П —И–Ї–Њ–ї –≥. –Т–µ—Б—М–µ–≥–Њ–љ—Б–Ї–∞ –≤ 1923 –≥. –і–∞–ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л: —Б—А–µ–і–Є –і–µ—В–µ–є –Љ–ї–∞–і—И–Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤ —И–Ї–Њ–ї 1-–є —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є (8—11 –ї–µ—В) –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є —Е–Њ–і–Є—В—М –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М 62 %, —Б—В–∞—А—И–Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤ 1-–є —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є (11—14 –ї–µ—В) — 52 %, –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤ 2-–є —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є (14—20 –ї–µ—В) — 32 %.22
–Э–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є —Б—З–Є—В–∞—В—М –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В–Є? –Т–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–Љ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –і–≤—Г—Е —Б—В–∞—А—И–µ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –Э–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ 1924 –≥. —Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –Я–∞—Б—Е—Г –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М: «–†–∞–љ—М—И–µ –≤ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Є —П —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є –≥—А–µ—Е–Є. –Т —Н—В—Г –ґ–µ –Я–∞—Б—Е—Г –њ–µ—А–µ–і –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М—О —П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —А–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–ї—М—Ж–µ–≤, —Г–і–µ–ї—П—П –±–Њ–ї—М—И–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞–Љ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–∞»; «<...> –ѓ —Е–Њ–і–Є–ї –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ї –Ј–∞—Г—В—А–µ–љ–µ, –љ–Њ –љ–µ –Ј–∞ —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П, –∞ —Б–Њ–Ј–љ–∞—О—Б—М, –Ј–∞ —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ—Е—А–Є—Б—В–Њ—Б–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є».23 –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –Є –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ –Є–љ–і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤ —Б –≤—Л–Ј–Њ–≤–Њ–Љ –Є –±—А–∞–≤–∞–і–Њ–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М, —З—В–Њ —Е–Њ–і–Є—В –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М «–њ–Њ—Е—Г–ї–Є–≥–∞–љ–Є—В—М», «–љ–∞ —Б–≤–Є–і–∞–љ–Є–µ» –Є–ї–Є «–њ–Њ–Ї–∞–њ–∞—В—М —Б–≤–µ—З–Ї–Њ–є –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г».24 «–ѓ –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Е–Њ–ґ—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Я–∞—Б—Е—Г, –Љ–µ–љ—П –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–µ—В, — –њ–Є—Б–∞–ї –≤ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ —В–µ–Љ—Г –Њ–± –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї. — –ѓ —Б—В–Њ—О –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є. –Э–∞ –Я–∞—Б—Е–µ –Љ—Л —Е–Њ–і–Є–Љ –Ј–≤–Њ–љ–Є—В—М –љ–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—О –Є –±–∞–ї–Њ–≤–∞—В—М—Б—П, –≤ —И–∞–њ–Ї–Є —Б—В—А–µ–ї—П–µ–Љ. –Т —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ, –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ –≤–Є—Б—П—В –і–Њ—Б–Ї–Є, –Ј–∞—З–µ—А—З–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—А–∞—Б–Ї–∞–Љ–Є. –ѓ –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Е–Њ–і–Є—В—М –љ–µ –ї—О–±–ї—О, –∞ –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–є–і—Г, —В–Њ –±—Г–і—Г –±–∞–ї–Њ–≤–∞—В—М—Б—П».25 –Ю—З–µ–љ—М –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —О–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є—В–µ–ї—П –і–µ—А–µ–≤–љ–Є: «–ѓ –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Е–Њ–ґ—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Я–∞—Б—Е—Г –Є –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –≥–Њ–і–Њ–≤—Л–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є. –Ь—Л —Е–Њ–і–Є–Љ –≤—Б–µ —Б —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ, –∞ –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Љ—Л –љ–µ —Е–Њ–і–Є–Љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞. –Ь—Л —Б—В–Њ–Є–Љ —Б —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є: —Б –Я–∞—И–µ–є –Є —Б –Т–∞—Б–µ–є –Є –і–µ—А–ґ–Є–Љ –њ–Њ —Б–≤–µ—З–Ї–µ, –ґ–≥–µ–Љ –Є—Е –Є —В—Г—И–Є–Љ –і—А—Г–≥ —Г –і—А—Г–≥–∞. –Ь—Л –≤—Л—Е–Њ–і–Є–Љ –Є–Ј —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В–∞–Љ –ґ–∞—А–Ї–Њ –Є —В–µ—Б–љ–Њ. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –Љ–љ–µ —В–∞–Љ –Є–Ї–Њ–љ—Л —А–∞–Ј–љ—Л–µ –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ».26 –Я–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–∞–Љ–Є –і–∞–ґ–µ –≤ 20-—Е –≥–≥. –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М—О, –љ–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –њ—А–Є–≤—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є: –љ–∞—Б—В–Њ—П–љ–Є—П–Љ–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–Њ–Ј–Њ—А–љ–Є—З–∞—В—М –Є–ї–Є –њ–Њ—Д–ї–Є—А—В–Њ–≤–∞—В—М.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є –љ–µ–њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –Њ–±—А—П–і–Њ–≤ –Є –і–∞–ґ–µ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є –Ї —Б–∞–Љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –µ—Й–µ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–Є—П. –Т–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Њ–µ —Б —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Є–Ј–ґ–Є—В—М —В–∞–Ї –±—Л—Б—В—А–Њ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ. –≠—В–Њ –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї –Њ—З–µ–љ—М –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–і—Г—И–љ–Њ –Њ–і–Є–љ —О–љ–Њ—И–∞ –Є–Ј —Б—В–∞—А–Њ–≤–µ—А–Њ–≤ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –њ–Њ –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—В–Њ—И–µ–і—И–Є–є –Њ—В —Ж–µ—А–Ї–≤–Є: «–Т –С–Њ–≥–∞ –≤—Б–µ –≤–µ—А—П—В; –Ї–∞–Ї –љ–µ –≤–µ—А–Њ–≤–∞—В—М?».27 –Ш–Ј —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ—Л—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤ —И–Ї–Њ–ї –≥. –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–і–∞—А–∞ (–≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В 16—18 –ї–µ—В), –∞–љ–Њ–љ–Є–Љ–љ–Њ –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е –≤ 1923 –≥. –ї–Є—И—М 32 % —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–Є —Б–µ–±—П –љ–µ–≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ–Є, 15,6 % –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–ї–Є—Б—М –≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –≤–µ—А—Л; –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є –Њ–±—А—П–і—Л 48,8 % –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е, –њ—А–Є—В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –≤ –С–Њ–≥–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М 52,3 %.28 –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ 32 % —Б—В–∞—А—И–µ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≥. –Т–µ—Б—М–µ–≥–Њ–љ—Б–Ї–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є —Е–Њ–і–Є—В—М –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –љ–Њ –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П 59 % –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї–Є —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –Є –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є—П –≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е.29 –≠—В–Њ—В –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –і–µ—В—Б–Ї–Є—Е —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Є, –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –і—Г—И–µ–≤–љ—Л–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П. –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–Љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В—А—Л–≤–Ї–Њ–≤ –Є–Ј —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –≤ 1924 –≥. —Б—В–∞—А—И–µ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–Є–ґ–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е —И–Ї–Њ–ї –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–µ—Б–µ–љ–љ–Є—Е (–њ–∞—Б—Е–∞–ї—М–љ—Л—Е) –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П—Е. –Ф–ї—П –Њ–і–љ–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є—П —Б —А–µ–ї–Є–≥–Є–µ–є –±—Л–ї –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ: «–ѓ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤ —В–µ–ї–Њ–Љ, –љ–Њ –љ–µ –і—Г—И–Њ–є, –Њ–љ–∞ –Њ—В —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –±–Њ–ї–Є—В, –µ—Б–ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–∞–Ї –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П. –Т –і—Г—И–µ, –µ—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, —В–µ–Љ–љ–Њ, –љ–µ—П—Б–љ–Њ –Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ. –С–Њ–≥–∞ –љ–µ—В. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —А–µ–ї–Є–≥–Є–µ–є –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –≤—Б–µ —Б—В–∞—А—Л–µ –Є–і–µ–∞–ї—Л. –Р –љ–Њ–≤—Л—Е –љ–µ—В. –Я–Њ –љ–Њ–≤–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В, —З—В–Њ —П –Љ–Њ–≥—Г —Г–±–Є—В—М –Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Є —Н—В–Њ –і–ї—П –Љ–Њ–µ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –љ–Є —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ–µ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ. –Ц–Є—В—М-—В–Њ –Є –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В — –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В —П—Б–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і». –Ф—А—Г–≥–Є–µ, –Њ—В—А–Є—Ж–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —А–µ—И–Є—В—М –і–ї—П —Б–µ–±—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –≤–µ—А—Л: «–≠—В–Њ –њ—А–∞–≤–і–∞, —З—В–Њ –њ–Њ–њ—Л –Њ–±–Є—А–∞—О—В –љ–∞—А–Њ–і –Є —З–Є—В–∞—О—В —А–∞–Ј–љ—Л–µ –±–Є–±–ї–Є–Є, –∞ –Є–Ї–Њ–љ—Л — —Н—В–Њ –Є–і–Њ–ї—Л. –Э–Њ –С–Њ–≥ — —П –љ–µ –Ј–љ–∞—О — –µ—Б—В—М –Є–ї–Є –љ–µ—В». –Ґ—А–µ—В—М–Є –±–Њ—П–ї–Є—Б—М –њ–Њ—В–µ—А—П—В—М —А–µ–ї–Є–≥–Є—О, –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–є –ї—О–±–≤–Є: «–Т—Б—В—А–µ—З–∞–ї–∞ –Я–∞—Б—Е—Г –і–Њ–Љ–∞... –Р –Љ—Л—Б–ї–Є, –Љ—Л—Б–ї–Є –±–µ–Ј –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –•–Њ—З–µ—В—Б—П –≤–µ—А–Є—В—М –≤–Њ —З—В–Њ-—В–Њ —Б–≤—П—В–Њ–µ, —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ; —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –≤–µ—А–Є—В—М –≤ —В–∞–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ –±—Г–і—Г—В –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є. –Т–µ–і—М –≤–Њ—В –Њ–љ–Є —В–∞–Љ –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, —Ж–µ–ї—Г—О—В—Б—П; —Е–Њ—В—М –љ–µ –і–Њ–ї–≥–Њ, –љ–Њ –Њ–љ–Є –і—А—Г–Ј—М—П. –Ю–љ–Є –ї—О–±—П—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, –≤–µ—А—П—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г. –Ш —П –≤–µ—А–Є–ї–∞, –Є –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є –ї–µ–≥–Ї–Њ». –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –і–∞–ґ–µ –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —Б—В–Є—Е–∞—Е:
«–Ъ–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–є
–Ю—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ —В—Л, –Я–∞—Б—Е–∞, –Љ–љ–µ.
–†–µ–ї–Є–≥–Є—П –Љ–Є–љ—Г–≤—И–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є
–Ґ–µ–њ–µ—А—М –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–љ–µ <...>.
–Э–Њ –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –±—Л—В—М — —П —Б–∞–Љ –љ–µ –Ј–љ–∞—О:
–Ъ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –Є–ї—М –Њ—В –љ–µ–µ –Є–і—В–Є.
–•–Њ—В—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О,
–І—В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–ї—Г—З—И–µ –љ–∞ –Љ–Њ–µ–Љ –њ—Г—В–Є».30
–†–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Г –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л—Е —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞–Љ –Є—Б—В–Є–љ—Л –Є —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –±—Л—В–Є—П. «–£–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ, — –њ–Є—Б–∞–ї –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 20-—Е –≥–≥. —Г—З–µ–љ–Є–Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –Є–Ј –±—Л–≤—И–Є—Е –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—Б—В–Њ–≤, — –≥–Њ–і–∞ —В—А–Є —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Б—В–∞–ї —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞—В—М, —П —Б—В–∞–ї –Ј–∞–і—Г–Љ—Л–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞–і —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ–Є, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї —П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є, –Є—Б–Ї–∞–љ–Є–є; –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –µ—Й–µ –Љ—Г—З–∞—О—В –Љ–µ–љ—П».31 –Т —Н—В–Є—Е –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Є –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, –∞ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Є —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б, —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–є—В–Є –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ –Њ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤ –ї—О–і–µ–є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Є—Е –њ–Њ–і—Е–Њ–і, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –±—Л–ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Є—З–љ—Л–Љ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ –≤–µ—А–µ –≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–є—В–Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Л–є —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–є –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ –≤—Б–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Э–Њ –Є –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Є–Ј–Љ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Њ–њ–Є—А–∞–ї—Б—П –љ–∞ —О–љ–Њ—И–µ—Б–Ї—Г—О –љ–∞–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –Є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Є, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —З–µ–Љ—Г, —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–µ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ-–ї–Є–±–Њ –≤–µ—А–Њ—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ (–љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—П –Є –∞—В–µ–Є–Ј–Љ–∞) –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–ї–Њ –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–є –Є—Б—В–Є–љ—Л –±—Л—В–Є—П. «–ѓ —А–∞–љ–Њ —Б—В–∞–ї –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤–µ—З–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є, — –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї—Б—П –і—А—Г–≥–Њ–є –±—Л–≤—И–Є–є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—Б—В. — –Я–Њ—Б–ї–µ –і–≤—Г—Е–ї–µ—В–љ–Є—Е –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–є (–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —П –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї –Љ–∞–ї–Њ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –Є –њ–Њ —Н—В–Є–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ –њ—А–Њ—З–µ–ї –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–Њ) —П –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤—Л–≤–Њ–і—Г –∞—В–µ–Є—Б—В–∞, —Е–Њ—В—П –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Б—М „–є–Њ–≥–Є“, —П –њ—А–Є–љ—П–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ—А—В –Є–љ–і—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –Є —Г–≤–µ—А–Њ–≤–∞–ї –≤ –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М –ґ–Є–Ј–љ–Є».32 –У–Њ–≤–Њ—А—П –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П—Е –Є —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П—Е —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Є –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ —Б–Љ—Г—В–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –С–Њ–≥–µ, –Ї—А–∞–є–љ—О—О –±–µ–і–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ—В–Є–≤–Њ–≤ –≤–µ—А—Л –Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. «–С–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–Њ –Љ–љ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ, — —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї-–±–Њ–≥–Њ–Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї—М. — –Т —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є —П –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г –љ–Њ–≥ –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞. –С–Њ–≥ — —Н—В–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ; —П —В–∞–Ї –µ–≥–Њ –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О».33 –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Н—В–Њ–є —Б–Љ—Г—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є –љ–µ—А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ—Б—В–Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ –≤–µ—А—Л –Є –±–µ–Ј–≤–µ—А–Є—П —Г —З–∞—Б—В–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л–µ –Є –њ—Г—В–∞–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л, –і–Њ—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –і–Њ –∞–±—Б—Г—А–і–∞. «–ѓ –Ї —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–∞, — –њ–Є—Б–∞–ї–∞ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–∞. — –Ь–Њ–≥–ї–∞ –±—Л –±—Л—В—М –љ–µ—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–∞, –љ–Њ <...> –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–Є–≥–і–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –љ–∞–є—В–Є —В–∞–Ї–Є—Е –і–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л –Љ–µ–љ—П —Г–≤–µ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ –С–Њ–≥–∞ –љ–µ—В. –Я–Њ—З—В–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ—В, –љ–Њ <...> –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –µ—Б—В—М. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј –±—Л–ї–∞ –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Я–∞—Б—Е–Є, –≥–Њ–≤–µ–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і –Я–∞—Б—Е–Њ–є. –° —А–µ–ї–Є–≥–Є–µ–є –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П –љ—Г–ґ–љ–Њ, –љ–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Н—В–Њ, –Њ–љ–∞ –Є–Љ–µ–µ—В —Е–Њ—А–Њ—И—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –Ю–љ–∞ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Њ–±–ї–∞–≥–Њ—А–∞–ґ–Є–≤–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –£–є–і–µ—И—М –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ, —Б–µ—А–і–Є—В—Л–Љ, –∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—И—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ — —В–∞–Љ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ—И—М—Б—П –Њ—В –Ј–∞–±–Њ—В, –Њ—В –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В–µ–є».34
–°–∞–Љ–Њ–є —В—А—Г–і–љ–Њ–є –Є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –љ–µ—А–∞–Ј—А–µ—И–Є–Љ–Њ–є –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –≤ –С–Њ–≥–∞ (—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е) –Є –љ–µ–≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е (–љ–µ—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е) –і–µ—В–µ–є –Є –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б –≤–µ—А—Л –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–љ–Њ–Ї –Є —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ, —З—В–Њ –Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г—Г–Љ, —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Ї–∞–Ї –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –±–µ–Ј –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –≤ —Б–µ–±–µ –≤–µ—А—Л –≤ –С–Њ–≥–∞ –Є–ї–Є –µ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ. –Э–µ–Є–Ј–Љ–µ—А–Є–Љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–µ –љ–∞–є—В–Є –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–є –≤–µ—А—Л –≤ —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г—О—Й–µ–є—Б—П –і–µ—В—Б–Ї–Њ–є –і—Г—И–µ. –Ь–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Є–є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –њ–Њ–і–≤–µ—А–ґ–µ–љ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Б—Г–≥–≥–µ—Б—В–Є–Є, —О–љ–Њ—И–∞ — —Б—Г–≥–≥–µ—Б—В–Є–Є —В–Њ–є —Б—А–µ–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–Є–Ј–Љ—Г –Є —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є—И—М –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї—Г —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П –≤ 20-—Е –≥–≥. –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –∞–љ—В–Є—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Е –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞, –њ—А–Є—В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є–Ј –≥–Њ–і–∞ –≤ –≥–Њ–і –Є –≤ –Љ–ї–∞–і—И–Є—Е –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞—Е —Н—В–∞ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —А–Њ—Б–ї–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П, —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–Љ –і—Г—Е–µ, –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л –Є–ї–Є —Е–Њ—В—П –±—Л —А—Г–і–Є–Љ–µ–љ—В—Л –≤–µ—А—Л –≤ –С–Њ–≥–∞ (–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —В—А—Г–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В—М—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —Б–µ–±–µ, –∞ –љ–µ —В–Њ —З—В–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ) –Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–Њ—З–µ—В–∞–ї–Є—Б—М —Б –љ–Њ–≤–Њ–є –≤–µ—А–Њ–є. –Т–Њ—В –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є—П. –Ь–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –Є–Ј –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–љ–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –њ–Њ –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, «—Б 16 –ї–µ—В —Б—В–∞–ї —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В–Њ–Љ» –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ, —В–µ—А–Ј–∞–µ–Љ—Л–є –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Є—Е –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤, «–њ—А–Њ—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –љ–Њ—З–Є –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ—П—Е –Є –Љ–Њ–ї–Є–ї—Б—П –С–Њ–≥—Г, –∞ –і–љ–µ–Љ –Ї–∞–Ї –љ–Є –≤ —З–µ–Љ –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї–Њ, –і–љ–µ–Љ —П –±—Л–ї –∞—В–µ–Є—Б—В <...>. –Э–Њ –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г —П –±—Л–ї —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–µ–љ –Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —В—А—Г–і–љ—Л—Е –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є <...> –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Ї –С–Њ–≥—Г; —П –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –і–∞–ґ–µ —В–µ–Ї—Б—В —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л<...>. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Љ–Њ–µ „—П—Б–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ“ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г —З–µ–њ—Г—Е–Њ–є, –љ–Њ —П –±–Њ—П–ї—Б—П, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є —П –љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–ї—О—Б—М, —В–Њ –Љ–љ–µ –±—Г–і–µ—В –њ–ї–Њ—Е–Њ».35 –Т —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ—Л–µ –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ—Л–µ –Є –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –±–Њ–≥–Њ–±–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –ї—О–і–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Є –≤–µ—А—Г –≤ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –њ—А–µ–і—А–∞—Б—Б—Г–і–Ї–Є –Є —Б—Г–µ–≤–µ—А–Є—П, –≤–њ–Є—В–∞–љ–љ—Л–µ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, —Б –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є, –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞–±–ї—О–і–∞–≤—И–Є–є –ґ–Є–Ј–љ—М —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —О–љ–Њ—И–µ—Б—В–≤–∞, –њ–Є—Б–∞–ї: «–Ґ–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ–∞, –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–Є –і–ї—П –Ї–Њ–≥–Њ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В—М—О. –Э–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї—Г—О –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –Њ—В –≤–µ—А—Л –≤–Њ –≤—Б—П–Ї—Г—О —Б–≤—П—В–Њ—Б—В—М, –Љ–Є—Б—В–Є–Ї—Г –Є —З–µ—А—В–Њ–≤—Й–Є–љ—Г –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М—О <...>. –Ь–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М –њ–Њ–ї–љ–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е —Б—Г–µ–≤–µ—А–Є–є <...>. –Ю–і–љ–Є –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ—З–Є—Б—В–Њ–є —Б–Є–ї—Л, –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞, —З—Г–і–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–≥–Њ–ї—М–Ї–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л–ї–µ—З–Є—В—М –Њ—В –≤—Б—П–Ї–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є <...>. –Ф—А—Г–≥–Є–µ <...> –Є–і—Г—В –Ї –≥–∞–і–∞–ї–Ї–µ –Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—Б–Є–ґ–Є–≤–∞—О—В —З–∞—Б–∞–Љ–Є –љ–∞–і —А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞—А—В–∞–Љ–Є <...>».36
–Ъ–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –њ–Њ–і–і–∞—О—В—Б—П –ї–Є—И—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є –≤–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤–µ—А—Л –Є–ї–Є –±–µ–Ј–≤–µ—А–Є—П. –†–µ–њ—А–µ–Ј–µ–љ—В–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –Њ–њ—А–Њ—Б –≤ 1927 –≥. –±–Њ–ї–µ–µ —В—А–µ—Е —В—Л—Б—П—З —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –і–µ—Б—П—В–Є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –і–∞–ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л. –Э–∞ –њ—А—П–Љ–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –∞–љ–Ї–µ—В—Л: «–Э–∞–і–Њ –ї–Є –≤–µ—А–Є—В—М –≤ –С–Њ–≥–∞?» –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л (51 %) –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є «–љ–µ –љ–∞–і–Њ», 25 % — «–љ–∞–і–Њ» –Є 24 % —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є –Є–ї–Є –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ. –Я–Є–Њ–љ–µ—А—Л –і–∞–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –≤–і–≤–Њ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В–≤–µ—В–Њ–≤ –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ–Є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Є –≤ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ —А–∞–Ј–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є. –° –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В–≤–µ—В–Њ–≤ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М: 10-–ї–µ—В–љ–Є–µ 47 %, 14-–ї–µ—В–љ–Є–µ 52 %, 16-–ї–µ—В–љ–Є–µ 88 %. –Я–Њ—З—В–Є —З–µ—В–≤–µ—А—В—М –њ—А–Њ–Љ–Њ–ї—З–∞–≤—И–Є—Е —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г. –Х—Б–ї–Є —Г –Љ–ї–∞–і—И–Є—Е —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Њ—В–≤–µ—В–∞ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –і–ї—П –љ–Є—Е —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ, —В–Њ —Г —Б—В–∞—А—И–Є—Е — –љ–µ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М. –Х—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –∞–љ–Ї–µ—В — 41,9 % (!), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –љ–µ –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–ї–Є –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б «–І—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –С–Њ–≥?». –Ш–Ј –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е — 17,2 % –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є –≤ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-—Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ –і—Г—Е–µ –Є 40,9 % –і–∞–ї–Є –Њ—В–≤–µ—В—Л, –Њ—В—А–Є—Ж–∞—О—Й–Є–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –С–Њ–≥–∞. –Ш –Ј–і–µ—Б—М –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В–≤–µ—В–Њ–≤ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В—Г –Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е.37
–Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ 1928 –≥. —В–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г—З–∞—Й–Є—Е—Б—П —И–Ї–Њ–ї –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ—З—В–Є 45 % —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –і–µ—В–Є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ, —З—В–Њ 63,5 % —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–∞–Ј–і–љ—Г—О—В –Я–∞—Б—Е—Г –Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—О—В —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, —Е–Њ—В—П —П–≤–љ–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 9,4 %.38 –Ф–≤–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Ж–Є—Д—А—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Њ—З–µ–љ—М —В–Є–њ–Є—З–љ–Њ–µ –Ї–∞–Ї –і–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є, —В–∞–Ї –Є –і–ї—П –≥–Њ—А–Њ–і–∞ 20-—Е –≥–≥. –Ф–µ—В–µ–є –Є –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –љ–µ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е, –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–Њ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–µ, —Б–≤–µ—В–ї–Њ–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ї –Я–∞—Б—Е–∞ –Є –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–Љ –Ї—А—Г–≥—Г –Ј–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ –љ–∞–Ї—А—Л—В—Л–Љ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ, —Г—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є —П—Б—В–≤–∞–Љ–Є. –Я–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ –Є–Ј –Ю—А–µ—Е–Њ–≤–Њ- –Ч—Г–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –≤ 1926 –≥. –≤ –Њ–±—Л—З–љ—Л–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ—П—Е —И–Ї–Њ–ї—Г –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї–Њ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 20 % —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –∞ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ, —Е—А–∞–Љ–Њ–≤—Л–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є –љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞.39 –Т 1927 –≥. –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –±—Л–ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л —Б–ї—Г—З–∞–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –і–µ–љ—М –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ (–њ–Њ —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г —Б—В–Є–ї—О) —Г—З–∞—Й–Є–µ—Б—П —Б—В–∞—А—И–Є—Е –≥—А—Г–њ–њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —И–Ї–Њ–ї —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –љ–µ —П–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П. –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–µ —Г—З–Є—В–µ–ї—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –≤ —Н—В–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є –Њ—В –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л –і–Њ –і–≤—Г—Е —В—А–µ—В–µ–є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В.40 –¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї –і–ї—П –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤ —В–µ–њ–ї–Њ—В—Г –Є —А–∞–і–Њ—Б—В—М —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Њ—З–∞–≥–∞. «–ѓ –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О –Я–∞—Б—Е–Є, –Ї–∞–Ї —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞, –Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і—А–∞—Б—Б—Г–і–Ї–∞–Љ–Є, — –њ–Є—Б–∞–ї –љ–Є–ґ–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–є —Б—В–∞—А—И–µ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Є–Ї. — –Э–Њ —П –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—О—Б—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–≤–Њ–µ–є –≤–Њ–ї–Є —З–Є—Б—В–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–Љ—Г, –≤–µ—Б–µ–ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—О, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г—Б—М –≤ –Ї—А—Г–≥—Г —А–Њ–і–љ—Л—Е –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е. –Ґ–∞–Љ, –≥–і–µ –Є–і–µ—В –∞–љ—В–Є—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–∞—П –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–∞: –Ј–Є–Љ–Њ–є –≤ –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ, –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –≤–Њ—В –≤ –Я–∞—Б—Е—Г, –≥–і–µ –Њ–±—Й–Є–є –≥–∞–Љ, —Б–Љ–µ—Е, —В–µ–∞—В—А, –±–∞–ї–µ—В, — —П —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О –љ–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ш —П –Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О —Г–љ–Њ—Б–Є—В—М—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є –≤ —Б–≤–Њ–є —А–Њ–і–љ–Њ–є –Њ—З–∞–≥ –Є —П –љ–∞—З–Є–љ–∞—О –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ, —А–Њ–і–љ—Л—Е, —А–Њ–і–љ–Њ–є –Ј–≤–Њ–љ, —А–Њ–і–љ–Њ–є –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–Њ—А–Є—В —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞».41 –¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є —Г –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–∞–ї–Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Г—О –≤–µ—А—Г, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ –±—Л—В–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є–Њ–±—Й–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, —Г—Б–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞, –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М—О –≤ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–Љ —Б–Њ–њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–Є —П—А–Ї–Є—Е, —А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ю—З–µ–љ—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–љ —В–∞–Ї–Њ–є —Д–∞–Ї—В: —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —И–Ї–Њ–ї –Ъ–∞–ї—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –ґ–µ–ї–∞—П –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М, —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–љ–Є –ґ–і—Г—В –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ—Л –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є —Г—З–Є—В–µ–ї—П–Љ: «–Ц–і–µ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –Я–∞—Б—Е–Є».42
–Э–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —В–Є–њ–Є—З–љ—Л–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –і—А—Г–≥–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Ь–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М –Њ—В—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Њ—В —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є, —З—В–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–Љ–Є –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Є –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±–Њ–є. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В –±—Л–ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ—А–Є—Б—Г—Й–µ–≥–Њ —О–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П –Ї –њ–µ—А–µ–Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –Ј–∞–≤–µ—В–Њ–≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є–є –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—О –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—Б–µ—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є. –Ю—В—Е–Њ–і –Њ—В —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —А–µ–Ј–Ї–Є–Љ –Є –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–Љ –±—Г–љ—В–Њ–Љ. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Њ—Б—В—А–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ —Н—В–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —Г –љ–∞—В—Г—А —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е, –Њ—В–ї–Є—З–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –±—А–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–Љ. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –њ—А–µ–ґ–і–µ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –≤–µ—А–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –С–Њ–≥–∞ –Є –і–∞–ґ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є —Н–Ї–Ј–∞–ї—М—В–∞—Ж–Є–µ–є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Ї—А—Г—В–Њ –Љ–µ–љ—П–ї–Є —Б—Д–µ—А—Г –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є. –Ґ–∞–Ї, –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Ї–∞-–Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–Ї–∞ –Є–Ј –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ «–≤ —А–∞–љ–љ–µ–Љ –Њ—В—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–µ» –Љ–µ—З—В–∞–ї–∞ «–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ; — –њ–Њ–ґ–Є–≤—Г —В–∞–Љ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ–є–і—Г –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–µ–љ—П –њ—А–Є—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–∞ –Є—Е —З–µ—А–љ–∞—П –Њ–і–µ–ґ–і–∞ <...>. –Я–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–µ —Н—В–Є –Љ–Њ–Є –Љ–µ—З—В—Л –њ—А–Њ—И–ї–Є, — —П –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б—П–Ї–Є—Е –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є–є –Є–Ј —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –≤ –∞–љ—В–Є—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Г—О, –≤—Б–µ —Б—В–∞—А—Л–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –њ–Њ–Ј–∞–і–Є —Б–µ–±—П; –Љ–љ–µ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –±—Л—В—М –і—А—Г–≥–Њ–Љ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Є–і–µ—О –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ј–Љ–∞».43 –Т–Њ—Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ—П—П —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ —А–∞–±—Д–∞–Ї–∞ –њ–Є—Б–∞–ї–∞, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ «–≤ –Њ—В—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–µ –±—Л–ї–∞ —Д–∞–љ—В–∞–Ј–µ—А–Ї–Њ–є, –Љ–µ—З—В–∞–ї–∞ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М. –Т —О–љ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–∞ –Љ–Є—Б—В–Є–Ї–Њ–Љ, –Љ–µ—З—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –љ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О; —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–ї–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –µ—Б—В—М –ї–Є –С–Њ–≥, —Б—В–Њ–Є—В –ї–Є –ґ–Є—В—М. –≠—В–Њ –≤ 1920 –Є 1921 –≥.! –Я–Њ—В–Њ–Љ —Б—А–∞–Ј—Г —Б—В–∞–ї–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, —В–Є–њ–Є—З–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–Ї–Њ–є <...>, —Е–Њ—В–µ–ї–∞ –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П [–≤–Љ–µ—Б—В–µ] —Б –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–∞—В–Њ–Љ –Ј–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ј–Љ».44 –°—В—Г–і–µ–љ—В, –≤—Л—А–Њ—Б—И–Є–є –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ –≤ –Њ—В—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–µ –±—Л–ї «—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ –њ–∞—А–љ–µ–Љ», –љ–Њ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–ї —Б–≤–Њ–Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –Є «–≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї, –≤ —О–љ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї –≤ –Ї—А—Г–ґ–Ї–µ –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Є –і–∞–ґ–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ». –Ф—А—Г–≥–Њ–є –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–µ—Ж-—Б—В—Г–і–µ–љ—В –Є–Ј –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ –њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є–є «–ї–µ—В –≤ —Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–µ–ї —А–µ–ї–Є–≥–Є—О –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, —Б–≤–Њ–µ–є –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Є–ї—М–љ–Њ –≥–Њ—А–і–Є–ї—Б—П –Є —А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П».45 –Ф–ї—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є, –њ–Њ—А–≤–∞–≤—И–µ–є –Ј–∞—В–µ–Љ —Б —А–µ–ї–Є–≥–Є–µ–є, —В–Є–њ–Є—З–љ—Л–Љ –±—Л–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї–∞ –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В—М –Ї –С–Њ–≥—Г —Б —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ —Б–Є–ї–Њ–є, —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є —А–∞–љ—М—И–µ –µ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ—П–ї–∞—Б—М. –Ю–±—Л—З–љ–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–∞ —З–µ—А–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є: —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≥–Њ—А—П—З–Є–є, —Б—В—А–∞—Б—В–љ—Л–є –њ–Њ–Є—Б–Ї –Њ–њ–Њ—А—Л –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є –Є –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є–є, –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–ї –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ –Є —З–∞—Б—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї—Б—П —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і — «–і–Њ–ї–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є—О». –Э–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –ґ–∞–ґ–і–∞ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є, –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ («–њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞—В—М», «–њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М»), — —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є, — –≤—А–∞–ґ–і–∞ –Є –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В—М –Ї —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –Ј–∞ –Њ–±–Љ–∞–љ—Г—В—Л–µ –µ—О (–Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї—Г) —О–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л, –Ј–∞ –љ–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–≤—И—Г—О—Б—П –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г –љ–∞–є—В–Є –≤ –љ–µ–є –Њ–њ–Њ—А—Г –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ «—П» –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤. –Р —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –±—Г–љ—В, –Њ—В—А–Є—Ж–∞–љ–Є–µ —Б—В–∞—А–Њ–є –≤–µ—А—Л –Є –њ–Њ–Є—Б–Ї —Б–µ–±—П –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є –≤–µ—А–µ. –Ѓ–љ–Њ—Б—В—М, –Њ—В–≤–µ—А–≥–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–∞—Б—М –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –ї—О–і–Є, –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–Є–µ –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ, –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ –Ї —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–µ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤—Г –Љ–Є—А–∞, –±—Л—Б—В—А–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –љ–µ–є –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г. –≠—В–Њ — —В–Є–њ–Є—З–љ—Л–є –њ—Г—В—М –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є –Є–Ј –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П –≤ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ј–Љ, –Њ—В —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Ї –µ–µ –Њ—В–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—О, –Њ—В –≤–µ—А—Л –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –Ї –≤–µ—А–µ –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ.
–Х. –Ь. –С–∞–ї–∞—И–Њ–≤
–Ш–Ј —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ «–†–Ю–°–°–Ш–ѓ –Т XX –Т–Х–Ъ–Х», –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї 70-–ї–µ—В–Є—О —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —З–ї–µ–љ–∞-–Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В–∞ –†–Р–Э, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –Т–∞–ї–µ—А–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞ –®–Є—И–Ї–Є–љ–∞. (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 2005)
–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞
1 –†—Л–±–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Э. –Ф–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї –Є –µ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї—Л. –Ю—З–µ—А–Ї–Є –њ–Њ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞. –Ь., 1916. –°. 15. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Є—Е –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Њ—В–≤–µ—В—Л –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –∞–љ–Ї–µ—В—Л: «–Ъ–µ–Љ –±—Л —В—Л —Е–Њ—В–µ–ї —Б—В–∞—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Л—А–∞—Б—В–µ—И—М?». –Ю–Ї–Њ–ї–Њ 6 % –і–µ–≤–Њ—З–µ–Ї –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–ї–Є —Б—В–∞—В—М «–Љ–Њ–љ–∞—И–µ–љ–Ї–∞–Љ–Є» –Є 0,2 % –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤ — «–Љ–Њ–љ–∞—Е–∞–Љ–Є». — –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 111.
2 –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–ї—М—Ж–µ–≤–∞ –Р. –Ш. –Ю–±–Ј–Њ—А —А–∞–±–Њ—В –Њ –і–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Є–і–µ–∞–ї–∞—Е // –Ґ—А—Г–і—Л –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є. –Ь., 1911. –Т—Л–њ. 2. –°. 8—9.
3 –†—Л–±–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Э. 1) –Ш–і–µ–∞–ї—Л –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—Б—В–Њ–Ї. –Ь., 1916. –°. 6; 2) –С–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Є –Є—Е –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ. –Ь., 1920. –°. 38.
4 –°–Є–≤–Ї–Њ–≤ –Ъ. –Ш–і–µ–∞–ї—Л —Г—З–∞—Й–µ–є—Б—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є (–њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –∞–љ–Ї–µ—В—Л) // –Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П. 1909. вДЦ 2; –Р–љ–∞–љ—М–Є–љ –°. –Р. –Ф–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Є–і–µ–∞–ї—Л // –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞. 1911. вДЦ 9. –°. 22—23; –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤ –Ґ. –§. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –њ—А–Њ–±–љ–Њ–є –∞–љ–Ї–µ—В—Л –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤ –і–µ—В–µ–є //
–Ґ—А—Г–і—Л –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є. –Ь., 1911. –Т—Л–њ. 2. –°. 17; –Ъ–Њ–ї–Њ—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Я. –Э. –Ю–њ—Л—В –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П —Г—З–∞—Й–Є—Е—Б—П –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ—Л—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤ // –Ґ—А—Г–і—Л –Ъ—Г–±–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ–і. –Є–љ-—В–∞. –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–і–∞—А, 1929. –Ґ. 2-3. –°. 106.
5 –Я–Њ–Ј–љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Э. –Р–љ–Ї–µ—В–∞ –Њ –і–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Є–і–µ–∞–ї–∞—Е. –°–∞—А–∞—В–Њ–≤, 1924. –°. 13.
6 –•–∞—Б–Ї–Є–љ –У. –Т. –і-—А. –°—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤ –і–≤—Г—Е —И–Ї–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ // –Ш–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –Є —О–љ–Њ—И–µ—Б—В–≤–∞. –°–∞—А–∞—В–Њ–≤, 1927. –°. 74.
7 –°–Љ., –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А: –Я–Њ–Ј–љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Э. –Р–љ–Ї–µ—В–∞ –Њ –і–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Є–і–µ–∞–ї–∞—Е. –Ф–Є–∞–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ 3; –†—Л–±–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Э. –Р. 1) –Ф–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї –Є –µ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї—Л. –°.61; 2) –Ш–і–µ–∞–ї—Л —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ // –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї. –Ь., 1923. –°. 40-41; 3) –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б—Л —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞. –Ь.; –Ы., 1926. –°. 35.
8 –†—Л–±–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Э. –Р. –Ф–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї –Є –µ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї—Л. –°. 87. –°—Г—Е–Њ–µ, –±–µ–Ј–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –Ч–∞–Ї–Њ–љ –С–Њ–ґ–Є–є, –Ї–∞–Ї —Г—З–µ–±–љ—Л–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В, –њ–Њ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В–Є —Б—А–µ–і–Є —Г—З–∞—Й–Є—Е—Б—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е. –Т –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е —И–Ї–Њ–ї–∞—Е –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є, –≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е — –Њ–љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–µ–њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л–Љ –љ–∞—А—П–і—Г —Б —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–Љ —З—В–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –≥—А–∞–Љ–Љ–∞—В–Є–Ї–Њ–є. — –°–Љ.: –Р–љ–∞–љ—М–Є–љ –°. –Р. –Ф–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Є–і–µ–∞–ї—Л. –°. 214-215; –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤ –Ґ. –§. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –њ—А–Њ–±–љ–Њ–є –∞–љ–Ї–µ—В—Л –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤ –і–µ—В–µ–є. –°. 21; –І–µ—Е–Њ–≤ –Э. –Т. –Э–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ –≤ —И–Ї–Њ–ї—Г –Є –Є–Ј —И–Ї–Њ–ї—Л // –Т–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Є –љ—Г–ґ–і—Л —Г—З–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Ь., 1911. –°–±. 10. –°. 26.
9 –†—Л–±–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Э. –Ф–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї –Є –µ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї—Л. –°. 87.
10 –І–µ—Е–Њ–≤ –Э. –Т. –Э–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ –≤ —И–Ї–Њ–ї—Г –Є –Є–Ј —И–Ї–Њ–ї—Л. –°. 21, 24.
11 –Р–Ј–±—Г–Ї–Є–љ –Ф. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є // –Я–µ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї. (–Ю—А–µ–ї). 1923. вДЦ 3. –°. 71.
12 –Р. –У. –†–µ–ї–Є–≥–Є—П, –Љ–Њ—А–∞–ї—М –Є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Г –і–µ—В–µ–є –Є —О–љ–Њ—И–µ—Б—В–≤–∞ (–Є–Ј –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–є) // –Э–∞ –њ—Г—В—П—Е –Ї –љ–Њ–≤–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ. 1923. вДЦ 1. –°. 80-81.
13 –У–ї–∞–і–Ї–Њ–≤ –Р. –°–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї // –Э–∞—И —В—А—Г–і. (–ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—М). 1924. вДЦ 4. –°. 60.
14 –°—В–µ–њ—Г—Е–Є–љ –§. –Ф–µ–і—Л, –Њ—В—Ж—Л –Є –≤–љ—Г–Ї–Є//–Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–є —Г—З–Є—В–µ–ї—М. 1926. вДЦ 1.–°. 60-61.
15 –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –ѓ. –Э–∞—И–∞–і–µ—А–µ–≤–љ—П. –Э–Њ–≤–Њ–µ –≤ —Б—В–∞—А–Њ–Љ –Є —Б—В–∞—А–Њ–µ –≤ –љ–Њ–≤–Њ–Љ. –Ь., 1924. –°. 127.
16 –Ь—Г—А–Є–љ –Т. –Р. –С—Л—В –Є –љ—А–∞–≤—Л –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є. –Ь., 1926. –°. 38.
17 –¶–Є—В. –њ–Њ: –°—В–∞—А—Л–є –Є –љ–Њ–≤—Л–є –±—Л—В. –Ы., 1924. –°. 122.
18 –Ю—З–µ—А–Ї–Є –±—Л—В–∞ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є. –Ь., 1924. –°. 16.
19 –Ъ–∞–Ї –ґ–Є–≤–µ—В –Є —З–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –і–µ—А–µ–≤–љ—П. (–Я–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –љ–∞ –Ѓ–≥–Њ-–Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ). –†–Њ—Б—В–Њ–≤-–љ–∞-–Ф–Њ–љ—Г. –Ь., 1924. –°. 87.
20 –Ю—З–µ—А–Ї–Є –±—Л—В–∞ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є. –°. 15.
21 –У–Њ–ї–Њ—Б–∞ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ: –°–µ–ї—М—Б–Ї–∞—П –†–Њ—Б—Б–Є—П XX –≤–µ–Ї–∞ –≤ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–∞—Е. –Ь., 1996. –°. 66-67.
22 –°—В–µ–њ—Г—Е–Є–љ –§. –Ф–µ–і—Л, –Њ—В—Ж—Л –Є –≤–љ—Г–Ї–Є. –°. 59-60.
23 –¶–Є—В.–њ–Њ: –Ч–∞—А–Њ—Б–ї–Њ–≤ –Р. –Э–∞—И–Є —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –Є –∞–љ—В–Є—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–∞—П –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–∞ // –®–Ї–Њ–ї–∞ –Є –ґ–Є–Ј–љ—М. (–Э.-–Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і). 1924. вДЦ 2. –°. 19.
24 –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –ѓ. –Э–∞—И–∞–і–µ—А–µ–≤–љ—П. –°. 129.
25 –Ю–±—Л–і–µ–љ–љ—Л–є –љ—Н–њ: (–°–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –Є –њ–Є—Б—М–Љ–∞ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ 20-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤) // –Э–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П –†–Њ—Б—Б–Є—П: XX –≤–µ–Ї. –Ь., 1993. –Ъ–љ. III. –°. 284.
26 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 285.
27 –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –ѓ. –Э–∞—И–∞–і–µ—А–µ–≤–љ—П. –°. 130.
28 –†–∞–є—Б–Ї–Є–є –Э. –Р–љ–Ї–µ—В–∞, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–∞—П —Б—А–µ–і–Є —Г—З–∞—Й–Є—Е—Б—П –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ —И–Ї–Њ–ї II —Б—В—Г–њ–µ–љ–Є –≥. –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–і–∞—А–∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1922/23 —Г—З–µ–±. –≥–Њ–і–∞ // –Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ (–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–і–∞—А). 1923. вДЦ 3-4. –°. 60.
29 –°—В–µ–њ—Г—Е–Є–љ –§. –Ф–µ–і—Л, –Њ—В—Ж—Л –Є –≤–љ—Г–Ї–Є. –°. 60.
30 –¶–Є—В. –њ–Њ: –Ч–∞—А–Њ—Б–ї–Њ–≤ –Р. –Э–∞—И–Є —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –Є –∞–љ—В–Є—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–∞—П –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–∞. –°. 18-19.
31 –Ч–∞ —Б—В–Њ –ї–µ—В. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П, —Б—В–∞—В—М–Є, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л. (–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–∞—П –±—Л–≤. 3-—П –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—П, –љ—Л–љ–µ 13-—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П —В—А—Г–і–Њ–≤–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞). –Я–≥., 1923. –°. 187.
32 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 187-188.
33 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 187.
34 –Ю–±—Л–і–µ–љ–љ—Л–є –љ—Н–њ. –°. 286.
35 –¶–Є—В. –њ–Њ: –†—Г–±–Є–љ—И—В–µ–є–љ –Ь. –Ь. –Ѓ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є –∞–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞–њ–Є—Б—П–Љ. –Ь., 1928. –°. 61.
36 –Ь—Г—А–Є–љ –Т. –Р. –С—Л—В –Є –љ—А–∞–≤—Л –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є. –°. 33.
37 –†—Л–±–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Э. –Ъ–∞–Ї —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї // –Ф–µ—В–Є –Є –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П: –Ш–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞. –Ь., 1928. –°. 145.
38 –†–Є–≤–µ—Б –°. –Ь. –†–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В—М –Є –∞–љ—В–Є—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В—М –≤ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і–µ. –Ь., 1930. –°. 68.
39 –Я–µ—А–µ–≥—Г–і–Њ–≤ –Р. –У—Г—Б–ї–Є—Ж–∞ // –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–є —Г—З–Є—В–µ–ї—М. 1926. вДЦ 12. –°. 58.
40 –®—Г–ї—М–≥–Є–љ –Т. –Э. –Ю –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ—А–∞–ї–Є. –Ь., 1928. –°. 16.
41
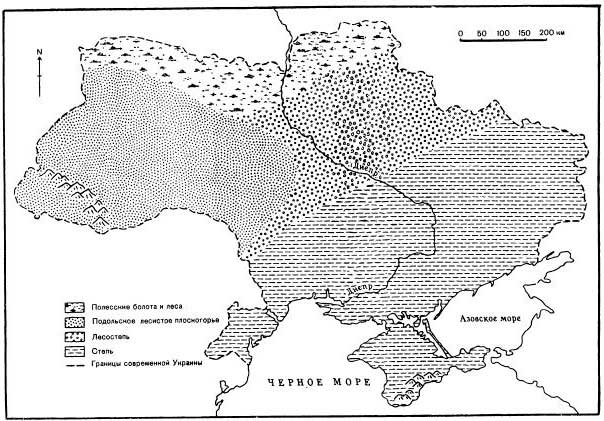 –Я–µ—А–≤—Л–µ —Б–ї–µ–і—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 150 —В—Л—Б. –ї–µ—В —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і. –£ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –њ—А–Є—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞ –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П —Б –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –Є–ї–Є, –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, —Б –С–∞–ї–Ї–∞–љ, –±—Л–ї –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –Љ–Њ–Ј–≥, –љ–Є–Ј–Ї–Є–є –ї–Њ–±, –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–∞—П —З–µ–ї—О—Б—В—М –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Ј—Г–±—Л
–Я–µ—А–≤—Л–µ —Б–ї–µ–і—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 150 —В—Л—Б. –ї–µ—В —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і. –£ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –њ—А–Є—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞ –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П —Б –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –Є–ї–Є, –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, —Б –С–∞–ї–Ї–∞–љ, –±—Л–ї –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –Љ–Њ–Ј–≥, –љ–Є–Ј–Ї–Є–є –ї–Њ–±, –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–∞—П —З–µ–ї—О—Б—В—М –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Ј—Г–±—Л
 «–ѓ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–ї–∞ –≤—Б–µ –≤–µ—А—Б–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є, –Є –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–∞. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤ —Г–±–Є–ї –Ъ–Є—А–Њ–≤–∞, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г—П—Б—М –ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –Љ–Њ—В–Є–≤–∞–Љ–Є». –≠—В–Њ—В –≤—Л–≤–Њ–і —Б–і–µ–ї–∞–љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ –≤ –°–°–°–† –≤ XX –≤. –Р–ї–ї–Њ–є –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–Є–љ–Њ–є. –Ъ—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –Ъ–Є—А–Њ–≤ –Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ —П—А–Њ—Б—В–љ—Л—Е —Б–њ–Њ—А–Њ–≤?
«–ѓ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–ї–∞ –≤—Б–µ –≤–µ—А—Б–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є, –Є –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–∞. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤ —Г–±–Є–ї –Ъ–Є—А–Њ–≤–∞, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г—П—Б—М –ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –Љ–Њ—В–Є–≤–∞–Љ–Є». –≠—В–Њ—В –≤—Л–≤–Њ–і —Б–і–µ–ї–∞–љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ –≤ –°–°–°–† –≤ XX –≤. –Р–ї–ї–Њ–є –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–Є–љ–Њ–є. –Ъ—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –Ъ–Є—А–Њ–≤ –Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ —П—А–Њ—Б—В–љ—Л—Е —Б–њ–Њ—А–Њ–≤?
–Я–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є—П —В–∞—В–∞—А–Њ-–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤ —О–ґ–љ–∞—П –Є —Б–µ–≤–µ—А–љ–∞—П —З–∞—Б—В–Є –†—Г—Б–Є –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –Њ—В–і–∞–ї—П–ї–Є—Б—М –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞. –У—А—Г—И–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Є—И–µ—В, —З—В–Њ –Ї–љ—П–Ј—М –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–є —П—А–ї—Л–Ї –љ–∞ –Ъ–Є–µ–≤ –≤ 1243-1246 –≥–Њ–і–∞—Е, «–±—Л–ї –Ј–∞–љ—П—В –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Б—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–µ–ї–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –µ–Љ—Г —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –і–Њ –Ъ–Є–µ–≤–∞ –±—Л–ї–Њ, –Є –Ъ–Є–µ–≤ –ґ–Є–ї –њ–Њ–і –љ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О, –∞ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Њ–≤ –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б—В–∞–≤–∞–ї –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –њ–Њ–і –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–µ—А—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ–Љ —В–∞—В–∞—А»
–С—Л–ї–Њ –±—Л –љ–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ —Б 1223 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і—А—Г–ґ–Є–љ—Л —О–ґ–љ–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є –±—Л–ї–Є –љ–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤—Г —А–∞–Ј–±–Є—В—Л –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ-—В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ—В—А—П–і–∞–Љ–Є –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –Ъ–∞–ї–Ї–µ, –†—Г—Б—М –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≤–µ–і–∞–ї–∞ –Њ –≥—А–Њ–Ј–љ–Њ–Љ –≤—А–∞–≥–µ. –°—Г–і—П –њ–Њ —Б–Ї—Г–і–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П—Е, –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ –†—Г—Б–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –≤–µ—А–Є—В—М –≤ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Є–љ–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є —В–∞—В–∞—А—Л –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г–і–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В –≥—А–∞–љ–Є—Ж —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤. –Э–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Є –Є, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, –љ–µ —А–∞—Б—В–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М, –∞ –≤—Л–љ–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ—Л–є –њ–ї–∞–љ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є—П –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л
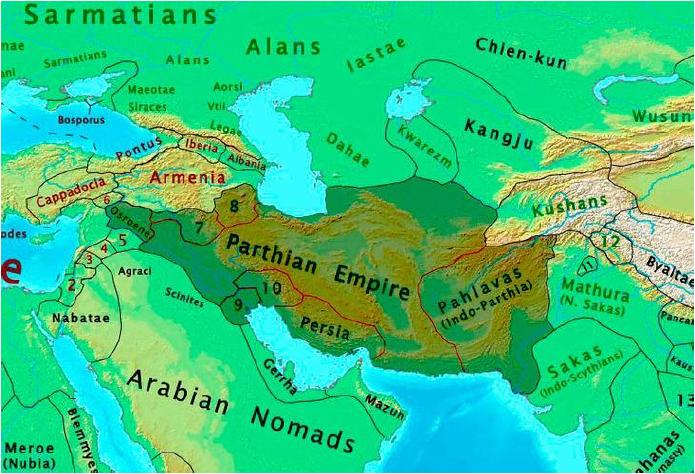
–Ь–Є—В—А–Є–і–∞—В–Њ–≤—Л –≤–Њ–є–љ—Л –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є –†–Є–Љ—Г –≤–Њ—А–Њ—В–∞ –С–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –Є –≤–≤–µ—А–≥–ї–Є –µ–≥–Њ –≤ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Є–≥—А—Г. –Я—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –†–Є–Љ–∞ –љ–∞ –С–ї–Є–ґ–љ–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ —Г–≥—А–Њ–Ј—Г –Є–Љ–њ–µ—А—Б–Ї–Є–Љ –∞–Љ–±–Є—Ж–Є—П–Љ –Я–∞—А—Д—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ш—А–∞–љ–∞ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ –Є –≤–µ–ї–Њ –Ї —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—О –і–≤—Г—Е –Љ–Њ—Й–љ—Л—Е –і–µ—А–ґ–∞–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—Л–ї–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –Є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–Є–Љ—Б–Ї–Њ- –њ–∞—А—Д—П–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б—В–∞–ї–Њ —Б—В–µ—А–ґ–љ–µ–Љ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –†–Є–Љ–∞. –С–Њ—А—М–±–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –†–Є–Љ–Њ–Љ –Є –Я–∞—А—Д–Є–µ–є –Ј–∞ –≥–µ–≥–µ–Љ–Њ–љ–Є—О –≤ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ–њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є–љ—В—А–Є–≥–Є –Є —Б–µ—А–Є—О –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–≤ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 53 –≥. –і–Њ –љ.—Н. –њ–Њ 226 –≥. –љ.—Н.
–Ъ–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –І–µ—Е–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞–Ї–Є–Є, –љ–∞ —З–∞–≤—И–µ–µ—Б—П —Б –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1989 –≥–Њ–і–∞, –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Љ–љ–Њ–≥–Њ–њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—О –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М —В–∞–Ї–Є—Е –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Ї–∞–Ї —Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Є —В.–і. –Т —З–Є—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е —И–∞–≥–Њ–≤ "–±–∞—А—Е–∞—В–љ–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є" –±—Л–ї–Є —А–µ—Д–Њ—А–Љ–∞ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞—З–∞–ї–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ —А–∞–Ј–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –ї–Є–±–µ—А–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Ж–µ–љ, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л—Е –≤—Л–±–Њ—А–Њ–≤.
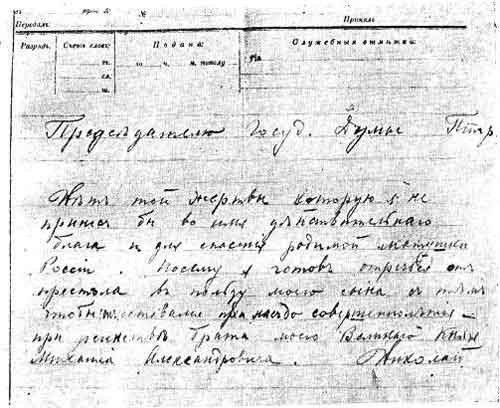 –Т 14 —З–∞—Б–Њ–≤ 47 –Љ–Є–љ—Г—В 2 –Љ–∞—А—В–∞ 1917 –≥–Њ–і–∞ –Њ—В –њ–µ—А—А–Њ–љ–∞ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П —Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–µ–Ј–і –љ–∞ –Я—Б–Ї–Њ–≤. –Ъ –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј—Г –±—Л–ї –њ—А–Є—Ж–µ–њ–ї–µ–љ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–і–Є–љ –≤–∞–≥–Њ–љ-—Б–∞–ї–Њ–љ. –Т –љ–µ–Љ –µ—Е–∞–ї–Є –і–≤–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞: –Р.–Ш. –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –Т.–Т. –®—Г–ї—М–≥–Є–љ. –У—Г—З–Ї–Њ–≤, –±—Л–≤—И–Є–є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л, –±—Л–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –Ї–∞–Ї –ї–Є—З–љ—Л–є –≤—А–∞–≥ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II –Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є. –®—Г–ї—М–≥–Є–љ —Б–ї—Л–ї —П—А—Л–Љ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–Њ–Љ, –љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ «—Б–ї—Л–ї», –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ, –Ї–µ–Љ –±—Л–ї —Н—В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ —В–Њ—В –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–є –і–µ–љ—М, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ. –°–≤–Њ–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–Є –Њ–љ –Љ–µ–љ—П–ї –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞. –°–Њ–±—Л—В–Є—П –ґ–µ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б —В–∞–Ї–Њ–є –±—Л—Б—В—А–Њ—В–Њ–є, —З—В–Њ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М –љ–µ –њ–Њ –і–љ—П–Љ, –∞ –њ–Њ —З–∞—Б–∞–Љ
–Т 14 —З–∞—Б–Њ–≤ 47 –Љ–Є–љ—Г—В 2 –Љ–∞—А—В–∞ 1917 –≥–Њ–і–∞ –Њ—В –њ–µ—А—А–Њ–љ–∞ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П —Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–µ–Ј–і –љ–∞ –Я—Б–Ї–Њ–≤. –Ъ –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј—Г –±—Л–ї –њ—А–Є—Ж–µ–њ–ї–µ–љ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–і–Є–љ –≤–∞–≥–Њ–љ-—Б–∞–ї–Њ–љ. –Т –љ–µ–Љ –µ—Е–∞–ї–Є –і–≤–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞: –Р.–Ш. –У—Г—З–Ї–Њ–≤ –Є –Т.–Т. –®—Г–ї—М–≥–Є–љ. –У—Г—З–Ї–Њ–≤, –±—Л–≤—И–Є–є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л, –±—Л–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –Ї–∞–Ї –ї–Є—З–љ—Л–є –≤—А–∞–≥ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II –Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є. –®—Г–ї—М–≥–Є–љ —Б–ї—Л–ї —П—А—Л–Љ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–Њ–Љ, –љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ «—Б–ї—Л–ї», –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ, –Ї–µ–Љ –±—Л–ї —Н—В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ —В–Њ—В –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–є –і–µ–љ—М, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ. –°–≤–Њ–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–Є –Њ–љ –Љ–µ–љ—П–ї –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞. –°–Њ–±—Л—В–Є—П –ґ–µ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б —В–∞–Ї–Њ–є –±—Л—Б—В—А–Њ—В–Њ–є, —З—В–Њ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М –љ–µ –њ–Њ –і–љ—П–Љ, –∞ –њ–Њ —З–∞—Б–∞–Љ